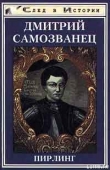Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– И нескольких заводил этой бодяги – ко мне на расправу! – радуясь, дополнил Дмитрий гетманов план.
Но Дворжецкий здесь упёрся. Он был добрым командиром – не хотел класть подчинённых в пасть ничьей власти, кроме своей.
– Да они меня и не послушают, – здраво предположил он, – под палки не пойдут... Что настаивает светлый кесарь? Честью, славою оружия клянусь – подобное не повторится!
Дмитрий подумал. Согласись Дворжецкий потакать съезжей избе, пожалуй, и не такую бузу жолнеры подымут, выкинут полковника из гетманов. Добро ещё, если какому-нибудь прапорщику сунут булаву.
– От слова отступиться уже не могу, – Дмитрий потёр горячий глаз холодным пальцем. – Слышал ведь, через этих сказал всей Москве, что присторожу «босорожих»... Но поскольку провинность котковичей не велика, одно обещаю... – Царь метко зыркнул по сторонам, на пасущихся по заборолу вельмож, кто стоит ближе, кто дальше? Снизил голос, но – твёрдо: – Родным отцом Иоанном Четвёртым клянусь, так и ребятам передай, ни правежей, ни дыб не будет. Усидят, чаю, дня три в башне? И потихоньку отпущу. Войдут под барабанный гром, а выйдут...
Дворжецкий кивнул веками.
На прощание царь велел ещё сообщить ротам, что по доброй памяти их балует, но с этого дня поведёт счёт и сволочным их делам.
При слове «счёт» Дворжецкий спохватился, что ни разу за аудиенцию не спрашивал царя, начислено ли войску жалованье, но удержался от вопроса, в ответ балуя Дмитрия, на которого и без того свалился безрассудный день.
Становилось ветрено. Большие тени облаков, заволакивая, влекли и оживляли обозримый с этой стены Кремль. Длинные тени будто собирали и растягивали гаснущую чешую Кремля – со всеми его закутками, папертями, косящатыми оконцами, червовыми и шахматными кровлями, угловыми шишаками и принаряженными настороженными человечками в зубчатых переходах.
Одна луковка звонницы Ивана Лествичника то и дело выныривала из тени, вновь и вновь окуналась в солнце тихим своим золотом.
Отпустив Дворжецкого, царь опёрся на ребро бойницы, долго в просвете угадывал дальние белогородские улицы, прыгающие неряшливым пунктиром белых, новеньких заборов и в них темневших старых. Мелким биением точки голова конника шла над пряслами. На открытых частично площадках, под надломом восьми чёрно-белых линеек прохаживался пеший человек.
Черно-белую, чуть желтоватую картинку мало изменяли тени подвигающихся облаков, и глаз царя отдыхал. Как из гощинского класса, где царствует себе несмутимо Евклид, не хотелось теперь уходить с этой прочной стены.
Уж там к обедне стягиваются Большие думцы, а которые ещё ждут наудачу царя под крылами дворца. Сейчас опять облепят, только слушай. Из омута всех дел потянут частой сетью, дружно, рыбицу боярской выгоды, а сетью-то тою натянуты сплошь белы нервы царя...
Спускаясь с заборола, Дмитрий подозвал Василия Голицына, первую голову по уголовным делам, конечно, первую после басмановской:
– Слыхал, что ль, мой торг с гетманом?
– Так ведь ты, государь, к разговору не звал... Да и не гнал, – отвечал, пожав плечами, с витийственной прозрачностью Голицын. – Так, половинкой уха слышал кое-что.
– Не досадуй, тут расслушивать особо было нечего, – отстегнул бирюзовую запонку под горлом Дмитрий – в долине Кремля показалось теплее. – Сейчас не поймёшь уж толком, кто там невиноват. Все обещанки, слова. Так вот, велю... не повредит...
– Ну чего там, понятно – три дня, – толково поддержал Голицын.
– Да. И чтобы волоска ни с одной плешинки польской не упало, – кивнул государь. – Но не повредит... – прибавил ещё тише, – чтобы сии три помнились им до скончания всех дней.
Голицын, на мгновение убрав дыхание, рот притворил, рознял глаза – совместил в уме несовместимое. И сразу улыбнулся, расцветая:
– Сделаем!
ЦАРЬ НА СЛУЖБЕ
Чтобы отойти от мыслей о бедовой стране и благочестивой любимой, присвоенных сдуру, Отрепьев ставил пред собой цесарские регалии[4]4
Здесь: знаки царской власти – держава и скипетр.
[Закрыть] и долго, сурово глядел на них.
Так выжидал, когда его скорбь о себе торжественно уступит место прежней гордости, но изнурённая торжествами гордость отлёживалась далеко где-то – на теневом обороте души. Даже видимые великодержавные предметы, должные ту гордость выманить и увенчать собой, делались скоро сами добычей всеядной его жалости.
Так, царь, ещё помнивший азы астрономии, вдруг увидел, что священный колобок державы – это круглая, приплюснутая вечными алмазами на полюсах Земля, в которую вбит крест распятия, как в общую скудельницу всех, на Земле крутившихся и согрешивших. Царь представил, как на этом ярком глобусе пророчествуют люди, как, готовясь по Апокалипсису к повторному пришествию, повытаскали они досконально из земного чрева драгоценное – сплошь сверху украсили горящими каменьями планету. А поелику спросить с земли нечего больше, то и подошёл конец времён и светов, закатал всех в землю и воздвиг на пышном склепе – для острастки и отличия среди планет – памятный крест.
Над скипетром Отрепьев тужил ещё дольше, так как не смог определить, на что в жизни скипетр похож. Возможно, до того, как эту штуку облепить сапфирами и чёрными малариузами, она ещё могла быть как-нибудь понятным образом применена. Чуток подпиленная или подструганная, наверняка палка сделалась бы доброй, неотъемлемою частью... да мало ли чего. Но нет, стал скипетр – мертворождённый членик великана-царства.
Отрепьев ещё при венчании (как раз внесли в Архангельский собор скипетр с державой) уже не знал: что тут не так! Два лета назад, из-за спин иноков, с сердечным замиранием взирал на резанный по белу камню узор великокняжих и царских гробниц, уставленных вокруг квадратного столба в два ряда. На столбе маслом выписаны действующие – так или иначе благоверно – покойные князья. Казалось, здесь, на озарённой малыми вселенными паникадил площадке, отвердели воедино премудрости и прихоти московских веков, и если собраться так – окаменеть волею сердца до несокрушимости сих саркофагов, – вступишь с подвигами и с веками в хладнокровное родство.
Со времени весёлого дьяконства Григорий не ступал в храм Воина-Архангела. За без малого три года, в злых скитаниях и подловатых подвигах, он изросся из себя и, нате вот, без малого восторга встал на пятачке, плотно забитом аспидною плитой и родной историей. Дивная слава, точно панцирь не по росту, жала и подушивала, тяжёлая, а вместо прежних сыновьих чувств к демону московского величия у Григория в скважинах «панциря» образовалась блудная пустая чужеродность. Вместо завидной вечности гробниц он через прорехи нарезных глыб чуял бренность...
Сколько ревностных усилий, хул и похвал, погоней и сидений!.. – чтобы преумножились и защитились тут варяжьи кости. Сколько повсюду (и вдаль, и вспять) выдернутых рук, обломанных хребтов, расколотых копыт, отдельных пальцев, мертво впившихся где в глину, где в песок, – и так, перемешавшись с любимой землёй вплоть до Москвы, кропотливой собирательнице чернозёмов русских и нерусских. Отрепьев не понимал: вот же, веками смолкала борьба, ковались и оттачивались плуги и мечи, плелись кольчуги... Князёк к царьку, наиб к боярину, к ярыжке тайша, баскак к дьяку... – слагалось государство. Катаясь то от устрашающих татар, то за устрашёнными татарами, рос и креп ком... а вот как хорошо из него опять сыплется. Второй безродный царь дрожит на троне, воеводы мыслят, стольники спиваются, дворяне без суда секутся, перетягивая землепашцев. Только всё одно касатиков-кабальных никому не хватит – пахари уже кончаются.
И который из них, отповелевавших и лёгших под ясные плиты, во всём виноват? Кто и в чём грубо ошибся? Или ошибся каждый, а потом, опершись на его подвох, только до поры держалось на нём всё, что тоже неправильно?
Отрепьев ехал на подводах и пешком шёл русской стороной, народному раздору и плюющемуся в Годунова недовольству только радовался. Ночами с трудом засыпал от щемления сердца: как бы кто его в хитрющей и простой затее самозванства не опередил. Идя обратно с развесёлым войском, лоб давил вперёд одним: как отодрать всех от престола и ухнуться в волшебное сиденье самому? Что после Бог даст – меньше думал, дальше – меньше: только бы не сглазить, не спугнуть удачу, не потратить восходящую звезду. Опыт конюшего, удалого ездока, подсказывал: важно попасть в седло, а там, поймав бразды да при своей сноровке, с битюгом владимирским не сладить?
Однако после Бориса Годунова конь «царевичу» достался злой – запальный, с нечищеным, сбитым в гармошку копытом и вздорным характером.
Все «дурноезжие» пороки царства после падения Бориса не разбились вместе с ним, а лишь разобиженнее сказали о себе.
Страстно, устно, харатейно – жутким снегом посредине лета – повалили свитки, белые, голубоватые клочки. Моления, изветы, жалобы боярские, стрелецкие, холопьи... – в них же путаница, словопря, бельмес, брёх, но и нужда, магарычи, мздоимство, пьянство, волшебство, бега, погони, поиски... Вкривь и впрямь писанные, словно брызжущими красочно слюнями, челобитные... У царя Отрепьева съезжались глаза; теряясь, рассыпались мысли. Порой на него находило, усаживало вдруг оцепенение. Встряхнувшись, выпивал косушку рейнского и снова зависал.
Что-то надо было делать с этой страной. Или собираться следом за Борисом. Или что-то уже начинать надо... Только – ощупью, по краю? Или уж взмахом – изнутри?
По тихим коридорчикам чертожным, к чьей науке прибежать? У просветившихся ли ляхов, глухих к всемалиновым звонам, испросить совета? У великоопытной Думы бояр, что себе на уме? У воина и душегуба Петрушки Басманова? У Андрюхи Корелы, пьянущего? У сторожевых псов Богданова, Шерефединова, князя Мосальского, до исступления преданных, вот и услуживших тупо?.. А если спрашивать у всех – так это радовать воров, показывая им дорожку к царской слабости.
Распорядился к себе, из забвения и срама, поднять – с первого и до последнего – указы Годунова. Запершись один в часовенке, теплея от угрозы неизвестного стыда, стал читать все подряд.
Увидал, что Русь, когда обратно забрала у шведа свои старые погосты между Нарвой и Невой, то обелила (милостью Бориса Фёдоровича) умученный войной тамошний люд от податей на десять лет. Доселе мера эта хорошо мешает северной крамоле: удерживает люд опорных городков от воровского сбыта скандинавам – по кирпичику, по ядрышку, по ключику от крепостных ворот – отбитых крепостей. Ещё принята эта льгота во избежание бегства поселенцев-русаков с чахлого ветреного побережья.
На другой же день Дмитрий издал указ: освобождались от налогов на десятилетие Путивль, Чернигов, Рыльск, волость камаричей, повет кромчан и ещё пара безвестных уделов, пылко приветствовавших цесаревича и погоревших от его делов.
С плеч одно дело долой: теперь юг постоит на замке, новый воитель едва ли пройдёт следом Дмитрия.
Освободив бархатным рукавом от пыли договор Бориса с англицким купечеством, царь тотчас пригласил к себе старшин лондонского кумпанства на Москве, давно нешуточно обеспокоенных всем: дружески потискал их и строго подтвердил (уже от лика настоящего указодателя Руси) царёвы обязательства и привилеи[5]5
Привилегии.
[Закрыть].
Но от иных расправляемых свитков новый царь отшатывался, как от роковых, плоско раздувшихся в воротниках змей. Из них так и смотрела Борисова смерть, искала, кого бы ещё повалить на престоле, погладить чернильными зубками. Царь, шипя котом, отбрасывал указы прочь: ядовитые воротники тоже с резким шипением сами сворачивались, сами отлетали.
Листая свитки Годунова, Отрепьев хотел лишь схватить навык державства, проведать литейную форму «кремлёвских умельцев», хоть хитрую форму ту, конечно, надо заливать и портить новым дымным литьём.
Отыскать сам состав сего сплава было труднее. Во власти Отрепьева всех занарядить на поиски благословенной затеи. Но шевельни арапником, великие чины вперегонки как бросятся! – потопчут лучшие умы.
Царь тихим шёпотом перебирал всё и вся и где-то в гулкой глубине души кидался в стену головой: кажется, вот-вот, уже сам живой смысл кипятком обдаёт голову, а ничуть не проникает в её форму.
Главную вину за головное своё нестроение государь тоже справедливо возлагал на своего предшественника – ведь Борисова плоть и кровь оставила ему ещё и строптивицу царевну. Это Ксения стреножила Григория кандально, заставляя семенить, оскальзываться по горе своей гордыни, ни выше уже не пускала, ни назад, ни вбок... Страсть, бьющаяся безответно, сама создаёт себе рабскую лунку и ходит в ней коротко и малосмысленно, когда мысль любит пространства, свободу и смелость покоя. Крылья счастливой любви, настигающие и отбрасывающие своими тенями горизонты, может быть, Ксения одна могла придать Отрепьеву, как надо покорившись. Но, слепо озабоченный, Отрепьев не умел летать, и в первые дни его власти это спасло его. Задумай он изрядный перелёт, не разобрав толком все поднебесные камни, ветра и туманы, начало его славных дел, конечно, обернулось бы концом. Ошибки окрылённых, пусть торжественно-весёлые, для земли вредней худших дел ползающих в полутьме по ней. Не поберёгшийся Икар, столь восхитивший потомков, во время своего падения бросил мимолётом тень на мастера Дедала, а упав, надолго отбил Древней Греции охоту связываться с высотой.
Но, получив тут от ворот поворот, Отрепьев поневоле усомнился и в иных своих густых могуществах.
Опаской в строках своих первых указов Дмитрий даже перещеголял Бориса Фёдоровича – покойного наставника и супостата. Когда помещики пришли к царю с вопросом: «Как будет теперь с Юрьем зимним? Возродит ли его царь по старине, что попытал однажды Годунов, или по новому обычаю «заповедных» лет считать крестьянские дворы священным заповедником иноков, вотчинников и служивых?» – Отрепьев стал вперёд допытываться, что и кому нравится.
– Чутьём чаем, – чуть-чуть поделились раздумьем князья побогаче, – без воли раз в год вовсе деревня окурвится. Али спиется...
– Плескани ей небесную манку, – вскричали бедняки помещики, – вольготу ливани дождём – вся ручьём под горку улизнёт!
Только где-то через седмицу, пугливо и блаженно начиная забывать, чего наслушался, Отрепьев наговорил дьяку указ. Поиск земледельцев, бросивших хозяев в лета голода и смут, приостанавливается. Со дня сего указа беглых ворочать домой по заповедной старине, а Юрьев день тут ни при чём, пользовать день всё одно пока некому: надёжных оратаев[6]6
Земледелец, пахарь.
[Закрыть] на Руси не стало, а беспутная голь, что норовит под Юрия-Победоносца дать стрекача, арендовое-«зажилое» в жизни не уплатит.
Государево решение пришлось как раз посередине между жадностью жирновельможных и нуждой худых. Те и се были несколько разочарованы, однако первые покамест успокоены на том, что всеми правдами и кривдами таимые на их угодьях чьи-то крепостные теперь законно к ним прикреплены, а вторым было дано в утешение, что ещё не успевших утечь от них пахарей можно присторожить от побега царём.
Гетман Дворжецкий представил царю свой прожект «Обустроение драк на Москве».
«В избегновение неразберихи уличных побоищ, – говорил прожект, – повздорившие все должны являться на посольский двор. Где самим паном Ст. Дворжецким или, в отсутствие такого пана, караульным офицером будет выдано им равновесное вооружение и на гладкой площади, в присутствии секунд-приятелей, обиженные раздерутся по уставу поединка».
Как бы в награду рвения Дворжецкому преподнесён был царём русский старинный Судебник из библиотеки «брата, Фёдора Ивановича», в золотом муравном переплёте. При этом Дмитрием полковнику указана была и с толком читана страница «относительно губительных обид или клевет меж православных человек».
Судебник предписывал дело вести так: «... а буде кто тебя ляпнет хоть словом, тащи его к нам и присуждай сам – расчесать ли хама батогами, ально кунчуком, ально переведёшь бесчестье на своё честное имя годовым доходом хама же...»
Царь полковнику по прочтении сказал, что и ему, просвещённому кесарю, потасовки, по обычаю Европы, в общем-то любезней варварского правосудия Руси, но здешние истцы сроднились с выгодой своих судов и едва ли променяют серебро с тяжб на свинец каких-то там пистолей или булат шпаг. Рядом же оба обычая не уживутся, тот же Судебник глаголет: ежели, не дождав суда, обиженный обидчику ответит хоть одним уколом или кулаком (а что же ещё есть дуэль?), суд тут же накажет в казённую пользу обоих – не смей сам свой гнев тешить, не замай хлеб у суда. Стоит ли и глаголать, что таковые дела судьи вершат особенно проворно и сурово, то есть пустят дуэлянтов по миру вне очереди. Ведь лишать казну сего прибытка расточительно.
А уж уложить врага – Всевышний сохрани! В делах по убиениям суду всё одно – благородно ли, в честном бою у царя отнят нелишний холопский живот, как то подло ли: хрен редьки не слаще – головничество[7]7
Уголовное преступление.
[Закрыть]. Сверх своей свободы душегуб заплатит казне всем добром. Впрочем, частичка этого добра согреет сирот убиенного.
Отведя панский прожект, Дмитрий шутливо заметил, что обождёт с вызовом народа на дуэль – авось народ от печки понемногу выпляшет к лучшей судьбе.
– Когда у самого последнего дворянского дитяти на Руси заместо чёрного загнетка встанет печь с цветной поливою, пахнёт по-белому, – объяснил Дворжецкому царь пустоговорку о печке, – ну, когда хоть благородное наше сословие забудет про бесчестье нужды, вот, думаю, не раньше станут они отличать от пользы ябедников честь человеков... Не грусти, Дворжецкий, и в моём дворянстве заискрятся и примутся дуэли. Дай станцевать от печки, не гони, старик. Видишь, у татар мы триста лет учились малахаи шить да аргамаков седлать... Не понравилось только неволье татарское – полоны, ясаки[8]8
Ханские налоги.
[Закрыть]... И перенявши добро, погань выбили вон. Вот и поляку не надо давить на меньшого братишку. Иванушка возьмёт сам, что ему гоже... Или негоже, но захочется.
Дворжецкий, вынужденно соглашаясь с русской логикой, вздохнул, но завернул усы под другим углом и повёл разговор в новую сторону. Ежели кто-то, принимаясь с жаром царствовать, берётся обеспечить белыми печами рыцарей, ему естественно начать с пожалования людей, что доблестно калечились по всем кругам военного театра и приземлили-таки на высочайший престол кое-кого...
Держа такую речь, Дворжецкий ясно чувствовал за своей спиной три тысячи недоумевающих ртов, и в ровном гуле гетманова баса, всегда важно падающем и возвышаемом, брякала какая-то разлаженная связка.
Отрепьев, слушая, стянул кисой[9]9
Киса – кожаный затягивающийся мешок.
[Закрыть] уста от небольшого неуюта внутри. В сундуки Кремля безудержным волшебным током шли судебные, мытные пошлины, пени, дорожный сбор с всякого воза, монопольный прибыток с хмельного, соляного промыслов, смольчужен, таможен... Высосанная трёхлетним голодом и проглоченная битвами царей казна помалу оправлялась, но для ублажения гусарских векселей, подписанных ещё беспечной смолоду и сглупу дланью «принца», денег со всея Руси пока не набралось. Притом же подклети Кремля раздувала пушнина, ледники громила снедь, овины точили зерно, а подземелья соборов и монастырей томили в первозданном мраке без малейшего мерцания каменья, драгоценную одежду, пиршественное – но по которому и не скользила губа человека – золото и серебро.
Как вдруг обратить сию непроворотную мамону в дробные, удобные рубли и нобили[10]10
Золотые европейские монеты.
[Закрыть], Отрепьев только смутно понимал, а тот, кто точно этим ведал, теперь, чуть тепля в своих жилах кровь последних Годуновичей, пропадал уже в хвойной великой дали. Оставались в приказе Большой казны ещё двое – дьяки Сафьянов и Вздохов, но про них в детских страшилках Отрепьев слыхал, что гусиные перья у дьяков сами за ухом растут и пальцы слиты в загребущий крюк. Так что теперь, царём Дмитрием, он никак не рисковал прибегнуть к их сноровке в хитром деле доброоборота. Басманов должен был сперва проверить, пораскинуть кем-нибудь на дыбе, каковы дьяки в своей тайной душевной статье...
По убытии полковника Дворжецкого царь с расправным сенатом порешили: раздадим до лучших, денежных, времён войску хотя бы третью толику царёва долга (пусть толика эта сравнима с полным жалованьем боярина из Думы). Недоимок возместим отчасти жемчугом и мехом, а кроме сего, гусарам и коням их поголовно из хороших закромов положим корму выше головы, успокоив их, что разносолы суть дарма радушия, а не в зачёт долга.
Несмотря на столь широкую треть шага с небольшим навстречу рыцарскому счастью, никто заранее не мог утверждать, что треть не взметёт вместо прозрачного плеска восторга тёмный вал негодования в полках. Отрепьеву памятна была осада Новгород-Северского, когда он из-за гнусного безденежья чуть в степи не остался в чём мать родила: без малейшего прикрытия войском.
Однако в Москве распределение благ по полякам прошло на удивление слаженно и даже пристойно. Гусары одни, видимо для виду, глухо и невразумительно поворчали – в первый раз августейший наниматель расплачивался с ними таким образом. Рыцари сразу, так же как новое московское властительство, не могли сообразить, что выгодней – размах натуры или деньги, и пока молчаливо сверяли навар и наклад. Да и после июльских дел особой охоты скандалить у шляхтичей не было: с тёртыми да бойкими насельниками златоглавой переведаться – не жмеринским подпаскам уши драть. Ротные заводилы сами теперь – чуть дымок – студили пыл товарищей. Самые негодяи прошлой кутерьмы – Коткович, Липский и Войташек – после трёх, условленных с царём, дней заточения воротились из башни в казармы, как и обещано, неповреждённые, но помраченно-чужие, немые и серые, и сразу легли спать.
Василий Голицын не без блеска выполнил царёв наказ – не обронил и пылинки с платья ляхов. Хитроумный князь велел разобрать один пролёт в Тайницкой башне, оставил только узенькие лавки, вырубленные вдоль стен. На них и усадил отбывать срок забияк. Далёкое дно башни было загодя обставлено сплошь бычьими продолговатыми пузырями и полито глиняной жижей с опилками – возможное падение какого-нибудь пленника было бы приятно смягчено. Но с высоты их мест пачканые пузыри казались остьями шероховатых кольев, и поляки всаживали ногти затекающих горстей в рассыхающиеся тесины своего сиденья, влеклись затылками и спинами по стенам. Трое суток отсидели, боясь задремать и скользнуть в гибельную глубину, попеременно забавляя и будя друг друга байками, безбожными античными куплетами да славянской бранью, круто завихряющейся в башне, готовой ворохом щепы вобрать в себя всю городьбу Москвы! В общем, паны продержались молодцами, но, освобождаясь, судорожно морщились, с трудом ворочали свинчатками зениц, потрескивали неизвестными себе до этих пор суставами... Погорбясь, похромали. И молчаливо согласились меж собой: не посвящать раньше времени своих, ещё не отсидевших, безмятежно-гоготливых земляков в обычаи нечеловеческих здешних мучительств.
Герои – осушившие, сквозь сон уже, по ковшу мёда из рук однополчан – единодушно выпали из яви: провалились в безграничность молодого сена прямо у яслей, запнувшиеся друг за друга при горизонтальной коновязи. Наконец по-настоящему освобождённые сном, герои уже не видали, как приехавший за ними следом гетман Дворжецкий – тоже слова не сронив – прыгнул с коня; быстро перечислив ножнами все столбики крыльца, забежал в жолнерку (по-татарски – в караулку, по-русски – в молодечную) и там, выхватив из-под плеча, с чувством обрушил на стол туго застёгнутый подарочный Судебник рукотворного издания от лета мироздания 7058-го года.
Потом, вздохнув умеренней, присел и подвязал книгу за суконную закладку к ножке круглого немецкого стола.