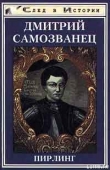Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
На другой день Безобразов подошёл к другу с некоторым опасением. Но Отрепьев, скинув кожаные поршни, то вырастая, то уходя всё ниже и ниже, увлечённо изучал простор разлившихся слепящих луж. Кроме шумных снов истекшей ночи, вчерашнего он уж ничего больше не помнил. Хоть Безобразов так и знал, что он забудет, ещё когда завтракал в рассветной сырой тьме, но тут... Стало вдруг так вдвоём легко и непонятно (досадно, что ли, на растяпу?), что... Безобразов, хохоча, пересказал садящемуся от веселья в лужу другу всё.
В один из зимних дней отец Юшки Отрепьева вернулся с караульной службы раньше времени. Он почти что не шёл сам – два стрельца волочили его, закинув каждый по одной его руке себе за шею.
Безобразов и Юшка Отрепьев сорвались с крыльца и в ужасе смотрели, как на незнакомый деисус[24]24
Ряд из трех икон.
[Закрыть] в свежерасписанной, ещё не освящённой церкви... Юшка кинулся за матерью в дом, а Безобразов, уже скрытый балясинами своего крыльца, между них смотрел... Клюквенно-красный стрелецкий кафтан Юшкиного отца, густея, переходил на животе и груди в темно-маковый, точно инок-художник, сделав ярчайший мазок, не успел развести-разместить краску как следует.
Сотник Богдан Отрепьев закидывал белёсый лик и, зажмуриваясь, открывал без всякого звука, как осипший бездомный котёнок, рот: так горячо хотел крикнуть или простонать, что не мог уже. То ли икона, то ли страшная гравюрища в литовской книге теперь оживала и втягивала в себя Ванюшку, нездешней болью зачерняя окрест него прежнюю жизнь, но оставалась всё-таки чужой и нарисованной: там, на картинках, мученикам издавать звуков и не полагалось.
С набрякших кисточек на запонах кафтана на снег падала киноварь, серной примесью дымилась, прожигая белый грунт. Издалека, прерывисто петляя, тянулся черноватый след. Неизвестный художник, верно, хотел расчеркнуться под своей работой, но то ли кисти в этот раз попались лохматы или широки, холст ли снега сыроват? – роспись вышла что-то неразборчиво...
Отец Безобразова до слезы напился на поминках по соседу и всем гостьям втолковывал грузным, валко плавающим голосом, стуча чашкой себе в грудь:
– Эх, дуры-бабы, дуры-бабы! И сватают же вас за холуйских дворян – худых богатырей! Говорено же вам, что в стрельцах ставка добра, да лиха выставка!
Чтобы жить дальше, стрелецкой вдове, матери Юшки, пришлось через полгода расчесть двух работных дворовых людей, продать московскую избу и перебираться заново на родину – в старый, затерявшийся на берегу студёного лесного озера в плотных соснах Галич...
В первое утро после отъезда Юшки Безобразов проснулся и скользнул с постели, как всегда – беспамятный и бойкий. Ему сейчас приснились сотни маленьких, тиснённых золотом по серебру встающим солнцем, мелких озёрец-баклуш, что оставляет каждому июню половодье пригородной Яузы, и толпы ершей и щурят, зримо снующих в них. Чайкой кружа в низинном небе над запрудами, Безобразов восхищённо замечал большие тени плавных рыб, общие – юрких мальков, кидающихся при его подлёте врассыпную, и ниже любой тени идущих сомов, вспушающих змеистой дымкой за собой песок по дну баклуши.
Съехав с койки, Безобразов сразу побежал на двор Отрепьевых – надо было скорее будить соню Юшку, спешить в пойму, пока какие-нибудь юроды не обнаружили, не замутили ясного кишения запруд.
И только сунувшись головой в старый, неизменный ход в заборе, разделяющем поместья, Безобразов совсем вдруг проснулся и застыл сердцем, как вкопанным.
Дом на подклети, чистый двор, амбар, курятник и собачья будка – всё обескураженно молчало. Только яблоня, глядя из-за угла сарая, ещё оживлённо пошевеливала белыми как снег цветами, теплила свою веру во что-то хорошее... И Безобразову, на неё глядя, ещё никак не верилось, что Юшка с матерью похоронили отца и навовсе простились – уехали. Да, может, он не до конца проснулся и как раз вчерашний отъезд Юшки – сон? Другу рано ещё уезжать – как и неделю, и два дня назад... и наяву никакого прощания не было?!
Кому теперь кадку тех же ладных плодов дадут эти простые лепестки, пахнущие не уезжающим никуда счастьем? Разве не друга станет греть поджидающая терпеливо холодов поленница?! А для кого протоптана навек эта тропинка до крыльца?!
Иван ничего не понимал утренней головой. Вопросы выпадали из неё, их останавливало, защемляя, сердце. Безобразов впервые за жизнь своё сердце вдруг почувствовал вглубь, прежде почти непрозрачное...
Мальчику вдруг послышался внутри дома Отрепьевых какой-то не то шорох, не то шаг, показалось – от перил крыльца дверь подаётся, отворяется и сейчас на свет выйдет Юшка, обыкновенный – вечный.
Ваня медленно пошёл от щелины в заборе к Юшкиному дому. И чем ближе к крыльцу он подходил, тем холоднее, ветренее становился двор. Яблоня померкла и укрылась за углом амбара. Первые отчётливые одуванчики распались под ногами.
Крылечная дверь была прочно прижата железным замком к только теперь выдавшему истинное своё, коварное, значение кольцу на косяке.
Во дворе потеплело нестерпимо. Иван, нахмурясь без слёз, повернулся к жалко раскинувшимся по всему двору кустам крыжовника, к слежавшимся за зиму и ставшим обычной землёй грядкам и горько притулившемуся к уличным воротам, сгорбленному хлеву. «Вы что? – закусил улыбку Иван. – Моего друга свезли или вашего?»
Наверное, пора было домой уходить. На безлюдном пустыре на месте прежнего подворья делать было нечего. Но Ваня взошёл ещё по широким ладоням крыльца и постучался в дверь.
В тот же самый миг где-то в неузнаваемом нутре дома кто-то сорвался с места. Как будто чьи-то вдруг разбуженные руки со всех опустошённых стен, из глубины и близи, страстно ища помощи, рвались к нему. Был ли то какой-то хитроумный житель, вовремя не успевший прыгнуть в пустой лапоть и переехать на новое место со всеми, или это был сам дом, рождённая и неприметно выхоженная человеческими душами душа жилья, Безобразов не знал. Каким бы ни было то существо плотью, оно сейчас узнало Ванюшку и хлынуло к нему отчаянием ручейков объятий сквозь слепую дверь. Оно хотело захватить, навек закрепостить хоть забредшего мальчишку и, никуда уже не выпуская от себя, мучить, пока само не упокоится.
Ваня слабо вскричал и покатился с крыльца.
– Не трожь меня, я маленький ещё!.. – не зная вины за собой, прошептал он, с тоской чувствуя, как беззаветно открывается уже внутри него что-то навстречу ищущим прозрачным щупальцам из-за дверей. – Чур, не меня... Я – чадо малое, меня нельзя...
Ванюша вдруг понял: ни мига нельзя больше ждать и терпеть – защитился снаружи груди стиснутыми локотками и бросился, не разбирая троп и одуванчиков, прочь. Плача, он пробежал дворик, ткнулся мимо родной расщелины в заборе, взвыл от страха, отыскал-таки свой лаз, протиснулся, но, не сумев остановиться на отчем дворе, побежал дальше.
Так, без роздыха, он миновал всю Малую Басманную, поворотил на Пречистенку и только на волнующемся наплавном мосту через Москву-реку немного успокоился.
Вернулся в тот день Ванюша домой уже в глубоких сумерках, когда мысль об отцовском хлысте несколько потеснила в нём боязнь опасного соседства. Уже черешенно и нежно тлели родные ставенные створки. Батя за изгородью стукал колуном и скороговоркой напевал. Далеко, на другом конце улицы, Ивана аукала мать.
Дом Отрепьевых стоял с тайной беззвучного высшего гула, и Безобразов снова не смог поверить, что там никого нет. Дом стоял в темноте светел и прям, как приговорённый князь на неизбежном возвышении... Дождался казни – вечным расставанием со своими сотворителями и детьми. Казни – медленным таянием их жизни, не успевшей враз пропасть из этих стен, застрявшей в живых волокнах брёвен. Дом, казалось, закрыл глаза натемно, но не спал: в час приговора память древесины одновременно проживала, обнажая, склоки, битвы, радости, труды, матюги, плачи и успокоения, встречи и прощания, вздохи и перегляды, херувимские улыбочки детей... Всё это было теперь драгоценностями дома – от подпола до чердака.
В скором времени «Отрепьев терем» занял молодой стрелец-усмарь с женой и батраками. Дом вздохнул и начал понемногу пригревать новых жильцов и обрастать ими, не зная ещё, впрочем, как ему толковать, вбирая старыми стенами, новые невнятные движения, слова...
Вольней вздохнул и Иван, а то он, каждый день глядя на тихий соседский забор, чуть не возненавидел далёкого Юшку: ему там тосковать, не видя родины их дружбы, легко было, а тут Ваня ещё и за друга, будто его же душой, должен тужить по всему и, куда бы ни шёл – среди деревьев, досок, вод, – дотаптывать Юшкино детство...
Хоть с новыми соседями печали стало меньше, Ванюша их с первого дня невзлюбил. Испуг родной потери оказался вдруг милей приобретения душевного спокойствия, когда оно – пустой подарок от чужих.
Безобразов судил своего отца за то, что не он купил Юшкин дом, – может, Ваня и перебоялся бы соседской пустоты, попривык бы к помешавшемуся домовому? Они с домовым могли на том поладить, что в ожидании прежних хозяев сообща прибирали бы дом.
Ванюша играл теперь со всеми старыми дружками на посаде, но ни с одним не сходился так тесно, чтобы было сравнимо с Отрепьевым. Какая-то наледь под пятками сковывала, заворачивала его шаг, прочь от нового дружества. Возможно, Иван вырос: об руку с другом оставляла его неустанная лепкость души, прямота младенческой свободы.
Ванюша не заметил, как стал позабывать лицо лучшего друга. Но когда он одиноко уходил в расставленные на полу игрушки с головой и в это время знакомо вскрикивала дверь у соседей, Ваня по ошибке сразу думал, что это Юшка выходит на улицу, с тремя благоуханными оладьями в руках: одним – достаточным для балования себя и двумя – необходимыми для Безобразова.
Московские сумерки переходили в потёмки, ветер всё пел. Хоромы, храмы и дворцы на Боровицком холме быстро утрачивали очертания. Теперь могло почудиться: на косогоре, как и пять веков назад, гудит, противореча буре, тот же высотный непролазный бор, растягивающий креном крон проволглую, отяжелевшую медвежью полость неба.
Даже когда перед долгою всенощной Иван Великий воздыхал округло по ветру, пока не вступили ещё Китайгородские и занеглименские звонницы, казалось: с холма, как на рассвете православия, сзывает кривичей да вятичей куда-то обращаться передовой еловый скит...
И человек, сидевший сейчас, свеся голову, на порожке своего, пропавшего у него за спиной во тьме дома, чувствовал себя опять каким-то заплутавшим, безоружным грибником, вдруг по полузабытым приметам узнавшим лесок, где пару лет назад он мимоездом поиграл с задирой медвежонком... Но с той весны прошло два лета...
Московит не шёл в избу нарочно, чтобы не бросаться каждое мгновение к окну. Дышал, сидел на крыльчике и робко радовался невозмутимой тьме. Но, как ни силился, он не мог толково успокоиться, для этого надо уж как меньшее – или бежать без оглядки, или уснуть...
Чтобы уснуть, Безобразов осушал обыкновенно один братину какой-нибудь настойки на ягодах. Он пошёл отцепил связку ключей у Манефы с пояса, на котором те бренчали то по двору, то в доме целый день: благодаря бряку сему, Безобразов всегда знал, что кабальная краса Манефа не в распутных бегах, а на усадьбе и ключи от вещей тоже на месте – и вещи, значит, не воруются сейчас. Ночами же Манефа держала ключи под подушкой, и Безобразов, как днём, ночами был уверен в неприкосновенности всей связки, так как подушка у него и у Манефы была общая.
Ключница обладала редкой на посаде красотой, к которой Безобразов давно притерпелся и не очень ценил её. Но он бдительно помнил об этом хозяйстве Манефы и не позволял ей ходить далеко со двора, зная, что кто-нибудь, позарясь на её лишние для Безобразова, парсунные прелести, умыкнёт у него заодно с ними и те, даровые в холопке, нужные позарез части, что дают короткий отдых его духу – в меру незазорного труда тела – по ночам.
Безобразов весьма дорожил этой своей традиционной отрадой, даже вопреки тому, что каждый раз по её окончании делался как-то ещё бесприютнее, тише, скучнее, пил квас перед иконой Божией Матери... Откусывая пыльного сухарика, наглухо осенялся влажной горстью. Как бы извиняясь за содеянное, уныло просил у Скорой Заступницы ниспослать ему честную невесту из богатого Китая – хоть так грех отвесть.
Безобразов молил о богатой невесте почти безнадёжно, будто заранее не веруя или отмахиваясь от даров, но он находил в упорстве вялых просьб какое-никакое себе оправдание: не вы нам, так и мы не вам же, – всё по справедливости?
Он засыпал наконец, жалостно, по-бабьи, всхлипнув и для чего-то смазав спящей Манефе по мягкой щеке кулаком. Темнобровая ключница вскидывалась, но тут же снова роняла льняную, в полусне обиженную голову в пуховую подушку.
Наутро всё дворянину Безобразову припоминалось: Манефа кашу не варила, пока дворянин спал, выдоив Зорьку и забрав из-под кур яйца, сама наскоро завтракала и начинала громозвучно готовиться к бегству.
– Куда лыжины востришь, красивая? – выглядывал на её сбор пробудившийся и несколько проползший по перине Безобразов. – Змея короткохвостая, куда беги-ишь?.. Кому грядеши, говорю? Чего надулась, курва? Я ведь убью и закопаю!
– Закапывай! Я всё одно уйду! – стягивала ключница походный узел. – Вот только в бесстыжую харю вам плюну и пойду!
– Давай-давай! Валяй! – поощрял Безобразов, вперивая круглые зеницы в окатистые Манефины локти, ходко плавающие над узлом, и натягивая шиворот-навыворот портки. – Я тоже схожу кой-куда! Тебя, такую видную занозу, откелева хошь достанут! Дьяк батога отмерит подлинно да в запечатанной арбе, на животе, мне обратно пришлёт.
Манефа метала железную ключную гроздь на стол, ревниво хохоча.
– Ить дьяку-то подмазать надо, а с тебя какой взнос, теребень драная! – наконец-то разворачивалась, подбоченясь, она к полуголому хозяину и полюбовнику. – Я перед начальником стола подол загну, он враз мне и кобельную[25]25
Кабальная запись или обельная грамота, освобождающая от налогов.
[Закрыть] крепость подпишет! А твоё высокое отродье за грубиянство да за все долги полюбят и не так!..
Тут Безобразов вдруг менялся. Крадучись, обхаживал Манефу: сам запутываясь, растолковывал ей, что наказывал её, как любой муж бьёт холопку, а не как – перед Богом – жену. Теперь же он, как у любезной жены, просит за это у неё прощения (ради которого дёргал – будто рвал – под рубахой шнурок на груди, кланялся ключнице в пояс, потом в ноги и под конец земно, тут он изловчась, целовал её лодыжки, сунув голову под сарафан). Иной раз Безобразов искренне немного плакал.
– Кабы у вас, барин, такой крутой кулак из другого места рос, разве бы я слово сказала? – упрочивая своё торжество, язвила сдавшаяся наконец строптивица и уже перстами пошевеливала Безобразовы лохмы. – Да, слабоват ты, Ваня, где не надо...
Безобразов тут вскипал и клеветницу вмиг забрасывал обратно на постель, имея уже при себе все доказательства противного.
Несколько дней погодя всё повторялось – любовь, кулаки, прибаутки и пустоговорки, разъяснения и заклинания, объятия, угрозы, покаяние и мир.
Со стороны был полный вид полубезумной басурманской страсти, настолько жёстко уже раскачались здесь чувствования – вниз, вверх, мимо опоры равнодушия.
ДВЕ СЧАСТЛИВЫЕ ВСТРЕЧИ
После раздора с Дмитрием в «гранёном доме» Андрей Корела решил сразу отправиться в суровый и долгий загул, но нечаянно очнулся от него уже на следующий день.
С привизгом где-то задрожал Кучум, выкликая на помощь хозяина. И атаман разомкнул веки на втором ярусе кружала при торговой бане.
Сорвавшись с фиалкового тюфяка, он подскочил к окну, глянул и страшно в дырку закричал:
– Ты что удумал, борода?! А ну геть от жеребца, мочалка банная, на сажень! Застынь так, пока спущусь!
Казак мигом впрыгнул в портки, на ходу попал в сапожки, подхватил саблю, черкеску и бросился из комнат вон.
Приподнявшаяся на постели сонная розовая девка, как зацепленная им ткань, нежно потянулась вслед:
– Когда ещё заглянете к нам, Ондрей Тихоныч?
Банная блядная девка, хоть и не получила ни гроша за предоставленный Кореле труд, была досыта ублажена не только самодвижущейся и воинствующей, непреклонной мужской силой постояльца, но и грустно затуманена удивительной ей – тем более в забубённом кочевнике – чуткостью и деликатностью.
Бородач со следом от копыта на кафтане перетягивал онучи, сидя на земле у колымажки. Здесь же, с наброшенной шоркой, робко полусидел на телеге Кучум, озадаченный, видимо, тяжестью, не отпускающей сзади. Передок телеги опускался под конём, и землю около бородача клевало неприкаянное дышло.
– У меня все мерины в разгоне, – поведал конюх-банник[26]26
Хозяева торговых бань содержали обычно при банях постоялые дворы.
[Закрыть] подбегающему казаку. – Слетал бы твой игрень до Введенских ворот, чай, не переломился бы.
– Значит, чуть гость задремлет, – Корела даже приостановился, дивясь, – ты у него скакуна – цап-царап, так, что ли, мужик?! Цыц, мазурик, замолкни! – Андрей начал срывать с друга позорные рабские лямки.
Но торговый банник был московит недюжинный. Он видел смуту, понял в ней себя и сам теперь легко осёдлывал любые потоки негодования.
– Не загоститься бы вам на Москве, казачки-братики! – заклокотал он не тише Кучума, подымаясь и уже разминая кожаный чембур в руках. – Принимали мы вас и угощали за все ваши геройства, да не пора ли и честь знать? Раз вам – пир, два – подарок, но уж на десятый раз не поминай! Денег ты, брат, не плотишь, даже жеребца зажал!
– Пойми, мочало ты дремучее, – вспыхнул казак. – Этот парень – верховой, а не работный! Стать иная! Да всё его воспитание не твоему, ломовому, чета! Тебе до этого арабчика – три польских академии, один конюшенный проход и овсяное стойло!
Банник, выслушав воззвание атамана, даже не задумался.
– Тогда давай так мы с тобой, друг, разочтёмся, – сразу изрёк он. – Веди ко мне каких сам хошь, каких не жалко, битюжков станишного твово обозу!.. Хошь – так сам при них на облучок садись!..
– Нет, дядя, тебя застрелить проще! – хохотнул, мотнув чубом, Корела и... поступил в извоз.
Развозя люд честной по теремам, службам, кружалам, торжкам, ловя окатный говорок торговцев, сосредоточенный совиный клёкот иноземцев, мысли диаконов, хмельные откровения пушечных дел мастеров, хихиканья подьячих и неимоверные байки новых лихих друзей-возчиков, Андрей начинал прозревать – как бы сквозь уносящийся встречным ветром сон-туман разнообразного града – во внятный простор нужд и надежд Руси.
Часто он приостанавливал цуг своих битюгов перед съезжей избой, чтобы выслушать очередной приговор уличённому дьяку-мздоимцу, беглому земледельцу или сидню-помещику, убыточному для казны. Не дожидаясь наказания их батогами, казак, обожжа кнутом, пускал вскачь битюгов.
Особенно запомнились донцу два обвинения, зачитанные одному кабальному крестьянину и второму – государевому дворянину.
Вина кабального была в том, что он родился, как капля на каплю, похож на сына хозяина своих родителей. Хотя, как полагали в их селении, вышло так не без участия самого барина Одоевского – мать подсудимого крестьянина была в своё время чудо как хороша.
А ещё этот крепостной, подозреваясь в убиении точь-в-точь такого же, как он, но – господина, обвинялся в самозванстве и умышленном глубоком заблуждении писцовых книг. Где-то год тать просидел помещиком, получив всемерную поддержку и благословение своей родни, каковой насчитывалось полдеревни. Селянин удерживался бы во дворянстве и дольше, исправно платя в казну подати и самостоятельно возделывая барский свой надел, да столоначальник призадумался, увидав в ведомости его росчерк. Вместо прежнего «Одоевского» там со всей крестьянской здравой прямотой обозначено было «Удоевский»...
Дело же запавшего Кореле в душу столбового дворянина, приговорённого к полному ошельмованию и перевёрстке земли, было тоже сурово: дите боярское, отчаявшись получить с полунагого села мало-мальский оброк и разочаровавшись в царской службе, решило пробираться в казаки на Дон или хоть на Хопёр. Но сначала дворянин для вящего порядка, вроде как и полагалось при больших сельских возмущениях, запалил ночью курные хоромы тех землепашцев, которых считал основными виновниками собственного разорения. Затем, подождав, пока мужицкие усадьбы с мечущимися по ним его врагами совершенно уже адски озарятся, помещик сел на своего коротконогого жеребчика и поскакал к Хопру. В седле он скоро задремал, пресыщенный ночной поветренною свежестью и тёмным спокойствием исполненного долга; его шагающий неторопливо мерин развернулся и пошёл домой с прогулки – к сену и воде, навстречу разъярённой общине крестьян, уже идущей по следам его копыт...
Корелу до жалости развеселила странная судьба кабальства и дворянства. Атаман уже покаялся, что так расплевался с царствующим другом. Мгновенное сердечное кипение на Дмитрия само как-то прошло, замедлилась в устах ухмылка... Теперь Андрей прощал царю тот поспешный немудрящий прижим своей кочевой чести. Донец воочию увидел безотложность и огромность дела, волокущегося мрачноватой пологой державой, будто в воронку, мизерную щель: в косо замкнутые пояса кремлей Москвы.
Англичане-мерканты[27]27
Торговцы, купцы (от merchant – торговец).
[Закрыть] из кумпанства Джереми Гарсея рьяно молили царя о монополии. Без конца катаясь в Кремль, подстерегая Дмитрия то по дороге на охоту, то с охоты, путая и заглушая толмача, совали «кингу» в руки сметы, копии дарованных ещё «Теодором Джоновичем» льгот, разворачивали образцы товаров.
Отрепьев мглисто и остерегающе поглядывал на дьяков Грамотина и Булгакова – новых великих расходчиков[28]28
Расходчик – секретарь.
[Закрыть]: дескать, советуйте, но с вас потом и будет спрос. Дьяки с весёлой кислинкой уводили глаза, подымали плечи, удивляясь англичанам. Дьяки здесь совершенно доверяли воле повелителя: ты, мол, царь, и сам завзятый московит, от которого полы отрежь да уйди, – свой нос, поди, рулит на торге.
– See you soon, our tsar! King of kings![29]29
До скорого свидания, наш царь! Король королей! (англ.).
[Закрыть] – раскланивались лондонские коммерсанты, старательно сметая грусть-тоску, как пудру, с лиц. – ... Tsar of beasts![30]30
Царь зверей (англ.).
[Закрыть] – проскальзывало в смешанном потоке титулов и восхищений.
– В бадью, визитёры! – легко повторял за своим толмачом царь. – Бай-бай!
Англичане забирались в русскую тележку, на которой достали царя со своей монополией даже в Сокольниках. Нанятый возчик среди бабьего лета подымал глуше ворот тулупа и всё канителился с поводьями.
– Quickly, drayman! – завозились уже седоки. – Very long![31]31
Быстрее, возчик!.. Очень долго! (англ.).
[Закрыть] – ещё раз на всякий случай, трудно лыбясь, поклонились биваку царя Руси, сидя.
Возница начал вдруг бурчать в овечий воротник:
– Как вы себе знаете, англы, за два корабленника я назад не повезу!
– What the dickens?![32]32
Что за чёрт?! (англ.).
[Закрыть] – враз поняв, возопили купцы. – Билл огуворр – два пенса сюйда и обрайт!
– Овёс сегодня плох! – упёрся осипший вдруг кучер. (Дмитрий, уже велевший доезжачим убирать стан, оглянулся неизвестно почему на непонятного под безразмерным тулупом, наглого, простуженного возчика). – Два дублона, стало быть, оттоля – два, значит, и туды! – Возчик выставил из рукава четыре пальца, сунул под напудренный нос одному дельцу. – Я – моно с конями! Один, понял? Уан Ванька на этой горе! – Возчик оставил один перст. – Другого уже не наймёшь, на своей «паре» доплюхаешь!
– О’кеу, о’кеу, – стали разумно соглашаться англичане, доставая кошельки. – Толкоу гнайт с вьетром, time is money![33]33
Время – деньги (англ.).
[Закрыть]
– Это уж как лошадкам моим будет угодно, – знай дурил, сипло втолковывал седокам возчик. – Уж коли кормильцам взгрустнётся... у меня они одне.
Басманов объезжал уже со всех сторон упряжку, тщась заглянуть в обличие сквалыги, но тот страшно рычал и кашлял, надувал щёки и, уже явно издеваясь, косоротился под воротник.
– Вот вам и ответ, государи мои, – сказал Дмитрий гостям. – Из первых уст московского народа. Вот и сами попробовали, вкусно ли ваше потчеванье... Ну не обессудьте, возчика я вам другого дам, а этого разумника себе возьму! Усажу скопидома в самый Растратный приказ дьяком!.. Конечно, ежели он сам не прочь подмогнуть нам.
Царь знал уже, что там за скопидом, – над овчинным воротом уже кольнули его, просияв, две синие искорки.
– Чёрт-те что! – захныкал на ухо другу один британский гость. – Ну почему я сам не сел на козлы или хоть дядюшку Майлса не водрузил?!
– О чём это вы, досточтимый сэр? – не поняли его с досады сотоварищи.
– А вы не слышали, торг-лорды? – фыркал коммерсант. – Букли-то над ушами следует приподнимать! Этот ненормальный царь сделал нашего мошенника-возницу клерком!
Памятуя о раздоре с Корелой, Отрепьев был как только возможно учтив и даже вкрадчив с другом своих детских игр.
Дворянин Безобразов, в мгновение ока в одну из чернейших ночей взятый с постели и поднятый прямо в Кремль, сидел тою же ночью в Набережной Трапезной палате и ел. Безобразов сидел перед стольцом и поставцом, исполненными разнородной снеди в палехских тарелях, вестфальских золочёных кораблях, серебряных овощниках, ханских горшочках, кумганах... Друг вытягивал руками постепенно из горшков холодное говядо, черпал длинной ложкой алую шехонскую икру, губчатые сыры размазывал по сочням и печенью, прихлёбывал аликанта из кубка, мёда из ковша.
Кушанье чуть теплилось – ночью всё было принесено лично Бучинским и дьяком Сутуповым из потайного закутка. (Вспомнив природу Безобразова, царь догадался, что вызволенный из тьмы ночи – как из небытия – детский приятель первым делом будет есть).
Отрепьев только из осторожной вежливости не предложил Безобразову сразу накрытый стол, хоть с первого мгновения их встречи, глядя на его продолговатые округлые белки на хрящеватом лице, Отрепьева так и подмывало спросить: «Жрать хочешь?» Но, к счастью, Безобразов по традиции и сам себе всего спросил.
Медный лев держал в пасти удава, которому хвост кто-то накрутил подсвечником. По стенам поблескивали мусетворные[34]34
Изображенные мозаикой.
[Закрыть] бессонные архангелы.
Безобразов прищёлкивал перстами, смаковал питьё и кушанье, хозяйничая за столом. Друг его детства, царь, посиживал напротив, и в палате не было более ни души.
«Ничего, притрёмся...» – радуясь, успокаивал себя Отрепьев, не зная, что и говорить.
Безобразов, жуя и окатывая всё кругом себя широкими глазами, вдруг вздумал шутить: а я, мол, тоже, Юра, времени напрасно не терял – до городового дворянина дослужился!
– Конечно... если... – сбивчиво и непонятно, врасплох, поддержал царь, – ...ежели каждый своё дело ладно творит... В том-то и суть...
Отрепьев как лучше хотел, а Безобразов от слов «своё дело» поперхнулся даже... Но тут же через еду улыбнулся – меж гружёными щеками:
– В самую тютельку рек! – с простоватым восхищением уставился на старого дружка.