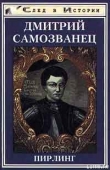Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
В этот день, пока Анна Егоровна дошла до дому, многие забытые знакомцы нечаянно ей повстречались. Кто-то медленно и низко кланялся, кто-то на многие лета желал доброго здоровья, и все, разумеется, на радостях Анной Егоровною были к завтрашнему полднику приглашены. Для готовки изобильной всячины радушная хозяйка истратила самый уже крайний запас – прошлогоднюю подсобу от царя за павшего на службе мужа. Но всё равно, за ночь вдове не управиться бы со стряпнёй, не приди к ней в тот же вечер на выручку Олсуфьевна. У служилой старухи деверь как раз подгадал и в одночасье поправился, вот и смогла воротиться к госпоже. (Вставший с одра деверь Олсуфьевны, кстати, тоже уже собирался на угощение к Анне Егоровне).
Чего прежде вдова никогда не видала: гостей откуда-то явилось куда больше, чем звано. Но так как каждый шёл с каким-нибудь подарком, и чаще съестным, яств хватило всем.
Анна Егоровна с Олсуфьевной метались сперва как угорелые. Потчуя дорогих гостей, тасовали и сбрасывали блюда по заведённому чину: к щам из свежей капусты – пироги с Сорочинским пшеном[38]38
Рис.
[Закрыть], к кислым щам – с солёной рыбой, к свекольнику – резан-широк – пирог с капустой, к похлёбке из ячной крупы – пироги с овсом и яйцами и, наконец, к «янтарной» сладкой ухе с перцем – морковный пирог... Но уж тут Анну Егоровну усадили во главу стола, насильно освободив от маеты, её подменили две поворотливые гостьи.
Заходили всё новые люди – совершенно уже незнакомые. Пришедшие раньше и севшие ближе к Анне Егоровне представляли ей нововходящих. Если появлялся односум, родич или сображник кого-то близсидячего, тот подзывал лёгоньким знаком друга и нахваливал его перед хозяйкой, громко восхищаясь его подношениями. Когда же показывался судебный спорщик, обидчик или обиженный раннего гостя, тот сразу – одним, якобы невзначай оброненным присловьем – уничтожал человека вместе с подарком его.
Комната всё сильней сжималась. В трудном гуле здравицам и величаниям вторили низким эхом хула и клевета. Редкий гость сидел благообразно и скромно. Так, кажется, только старику деверю Олсуфьевны на этом полднике все люди были одинаково любезны и милы. Этот старик давно на своём опыте убедился в правильности взгляда на мир со страниц Евангелия и теперь глядел сам с вольным беспристрастием, как из киота. Дело в том, что он жил так долго уже, что не осталось на посаде человека, который не успел бы принести старику какого-нибудь зла; не было и такого, кто не сделал бы ему когда-нибудь приметного добра. Так что народ весь имел для него очень ровную цену.
Анна Егоровна тоже «извинила» чарочку во славу нового царя и опростела сердцем. Взяла она и на миру открылась, что не знает, чем и заслужила такое неожиданное нежное внимание одногородцев? За что ей этот ужасающий почёт?
Тогда невысоко над столом выдвинулся объезжий голова и, утихомирив обещающей ладонью бурелом смятенных, коверканных во хмелю ответов, стал отвечать как подобает, за всех сам:
– Государыня-кормилица ты наша! Все окаянны мы перед тобой! Но прощения грехов нынче же просим и вместе с тобой, птица золотая, пьём исполатье расчудесного царя нашего, единодержца Дмитрия Ивановича! – Здесь внезапно, не в лад своему слову, объезжий голова блеснул искренним и исхитренным одновременно оскалом, то ли целящим в душу Анне Егоровне, то ли назначенным для самых непонятливых гостей. По оскалу тому все земляки могли видеть: хоть голова красен щеками, но челом твёрд, не о чем им беспокоиться. – Дмитрий Иванович, кровный батюшка наш, на престоле, – хорошо выговаривал голова. – Ни при чём твой плод тут, матерь благодатная! Маненько ошибилась Русь, и ты перед всем светом пуще прежнего чиста и пренепр... непрепорочна ни в чём! Теперь-то Расеюшка в ум пришла, ну, значит, и мы проморгались за ней! А ежели что не совсем так, свет Анна Егоровна, за старое, по христианскому установлению, ну – забвения просим!
Анна Егоровна сидела как подкошенная дерзкой догадкой, опасаясь и стыдясь ещё о чём-то спрашивать. Не было и малого уюта в обнимающем её со всех сторон тепле-добре, в этих потёмках состязательной любви, озадачившей игривыми словами: «ни при чём тут плод твой» и «ошибилась Русь».
На другой день Анна Егоровна надеялась вздохнуть и образумиться от давешнего ига гостей, но день новый только сгустил приток на вдовий двор даров и поздравлений.
Ясно поняв только, что они с сыном теперь, не в пример прежним временам, всем любезны, мать снова стала ждать откуда-нибудь вскорости оправданного Юшку. Она хотела сама уже отправиться в Москву, узнать о нём в каком-нибудь расстрижно́м монастырском приказе, да Олсуфьевна и ярыжки с того дома отсоветовали. (Ярыжки тоже в числе первых явились с подношениями, были вдове теперь друзьями, и столь задушевными, что даже остались жить в той же противоположной избе. В один голос с Олсуфьевной они уговорили Анну Егоровну погодить трогаться с места, дождаться хотя бы какого-нибудь предписания или на худой конец понятного письма).
Медленно, быстро ли минуло время, Анна Егоровна не сосчитала, но посреди одной ночи, когда поняла она, что нет больше никаких её сил ждать, вскинулась с лавки... Не затепляя светца, подбежала к окну, всем телом легла на волочильный ставень, разом отволокла.
В распахнутых настежь воротах под сине-лимонной худой щекой месяца спешился широкомордый молодец в ладном дорожном коче. К нему поспешал уже через слоистый тёмный луг с соседнего порядка ярыжка, в охабне поверх белого белья, с мигающим звездою кистенём. Скуластый в коче подождал ярыжку – с тем, чтобы хлестнуть ему каким-то свитком с пломбой в нос. Совершив необходимую сию формальность, приезжий напрямую пошёл к открытому окну, в котором была Анна Егоровна, и остановился перед ней – бородой вровень с подоконником.
– С доброй ночью, тёть Нюр, – спокойно поклонился человек, но, выпрямившись, для чего-то прихотливо огляделся. В вышине тлели рассыпанным сахаром по дну фиала остатки месяца и слабые звёзды. В низине же стояла чуть крадущаяся гуща, несла тьму непрозрачная трава... Всё забыто и прохладно, бесшумно и живо, даже ярыжка куда-то пропал...
– А ну-тко, отгадай с трёх раз, – сказал Анне Егоровне приезжий с предвкушением её открытия. – Кто аз?.. Ну, как думаешь-то?..
Анна Егоровна с подлезшей в окно под её локоть Олсуфьевной напрягали, щурили зеницы, но при лукавом свете ночи всё-таки не признали никого.
Глядя на бестолочь старух, парень извёл своё спокойствие и высказался своеобразным неблагозвучием. (В навалившемся немощном свете всех звёзд и луны у него под усами выпятились по-детски губы).
Анна Егоровна всплеснула руками, локтем стукнув голову Олсуфьевны о ставень:
– Ванюшка!
– Да хорошо он живёт... Можно даже сказать, лучше всех, – Иван Безобразов сидел перед светцом и, вытрясая из кошеля понемножку рублики на стол, заставлял Анну Егоровну их пересчитывать – проверять, в целостности ли привезён гостинец Юшки.
– А письменного-то ничего не шлёт мне? – робко вопрошала мать, нечаянно считая цатки золота и серебра и одновременно забывая, сколько же сосчитано.
– Не, на буквах нету ничего... – Безобразов вдруг приостановил кошель. – Да! Давай-ка сюда и те все его, старые, письма! Надо забрать и которые есть...
Анна Егоровна думала было схитрить – сказала товарищу сына, что все прежние послания сослепу ею растеряны да изорваны, но Безобразов решительно ей не поверил и даже посовестил тётушку Нюру, что никак не войдёт в положение Юрия. Сын же почтил её таким мешком, одного солнечного зёрнышка из которого хватит, чтобы без промедления вокруг Анны Егоровны вырос добрый дом из дуба – с гульбищами, житницами, многим весёлым скотом и многой, уважительной и быстроногой прислугой – на месте этой вот... Всё нынешнее вокруг: помятые яблоки в желобке оконницы, рамон-масло в кринке на столе, рассыхающийся потолок на крепкой балке-матице, зеркальце на суковатой, лучистой стене, мирную паутину по углам, жёсткую сыпь побелки возле печки, большую синюю подушку, свешивающуюся из-за печной трубы, от трубы протянутые частые грибные ожерелья, бадейку с угольной водой под пламенем лучины, занавешенные серым кружевом полати, терпимый пожар на столе над черепком коньего жира, Олсуфьевну, в разрезе занавески хлопочущую у шестка, – Безобразов легко смахнул куда-то одним уничтожающим взмахом руки...
Отрывая от сердца почтовые истёртые листочки, Анна Егоровна продолжила расспросы с притворной беззаботностью.
На вопрос – сам-то Юша скоро ли приедет на побывку, Ванюш? – встретив ответный взор Безобразова, Анна Егоровна просто испугалась своего нелепого рассудка и скорей поправилась:
– Альбо, может, тогда мне снарядиться к нему?
– Нет, нет, покуда рано ещё, обождать с этим малёха надоть, – насупился по-деловому Безобразов. – Ещё царёвых врагов всюду полно. Они того и глядят, где поддеть нас...
Тут Анна Егоровна открыто загорюнилась – узнав, что опять невесть на когда откладывается встреча с сыном, но скоро снова навострилась и с ясным строгим пониманием одобрила:
– Конечно, сейчас какие катанья? Самые нонича труды!.. А я уж рада ли, нет ли, что ты, Ванюша, с моим Юрушкой вместе опять да заодно! Глядите у меня: и вперёд не покидайте друг дружку, выручайте друг дружку во всём! – Безобразов учтиво кивал, прикладывая руку к груди. – Особенно я на тебя, Ванечка, надеюсь, ты поблагоразумнее да попроворней чада-то мово, последи уж за соратником...
Безобразов закивал ещё отчётливее, и улыбка между его скул окрепла, не гуляла больше, точно вклеилась.
– Уж я сама не знаю, как нечёса мой сей почёт выслужил, – продолжала Анна Егоровна, случайно веселея. – А и что за крутища такая под ним? Вот не поверишь, Ванюшка, перед людьми стыдно – о родном сыночке ничегошеньки не ведаю! И никому признаться не могу! Ведь ровно глухая в голой чаще жила, хоть ты, что ль, скажи дуре старой, и буду помнить, как чин-то его ноне зовётся? Конюх, что ли, он у Дмитрия Ивановича?.. Переписчик, али подавальщик, ально как?..
Безобразов медленно сжевал улыбку, внутрь втягивая губы, проглотил и попросился на двор. Вернувшись, он застал на столе готовый тыквенник и рядом с Анной Егоровной за столом хлопотунью Олсуфьевну, раньше только урывками подслушивавшую его из кухонного закутка, теперь же полноправно ожидающую йодле барыни пущего восторга от дальнейшего.
– А я вот Анне-то Егоровне что баю, – пролепетала стряпуха скорей, чтобы её не согнали, – поди, Юрий-то Богданыч состоит по тайному какому ведьмовству... Так что, может, на слух и сказать несвозможно!..
Безобразов увидел, что отложенный вопрос подробно без него обсуждался и что тёмное упоминание им множества царских врагов, изъятие писем и добротная его малоречивость вдруг нечаянно попали на весах бабьих предположений в одну чашку.
Чуть прихлебнув малиновой водицы из ковша, он с великим вниманием покидал во рту языком обжигающий нераспробываемый кусочек.
– Истинно, Тайный приказ!.. – задохнувшись, шепнули старушки. – Да кем же он там? Иван, мы ни-ни... Неуж дьяк?
– Подымай выше, – устал и отодвинул блюдо Безобразов. – Он, мамоньки... главный секретный духовник, советник... и сокафтанник царя!
Олсуфьевна перекрестилась с отворенным ртом, Анна Егоровна подпёрла кулаком слабую щёку, локотком – бок, прибирая кончик плата в горсть. У неё перестало щемить сердце, только закололо часто-часто...
– Уж не смею спросить, тогда ты-то, Иван, у нас кто?..
Безобразов в один глот опрокинул в себя – прямиком в ужаревшую душу – стоику полугара:
– Не смеешь правильно... Мой смысел пострашней...
Анне Егоровне хотелось расспрашивать про житьё-бытьё взмывшего сына всю ночь до утра, но Безобразов вскоре тихо задремал, где сидел. Затем лёг на незастланную лавку и уснул, серьёзный и осунувшийся вокруг основ скул.
Чуть свет процвёл, он встал и уехал, вяло ругнув безотложные державные труды, а Анна Егоровна уже хотела скликать опять посад в гости: ей было важно, чтобы все послушали из уст московского чиновного пришельца, ревностного друга её сына, о Юрии Богданове Отрепьеве истинные прекрасные слова.
РАСЧЁТ
Иван Межаков снова проверил седловку, тороки[39]39
Ремешки позади седла для пристежки груза.
[Закрыть], чтобы не глянуть на запоздалого гостя и случайно не приветить или не убить его.
– И ты, чё ли, – усмехнулся меж дела небрежно, – с есаулом Луньком на Соловки захотел?
– Эт за што его? – удивился атаман Корела – праздный гость.
– Не за што – в лавру навострился. Всё, бает: наказаковался с вами, пожить в довольстве, в покаянии нора. Как умер прямо... – Межаков поискал на коне ещё что-то глазами, плюнул на путлище[40]40
Ремень, на котором подвешивается к седлу стремя.
[Закрыть], взялся им протирать тьмутараканское новое стремя. – Андрей свет Тихонович своей жертвой патриарху всех с мест сшевелил... Так сам тоже остаёшься? Макушу накрест постригаешь?
– Да нет, – гость улыбнулся. – По-своему с ума схожу. (Не звал атамана Межакова задержаться с собой на Москве, хотя, наверное, знал давешний строгий ответ Ивана царю, хватившемуся, что рассудительность, неторопливость атамана много помогла бы делу поправления его державы. «Перед хлопцами, значит, позор, – в открытую прикинул, поблагодарив Дмитрия за приглашение, Иван. – Их прочь, а атаманы – в золото?.. Да уж... Нет уж. Извиняй-помилуй... Видно, уж кто в седле родится, так и пригодится в нём». Царь зримо покривился и без слова отошёл тогда. И друг теперь молчаливо вихляется, трётся по варку[41]41
Конский двор.
[Закрыть] бездельно, как в гостях…)
– Я не на золоте, – рассказал наконец друг, обратившийся в «гостя». – Перед ребятами мне стыд, а перед «Всея»?.. – ковырнул землю ичижным носком, далеко полетели комки. – Коли взбаламутили всю, подсказали надежду и бросили – не срамотища?.. – Корела тут посуровел, но вновь горемычно оскалился: – Тем более я ненадолго, нагоним с Дмитрием вас под Азовом. Как раз успеем совместно турок в море пощёлкать...
«Не знаю, я таким весам и счетам не учен, – по порядку, душою, отвечал про себя на коренное вопрошение «гостя» Межаков, принимая пока остальное напристяжку. – По мне, чем на Москве срамнее, тем на Дону почётнее. Закон природы русской. Вряд ли сменишь... А для дорогих указов «осударевых» да за-ради этих толсторылых хряков, от которых мой отец чуть жив уполз, упорствовать... Бог видит, невмоготу. Это тебе Димитрий, старый кум. Вижу, кумовство и шебутится, а я с царём просто в расчёте».
Так думал. Вслух лишь добавил:
– А красиво, Андрей Тихонович, баять стал. Я так и подумаю редко... Не знаю, чего надоть этой Руси, где смысл в ней сбывается... Но раз ты своей дури пока что не чувствуешь, что ж, оставайся...
Межаков глянул-таки в самое лицо приятеля тут и не удержался, вдруг тало растёкся, разнежился.
– Державь только не новым умом, а как перед боем причащённый: иди всей полоумной душой – тогда не везде промахнёшься...
Карела глянул тоже – его очи твёрдо дрогнули: кружки с лёгкими спицами как будто повернулись в просиявших колеях...
– Да говорю – не насовсем, – бормотнул в смущении. – Вот только с делами маленько управимся...
Межаков обнял соатамана, выставляя его с денника[42]42
Помещение в конюшне для содержания лошади без привязи.
[Закрыть] на поющий от сборов варок:
– Да, чем-нибудь займись-ка, не валандайся тут под конями... Ладно, ждём!
В пути атаман Межаков надолго понурился – из-за небольших дубрав ещё звучал приятельский и вседовольный голос вероломного порфироносца, объявляющего о почётном роспуске по всем степям и речкам рати казаков. А то за кущами лещины и волчьей ягоды будто катились, неровно мигая, посверкивая тонко-тёмными синими спицами, очи важного чиновника Корелы... Те донцы, что и не были злы, всё же грустили в сёдлах – никого не обрадовал бессрочный расчёт. Многие, освоившись уже со всей Москвой, старательно служили. У кого-то только заканчивался триумфальный запой, и в глазах у него не успел основаться на твёрдой земле стольный город, а тут попросили весь Дон за крепостные ворота: по-над теми же валом и рвом – вон.
От Яузской калитки до тульских лиственных бугров ряды станичников, колыша, нарушал холодный ропот. Ропща, ряды состязались меж собой в хищном искусстве нерукописной словесности – равно донской, ногайской и турецкой. Иные знали и угло-узорчатый цветистый мат фарси.
Только когда буераки и беглые холмики, низанные строевым древом, понемногу успокоились, осев в кипении кустарников (донцы с русской возвышенности стекли на лесостепь), у всех потеплело под сердцем.
– Ровно... Ровно... – всхрапывали, радовались кони.
– Ровно, ровно, – страстно били их копытные стоики в иной, неземной чернозём.
– Ровно! Ровно! – подстукивали всё оглашенней сердца казаков.
Издали уже стлалась, летела к ним тёмная дымка – это, поняли первые, над последним холмом земли к ним поспешал уже бурый, точно в отцветшей крови за весь свой долгий путь, цветок перекати-поля...
И когда изумрудная, далее рыжая, сизая, белая чистая степь, как неутраченная в страшных расставаниях невеста, задолго до первой станицы встретила их, чуть вспрянули из ковылей пытливые суслики, застыли навытяжку, приветствуя казачьи значки, невозмутимые байбаки[43]43
Степной сурок.
[Закрыть], и солнце в орлиных небесах вдруг освободилось от случайной, наносной, «московской» тучки, бросилось к ним, золотом влюблённым облекло, защекотало в объятиях... Межаков неловко и внезапно заслонил руками лицо, скользнул с коня и, отойдя несколько прочь с колеи, канул в свою степь.
Казаки без слова двинулись, тактично огибая травный послед провалившегося атамана, – домой. Им недалеко тоже уже, вот только за край ковыля и полыни...
Несколько станичников запели – бережно, слабо сперва, – но скоро все казаки, переняв напев, ясно гремели. Дрофы торопливо захромали в обе стороны, подальше от дурного извержения дороги, но покладистые байбаки и суслики только твёрже держали равнение на бунчуки и слушали заворожённо...
Корела узнал об отъезде своих и застал их в подворьях столицы случайно. Он выезжал в Переяславль верстать посошные войска, но под тугие выдохи подьячих мгновенно поверстал всех, чем мог, невзирая на худое снаряжение тамошних служильцев, веря всем отговоркам. (Только троих помещиков, у которых увидал на копьях ржавь, хоть и справно пригнавших причитавшихся с них битюгов и холопов, выбил из благородного сословия совсем, а сёла их передал новикам). Так что быстро Корела управился и возвращался в Москву, готовый вновь к уйме державственных дел, много раньше, чем ожидал его Дмитрий.
На обратном пути пришлось, правда, ещё заворотить к Троице – передать архимандриту просьбу Дмитрия: в долг переслать царству денег на всякие великие дела. Корела после своего пожертвования священству прославился на все причты как небываемый скитоугодник и был в любом монастыре желанным гостем – понеже из его уст просьба царская скорее встретит понимание. Корела, впрочем, в лавру ехал с небольшой охотой – по нему, так дело было нестоящим. Он чувствовал себя обманщиком – чуть что-то подарил и уж едет куда больше отбирать. Поэтому, когда архимандрит начал отнекиваться, жалуясь на оскудение, расписывая язвы и потравы, «недоплатеж с острижки рясофорства» и «падеж всея меньшея братии скота» древле-плакучими, ничуть не ведомыми Дону падежами, атаман не настаивал, сел в свою таратайку и покатил домой.
– Стрельцам нету службы, – хмурился, кривился, объясняясь, царь (рассчитывавший спровадить донцов до приезда Корелы). – Все уже проверены Басмановым. Целые слободы проверены, крамолы нет. У каждого же на Москве двор, семья едоков да захребетников. Стрельцы – это оседлые вооружённые жители, ну и нельзя у них прибыток царской службы отнимать. Неправедные кары мятежи взъяряют... А цедить и им, и ляхам, понимаешь ли, и казакам казна не в состоянии. Пусть уж пока по старине, кто как привык... А тебя не отпускаю, Андрей, – вопросом-указом вдруг перегородил пояснения. – Гулянья-то твоим и без тебя нигде не хватит... А у тебя вон сколь задела тут несделанного...
И смотрел – голосом вроде легко, аж шутейно, приказывал, а глаза ждали, не от раба, но от умного друга, последнего сказа для себя.
– Да! Казаки твоей станицы не рассчитаны. Оставляю тебе на подхват...
Карела только чуть кивнул – чуть видно, но понятно. Оказалось, что он это заодно и поклонился: пятерню пустил в сияющую мглисто шайку, выпершую из спокойной головы, – и ушёл невесть куда из комнаты.
Корела смотрел на укладывающихся – рывком-тычком, со злецой – тяжеловеселых земляков, смотрел, впервые за долгие месяцы вспомнив о них. Его не так огорчил их уход из Руси, как показалось племенному честолюбию вначале. Скорее отставка донцов Корелу теперь даже радовала. Будто слетали с души, не успев укрепиться, какие-то горы или была отменена в промозглый день невыкликнутая тревога.
Волнение его было даже не о Доне, хотя атаман Корела всегда чутко знал, что без лучших своих сынков Дону вздыхается. (То в полузабытьи, то в невыносимой человеком ясности прислушивания и воспоминания вытягивается и поникает там осока над излуками, и воды, нежнейше оплётшие умные водоросли, некому сейчас заслонить от глумливого плевка проезжего татарина).
Но нет, Корела этот страх гнал, знал: Тихому Дону ураганного прикрытия всегда достанет. Но атаман видел, как его безмятежные, ничего, кроме родства с неизвестным Христом, не признающие братья, что ни день, «обмосковляются»: вовсю уже «акают», без толку частят языком, с прилежанием являются бездельничать на службу, а в свободное от праздного служения-шатания под кружевными бердышами время ловко-мелко приторговывают да улавливают по соборным обедням богатеек-невест – словом, превращаются в обыкновенных граждан вертограда. Вот что казачий атаман плохо мог терпеть, с чем ни сражаться не сумел бы, ни при жизни помириться.