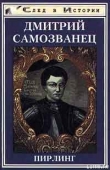Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Самозванец Кн. 2. Окаянный престол
9. И я пошёл к Ангелу и сказал: дай
мне книжку. Он сказал мне: возьми и
съешь её; она будет горька в чреве твоём,
но в устах твоих будет сладка, как мёд.
10. И взял я книжку из руки Ангела и съел её;
и она в устах моих была сладка, как мёд;
когда же съел её, то горько стало во чреве моём.
Откровение Св. Иоанна Богослова (гл.10)
Часть первая
РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ
МОЖНО ОБОЙТИСЬ И БЕЗ ДУЭЛИ
Каждую ночь в Кремле бился огромный костёр. К нему сходились со всех караулов. Костёр слагался из лишённых корней и крон сосен. Лес в избытке вынимали из Москвы-реки и, протаща в Троицкие ворота, бросали у стены – на постановку государева чертога. Отцов деревянный терем Дмитрию уж не годился, а жить во дворце павших воров, с одной стороны, зазорно, с другой – совестно.
И бодро день-деньской от Безымянной башни, не смолкая и в часы соборных служб, шаркали пилы, тюкали лучшие топорики Москвы.
Леса было много, и никто не лаялся на постовых, что тибрят брёвна на костёр. Те и сидели вкруг огня на длинных неочищенных стволах, и в карты играли и спали на брёвнах, и зернь об них чеканили, а потом жгли их. Чуть только свет ослабевал, вставали два богатыря: приподняв один «хлыст», ступали к огню ближе. Жмурясь и скалясь на красивый жар, «хлыст», раскачав, ровно отправляли вдоль других лесин, уже иссосанных с шумом чудесными языками. Случалось, одно или несколько брёвен выскакивало из костра и, веретеном разматывая пряжу пламени, накатывалось на солдат. Караульщики, как лягушата, прыгали, под собой пропуская брёвна, и, догоняя, укрощали их водой из приготовленных бадей. Такое происшествие каждый раз с лихвою возвращало залихватский вид всей то и дело распадающейся и задремывающей компании, попирало тоскливое время огнём и бревном.
Поблизости казалось – столб костра далеко теснит ночь, но треск уходящего в свет дерева, гомон пищальников и казаков заглушались уже в двадцати саженях теснотой построек. Жуткий жар в трёх шагах от кружка пропадал без следа, только сильнее холодили при воспоминании о нём потоки ночи.
Из верхних окон близких важных теремков, на одном ряду с третьим жильём[1]1
Здесь: этаж.
[Закрыть] дома князя Мосальского, этот костёр был ощутим померанцевой дрожью над чернотой тына, отсветом, напоминавшим дождливый закат, жалко мешкающий на земном скользком пороге, чтоб опрокинутой улыбкой присоветовать дождю – спрятать куда-нибудь во тьме свою печаль и верить дальше в свою морось.
– А тихо как сегодня, хорошо. Я вчера на стенах замка думал, у меня голова разорвётся от боя всех этих часовен на тысячу дробин, – говорил гетман Дворжецкий ротмистру Борше на другой день после царской коронации.
– А мне перед закатом показалось, – поделился впечатлением и Борша, ротмистр, – это все добрые мысли вылетают вборзе из моей звереющей башки и изнутри звенят о каску. Ещё бы: все колокольницы били без роздыху дотемна. Здесь необходима привычка. Ведь на Москве на каждый, даже на несильный праздник так. Праздников же у них... – календарь!
При слове «привычка» Дворжецкий полез в колет и достал трубку и ступку с кисетом.
– Меня больше поражает, – сказал он, уминая табак, – что сама Москва как бы не слышит своего малинова содома! Нам приходилось каждому жолнеру разряжать в ухо приказ, тогда как русские – на расстоянии двух сажен московит от московита – только шевелят губами, а всё им ясно – якобы стоят одни в немом лесу!
Дворжецкий и Борша сидели на белокаменной завалинке в тени караульни и смотрели, как их молодые соратники и подчинённые играют перед нарядом в саксонские кегли на короткой травке выкошенного угодья. Посольский двор был огорожен длиннейшими толстыми кольями, и время его укромной тишины прерывал лишь миг соударения вязовой клюшки с кленовым мячом да выклик более трепетного игрока при избытке огорчения или удачи.
– Коронация Дмитрия прошла довольно скромненько, надо сказать, – сказал дальше Борша (на самом деле он не чувствовал особой надобности это говорить, но тем легче и уверенней распространялся). – Наши новые друзья, ландскнехты, видевшие прежние венчания, в общем, подтверждают, что на сей раз обошлось без лишних трат... Конечно, если не считать горящего ковра на пути от Пресвятой Девы Марии до Михала-архистратига да несколько пригоршней золотых стоимостью в иохимсталер, высыпанных князьями на помазанника.
– Так то были казённые, а не карманные их деньги? – удивлённо отпустил из губ чубук Дворжецкий.
– Так, пане. Выдоят кутаные скареды свой кошт! Да личных золотых монет в этом краю и вестись ни у кого не может. Казна чеканит их для обращения промеж царём и венценосными его соседями. По случаю высоких поздравлений, контрибуций, ну, и там...
Дворжецкий почмокал вокруг чубука.
– Тогда вовсе не стоило ничем сорить, – рек он, далеко, до лёгочного днища, затянувшись. – Чуть минула война, разбойные крамолки, рокот[2]2
Смута, бунт (пол.).
[Закрыть] беспредельный, ясно, казна былою полнотой не хвастает, обольстительными закруглениями цифр... – Дворжецкий сваял где-то внутри и ловко из-под усов вытеснил на волю бесшумную цепочку чётко-зыбких дымовых колечек – меньшее за большим, ноль за ноликом. – Добрым ли жолнерам пугливо жмуриться, точно балованным гайдукам, на временный туск блеска русского двора?
Любуясь волнистыми кольцами, из зависти к курившему полковнику Борша тоже заискался в кожах ноговиц, быстро переложил из кармана в карман несколько лепт мызганого неверного металла, пуговицу, репеёк от шпоры, трензельное грызело и достал-таки плоскую бронзовую табакерку. Трубок ротмистр не курил, ревновал втайне к дыму табачному пороховой. Расцепив ногтями табакерку, Борша взял из неё и положил под язык бурый хрустнувший лист.
– Нам ещё с паном ротмистром надо радоваться, – дымя, усмехался Дворжецкий, – и благословлять скупой ум, славнейшую кротость и ярость рачения Дмитрия. Вот уж не по летам!
Борша, блаженно жуя, не возражал на проповедь начальства. Ротмистр согласен был радоваться бережливости царя и запросто мог благословить его скромность: у Борши ведь, как и у гетмана Дворжецкого, тлели ещё за подоплёкой колета непогашенные Русью векселя.
Хотя посполитый отряд, вступив в город, сразу принял кое-какие наличные суммы и поставлен был на редкое довольствие, которое могло быть, впрочем, сколь угодно частым, но самборские, львовские и севские расписки солдат сообщали неукоснительно: царь ещё должен каждому и всем.
Кленовый твёрдый мяч, мазнув о бортовую жердину, ушёл с игрового угодья. За ним повлёкся, небрежно и трудно сгибая колени, голый по пояс гусар, рдея отдыхающим лицом. Но мяч бежал быстрее и легко достиг ворот посольского двора. В ворота с улицы забежал оружный человек, будто охваченный весь языками чёрной злобы. Он с разбегу поддал перначом мячу, и тот помчался, крутясь, вдоль забора. Игрок, без удивления или плохого слова, только мельком покосившись на вошедшего – на привычно безрассудно-пьяного, перенаправил свой бег за мячом. Тогда пришелец издал странный – ещё неясный от густого смысла – рёв, вновь ринулся игроку наперерез, первым догнал-осадил и глубоко врубил меч в мяч.
Иные игроки, со всех сторон площадки наблюдавшие состязание, заступая бортовую жердь, спешили уже к месту недоразумения – на выручку кому-нибудь.
Ярый рыцарь с деревянным мячом на мече как раз овладел голосом:
– Пся креви! – окрестил всех рыцарь. – Будет польску силу на забавный бег да табак переводить! Под носом у вас, под китайской стеной на Чертолье... московские люблинских бьют! Давай подымай всех трубой, кто тут киснет в казармах, на одну свежую улицу их провожу!
– Гей, пан Марцин! – прокричал с завалинки солдату Борша. – Перестанешь заливаться каплуном, дойди-ка до гетмана и дай доклад, как подобает!
Жолнер, на каблуках повернувшийся – на звук чистой стали приказа, различил в тени своих прямых начальников и подбежал к ним.
– Пане гетман, скажи выдуть сбор!.. – заклял он Дворжецкого несколько тише, отчего его играющее сердце, оборвавшись с тона горна, разошлось в дрожливых подвываниях коровьего рожка.
На шум стремились бойцы со всего двора.
– Наперво пан Марцин сферу вернёт владельцу, – указал Дворжецкий жолнеру на оконечность клинка чубуком, ещё не выбивая трубки. – Кремлёвский караул я при любом раскладе в дело не пущу – пусть доиграет партию, пока рыцарь Марцин, заправившись, пристойно доложит о новом Потопе. Так и не иначе.
Гетман полковник Дворжецкий ещё с капитанского звания знал: ростки паники следует удалять с их первых минут, даже в ущерб мнимой срочности ратной задачи. Пожалевший при начале несколько минут поплатится уже всем временем, что остановится в сытых стеблях бурьяна на нолях людского промысла, изрешеченного семенем паники.
Двумя ожесточёнными рывками паникёр заправился и заговорил более связно. Из его рассказа сделалось ясно даже, чем так возмутила Марцина игра однополчан: дубовые кегли в руках московитян на Чертолье были несравненно тяжелей. Впрочем, Марцин так и не смог изъяснить точно, с чего там пошла свалка и за что велась борьба. Он только увидел, что поляки побивают русских, русские губят поляков, и знал: всегда можно положить немного неценных московлян – простых и русских, чтобы полякам жить.
Со временем уяснено точно было лишь одно: вошедшее победно в город воинство сплошь состояло из рьяных исправных мужчин. Им нужны были тысячи женщин.
Хотя по откупным корчмам давались чистые девки с продлёнными сурьмой до ушей болотными глазами и тавром пареной свёклы по щекам, оказалось, что тех девок было мало. Вытные мужи Москвы предпочитали обстоятельную жизнь. Как на грех, иные шляхтичи тоже чуждались покупной любви, они хирели без прицельно-трепетного дамского внимания и развесёлой доблести любовных происшествий, но Москва меньше всего склонна была угодить именно этим требованиям. Балы и светлые салоны были городу безвестны. Проходя по России, гусары часто подключались к дамским хороводам (по двунадесятым и престольным праздникам), но Москва... Щетинистый, путано одеревеневший хоровод высоких ограждений отовсюду отжимал вовне, на улочки-тропинки, басурмана-путника – ни на пядь в заповедный свой круг чужака не пускал.
На окраинах работали качели, перекидывали смелых через голову искусные колёса. Туда являлись веселиться босоногие, плюющиеся семечкой девчонки и даже – под застаранным рядном круто разросшиеся на все стороны – мужние жёны. Но Китайгородские боярыни, боярышни, дьяческие и купеческие дочки – близ освобождённых от «злочинцев» теремков, поместивших воинство, – сутками сидели за хребтами частоколов и клыками хортов – зело молчаливых, внезапных собак.
Из-за оград просачивалось жалостное пение, едущий мимо забора гусар привставал в стременах, тянулся страстно, вскидывал коня свечой, и, бывало, везло: он встречал на миг огромные, запретные, невыносимые глаза, как раз возлетавшие, будто на крыльях игристой парчи... Всю барышню, всю терпеливую нежность её, нечерпано, невозмутимо отстоявшуюся до прозрачности, читал вдруг рыцарь в этом взоре. Забывал польский рыцарь себя и коня на дыбах, шенкеля и поводья, падал с конём вместе навзничь и убит бывал.
А живым всё одно не было хода в тёплые сады. «От веку» не слыхано здесь было ни указа, ни иного уложения, чтобы водить на усадьбу к себе хоть семижды достославного католика. (Впрочем, не пустили бы и православного незваного туземца из Заречья, Юрьева или Торжка). И в палатах никто не помышлял дать всем такое правило – в те времена возлежал ещё, как сам хотел, хозяин-барин на своей лежанке, и ненароком плясали все законы от его печи, а не летали на неё прямой наводкой из Кремля.
Сидючи за частоколом, муж знал: царство-сударство, подписываясь под Судебником и Домостроем, на самом деле только признает и величает его, крепкого хозяина, норов и обычай. У такого сударя и сама сударыня узнавала себя в образе Сильвестровой хозяюшки-рабыни поневоле: что ж тут делать? – не умела выставить вокруг себя, внутри усадьбы, от хозяина ещё один жестокий частокол. Девушки из семей поважнее почти все были розданы замуж за лучших людей как слепые, до самой свадьбы только представляя женихов. Невероятно, но находились счастливые пары или поклонившиеся со смиренным удовольствием судьбе. Разочарование, венчающее сговор-торг и сказочный обряд, в другой раз обесстыживало женственность и выжимало из души её едкую мстительную теплоту. Когда бывал разочарован муж, всю не нашедшую, где полагалось, приюта страсть он сводил в кулаки и вбивал их снаружи в супругу, после бежал по корчмам с ещё потяжелевшим чувством. Супруга за семью задвижками копила и настаивала яд на горечи сердечной...
Но вот она садилась вышить для монастыря на паволоке молодую Богородицу с рассеянным младенцем. Вот она брала у няньки на руки и сама успокаивала грудью малыша, спросонья возмутившегося явью твёрдых теремов. Продолговатый кулёк, клокоча, басовито вопил на последней ступени отчаяния, потом в один миг усмирялся, улыбчиво чмокал под грудью и потом воздыхал, как отдавший все силы, совсем заблудившийся странник. И Богородица, и сама непоругаемая в вечном материнстве жизнь – всё продлевающаяся откуда-то куда-то – утешали женщину.
Всё, что было связано с опасным человеком – мужем, не вдруг, но верно уходило из неё нечистым сном, летучим паром пробованной на пиру жёсткой мужской стопки... И шла повдоль больших конюшен и тынов с таинственной весёлой куколкой та же непорочно-ласковая девочка, мамина и батина, и даже дяденьку-супруга, как могла, любила и снова ждала из далёкой земли не беды, а любви.
Гетман Дворжецкий тоже не видел вначале великой беды, если приведённые им в город жолнеры выставят для начала десяток-другой замаскированных рожков над маковками важных горожан. Так повелось ещё со Львова и Радомышля. Но мог ли полковник подумать, что постец – Третий Рим – сим головным убранством превзойдёт все виданные им города?
Так и поручик Любомир Коткович, худого не желая, прогуливался вальяжно по ленивому Торжку Китая. Внимание его здесь привлекла небольшая, но внятная глазу искусной отделкой каретица, вставшая напротив лотка щегольских дамских безделиц, что у суконного ряда на самом краю. Пан Коткович намётанным оком парящего коршуна различил в тени каретки силуэт цветущей москвитянки. Покуда она разбирала, переправляя за порог, свои неисчислимые юбы-опашни и саяны, Любомир Коткович был уже тут как тут: держал, распахнув настежь, дверцу, предлагал галантно руку, сразу перехватывая ручку «пани» ниже локотка. Незнакомая с явлением сего внимания – внимания половины «пановней» Европы к другой европейской половине, – московлянка чуть не вскрикнула. Обомлев в чёрной тревоге и в какой-то лиловой туманности, слушала его призывное шуршание: «Проше, пекни пани! О проше, вашмосць!» – и не знала, как ей поступить при народе честном – в стыдобе отвалиться обморочно или, была уж не была, упасть в объятия ласковоусого героя? А может, можно оба эти действа как-нибудь совокупить?
Однако ж муж, сидевший возле другой дверцы, которого Коткович, судя по его летам и невниманию к выбирающейся из кареты панне, принял сперва за отца, решил всё по-своему. Не говоря худого слова, муж отстранил к спинке сиденья плоть жены, сам пересел к супруге на колени и... весь вдруг собравшись калачом, поддёрнув к бороде коленки, со всей силы пхнул пана Котковича в щёки серебряными каблуками. Коткович упал, обливаясь кровью. К нему подбежало несколько гусар его хоругви, смотревших товары поблизости, поставили на ноги. Шатаясь, поручик схватился за саблю, ни о чём уже не мысля, кроме поединка, но каретный возчик шумно прокрутил над головой кнутом – клинок, звеня, улетел под прилавок. Муж уже надсажался, со своей стороны возка высунувшись бородой на улицу: «Идите всё скорей глядеть, как наших жёнок в полки умыкают! Ратуйте, вставайте на Литву недокрещенную, единоверцы! Подмогните, братцы, против босорожих!» Русские ухарцы кинулись на призыв, перепрыгивая через лавки, хватая что придётся в руку – колуны, жердины, масляные новые замки на кованых цепях, мясницкие ножи... Выворачивали оси из телег, из кадей выбивали крышки, приноравливая их щитами. Поляки тоже бросили свой отчаянный клич, на выручку к ним тоже стали пробиваться отовсюду, заполаскивая саблями, паля из пистолей пока только поверх москалей. Несколько государевых стрельцов, ещё не уловив, из-за чего сыр-бор, только крутили в разные стороны поломанными колпаками и жались ближе к своим бердышам – ждали ума сотских или объезжих голов на подмогу.
К той поре, когда Марцин Казимеж, едва дышащий в восторге белой злости, добежал до гетмана Дворжецкого, побоище с базарной площади перекинулось уже на прилегающие улицы. Хорошо вооружённые поляки, войдя в раж, сперва потеснили базарный народ: Москва отхлынула от них, будто глубоко увела дыхание, и вдруг выдохнула смерчем – одним крутящимся бревенчатым обвалом родных стен. Поляки стали спешно пятиться к своим казармам.
Отослав вестовых в Кремль, Дворжецкий поднял и на площадке для игры в мяч выстроил, как на плацу, всех оказавшихся в расположении: большую часть получившегося войска с аркебузами и мушкетонами пустил – грузными птицами на насесте – рассаживаться по ограде, часть меньшую отправил поддержать отход своих, рвущихся сквозь укрепления Москвы.
Ждать потом прибытия и своих, и чужих пришлось недолго. Бешено облаивая и кромсая враг врага, все явились перед тын посольства. Тогда по приказанию Дворжецкого отряд, торчащий на тыну, взял на прицел самую толщу московлян, ещё придерживая над затравками тусклым пунцовым шёлком играющие под солнцем фитильки. Орущая толща увидела и осадила, но московская плоть здесь была так густа, что не могла быстро отпрянуть, сховаться за спасительный поворот улицы. Вязнущей судорогой только ещё больше стиснулась и вся, затылками наружу – к крепости посольства, обмерла.
Но залп не гремел. Отступающие трёпаные поляки в этот миг влетели в крепость и закрыли тяжкие ворота за собой.
Московляне, обнаружив над собою воинский подвох, вновь развернулись, и на вдохе припасённая, но не успевшая сбыться, как надо, в ударах, тяжесть их духа дала вдруг всем языкам творческую мощь.
Через час вокруг посольского двора набралось уже около тьмы московитого люда.
Ещё через два часа вся улица возликовала и стала редеть – из Кремля прискакал царский указ о наказании гусар, виновных в избиении народа. Несколько глашатаев пообещали: ежели лях ослушается слова государя, государь к его двору подгонит ломовых единорогов и пошлёт гусар в их крылатых бронях полетать в пороховых облаках.
Польские начальники – уже под свист и гогот расходящихся по своим трудам туземцев, у которых указом царь снял камень с сердца, – проскакали на высокий суд.
Ещё с Никольского мостка заметили меж каменными чайками, на забороле[3]3
Верхняя площадка на крепостной стене или башне.
[Закрыть], жарко выряженную ватажку, лисьи шапки.
Въехав в ворота, сразу спешились у башни, занырнули под железный ворот, побежали, обметая рукавами сероватый мел веков с зернистых выступов, наверх кружащимся гуськом, мимо слепящих толстых стрельниц.
Вокруг царя сбились уже на коленках челобитчики московской улицы, выборные кустарного, торгующего мира.
– Больно глядеть, Станислав Вацлович, – не отвечая на приветствие поляков, не подав, как обыкновенно, каждому руки, обратился царь к Дворжецкому, – какая пагуба внизу творится... – повёл за бойницу рукой.
Дворжецкий изумлённо воздел брови. Подойдя вплоть к парапету, перегнулся через камень – специально посмотрел отвесно вниз. Увидел лопуховник и осоку вкруг затянутого лягушачьей пеной рва, в жиже преющую ветошь, широко посыпанную шелухою тыквенного семени.
– Твоя правда, кесарь, – отвечал, выпрямившись. – Ров не чищен со времён царя Бориса! Русские метельщики ленивы и, пока не ткнёшь их бородою, ничего не сделают.
Теснящиеся около властителя дали сиплый отзвук и переступили на коленях.
– Ров-то рвом, – хмуро сморгнул Дмитрий. – Спасибо, вы, друга мои, в бороды им тыкать не ленивы, – жалеючи, погладил ближнего к себе посадского но светлой, остриженной под чугунок голове. – Панове-ляхи думают: кесарь милых его сердцу подданных так каждому в обиду и даст? Али чают – по старинной дружбе за головничество ни с кого не взыщется?
Государь щурился и устанавливал лицо непроницаемо.
– О, коли великий кесарь говорит об этой маловажной свалке, – Дворжецкий, как бы слабо вспоминая, повернулся к капитану Иваницкому, стоявшему с отбитой и подвязанной рукой, – коли кесарю так надо снизойти до уличных препон... – и тут гетман будто глотнул свежего воздуха, наверно иссякнув придворностью, – так ему не худо бы сначала разобраться, по которой из сторон грустит плеть! Не воинство ли пострадало?! – указал опять на покачивающегося в какой-то дрёме Иваницкого. – Мы отдадимся на московский суд, но лишь коли кесарь на свою орду положит ту же тяжесть приговора.
– Ах, лях, – челобитчик, обласканный царской рукой, с коленок сел на пятки от недоумения. – Разве же ваших жёнок мы трясли? Пулей секли вас, дермяшки?!
Государь снова провёл по его волосам дланью и с вопросом посмотрел на гетмана Дворжецкого. Выборный обвинитель возле стоявшего на ногах царя твёрдо упирал в камни колени, а поляк переминался вольно, не собираясь даже слабо надломиться в поясе: тем паче истец говорил гневно и непроизвольно тянул шею, как кот, требующий на каждый миг хозяйского оглаженья.
Гетман не почтил кустаря взглядом: ответствуя на обвинение, смотрел на одного царя.
– Нам думалось, сиятельному кесарю отлично ведомо, что простые рыцари, шедшие с ним от самого Самбора, не насильники. С той поры, как мы пересекли русский рубеж, ни один пункт – даже Путивль, где мы стояли без небольшого два месяца, – не подал кесарю кляузы по такому куртуазному вопросу.
– Ещё бы, – усмехнулся Дмитрий, вспомнив тамошние жалобы. – Панство под мои расписки так завтракало в этих областях, что у них на куртуазность нашу зла уж не хватало.
Дмитрий глядел устало, отчасти шутил. Дворжецкий царя понял и, не торопясь, продлил мысль:
– Может, зла бы и хватило, дай мы повод... и не дай им ветеранских привилегий. Коли ясный кесарь не озлится, я существо поясню. Там, на удельной глубине, народ как-то поскромней. И даже меж собой живёт любовней. А на поверхности столиц, под золотыми бубенцами, все – от калашника до шорника – носы дерут и доли ищут, – кивнул полковник на кота-кустаря. – В женитьбах видят способ к размножению... – царь при этих словах гетмана придержал жестом нетерпеливо ухмыляющихся внизу челобитчиков, – ...размножению богатства и строений, к приподнятию высоты рода. Так диво ли, что женщина благоволит к первому прохожему бойцу, который в ней имеет... не тысячу химер цивилизации, а её самое, нам данное природой? Конечно, и в провинции прекрасный пол заглядывается на моих солдат, а всё ж там гулёж не имеет покуда такого машистого шага. Тамошней бабе некогда мучиться в перинах безделья. К иной подойдёт волонтёр, а она, даже если посмотрит сочувственно, тут же спохватится по сходству, что у ней корова недоёная.
Царь подавил тугую змейку на губах, истцы багровели, уже большими медвежатами переминались у царя в ногах: играючи могли в прыжке разодрать боевого полковника.
Дмитрий тихо, длительно напрягся.
– Сразу видать, пан тоже выплыл из глубокого местечка, – угадал он. – Признайся, Вацлович, когда-то Краков тебе крепко насолил? Вот задаёт гетман нам, столичанам, перцу! – толкнул задорно одного челобитчика, и все истцы полегли карточным домиком. – А у самого под кольчугой поджилки трясутся, ишь, колечки звенят! – Дмитрий ласково, с незримой, но отчётливой угрозой слегка побарабанил ногтями по пластинкам на боку Дворжецкого.
Гетман, приосанясь, опустил глаза.
– Ну, делите баб не вы первые, не вы последние, – остудил тон Дмитрий, оледенил глаз. – Но пошто ж, мои шляхетные, на безоружных оружных пускать?!
Тут латные груди капитанов впрямь скрежетнули от возмущения. Вперёд шагнул раненый Иваницкий:
– Видел бы кесарь этих безоружных! Счёл бы легион дубья их! И вся эта дубрава против горсточки иголок с польской ёлочки!
Царь подсел на корточках к своим:
– Ну-тка встанем-ка, давай-ка, хватит кувыркаться. Гляньте, виноватый иноземец прямо, крепко стоит, а свой и правый растянулся на стене – меж неметёными зубами тут...
– Царю-любый, не встанем! – отвечали челобитчики. – Пока ты стоишь, нам лежать. Сядешь – подымемся, благословясь. Ляжешь – из кожи воспрыгнем, а возлетим!
Дмитрий присел тогда на уголок стрельницы, а истцы с удовольствием, но с прежней суровостью лиц встали с камней. Один в рост получился на две головы выше царя, ветер сразу же запутался в его кудрях, за плечами его проходили белые невозделанные облака, а чуть ниже парили гирлянды и гроздья и отдельные полушары церквей московских.
– Царю светлый! – заговорил великоросс. – Только ляху не вели твою пресветлость и темноту нашу в сумление вводить! Он вроде и по-нашему, да на свой лад лает! Как мы из человечков в люди вырастали – от малой лавчонки в гостиную сотню, с городовых дворян до выборных, – не псов-рыцарей это печаль. И с какого боку дурочек своих нам к делу примостить, уж не спросимся у пана-драна!.. А ежели наше бабье с гусарьем ихним шкодить почнёт, выучим, как нонича, – и жён, и всех свистунов железных – истинному правонравию!.. Царя на подмогу возьмём! – Великан горбился, стараясь войти гетману прямо в глаза – под каску. – Неча со своим свиным содомом в третий ряд, аки в калашный Рим!..
– Аки каки? – переспросил Дворжецкий.
Чтобы не задирать к высоченному подданному головы, Дмитрий глядел чуть в сторону – на храмы. Плеяды куполов вдруг обернулись перед ним обыкновенным, только перевёрнутым клубнями вверх, огородом. Округлые, тусклые с одной стороны корнеплоды – позолоченные луковицы, чистые редиски и голубые морковины были посажены в мягкое небо как будто недавно и на вид ещё не имели с ним соединительных хвостиков.
Дмитрий заверил челобитчиков, что царь на помощь царству завсегда придёт, и велел передать всем, кто прислал их, что ни Польша, ни Литва не убегут кары – злочинцев он засудит по закону. При сих словах царь встал с угла бойницы – стоять истцам долее было нельзя, хотели снова пасть плашмя, но царь уже прощался с ними, и посему всё, чтобы не менять обычая, поспешили к лестнице в ближней башне.
– Ляхам своим, государь, не верь, будто они нас так боятся! – успел предупредить Дмитрия уже на ходу рослый кустарь. – Наши кувалды сильны, – приподнял он окоченевший сдобой кулачище, – да тупей ляхских шашек, и лёты их пуль длиньше жердей! – закончил он с обидой, последним шаг за шагом уходя в башню.
Капитаны спустились во двор по другой лестнице. Им было предложено почухаться немного возле лошадей.
Станислав Вацлович присел на тёплый красный камень рядом с Дмитрием.
– И я должен отдать боевых друзей под батоги? Подсадить сам на дыбу, на кол, или как твои вандалы понимают суд?.. Нас эти люди обучают благочинию! – Дворжецкий раскрыл перед собой и напряжённо всколыхнул ладони, точно с минуты на минуту ждал в них игральный мяч или ядро, начиненное сплошь «благочинием». – Видел я их благочиние! Выбросятся нагишом из общей бани – бултых в реку. От пару по-над берегом туман, а внутри – хохот, мат... Кто плещется, визжит, кто уже грех замывает, кто нырком ещё охотится по-щучьи... брр-р-р!
– А ты откуда знаешь? Над рекой же туман – со стороны не видно, – прищурился Дмитрий.
– Но я... но... – сказал полковник.
– Да это казённые мыльни для голи, – продолжал кесарь всерьёз, будто и не подловил сподвижника. – Чуть справней хозяин – своя банька во дворе.
– А куда заезжих дельцов денешь? – попробовал ответный выпад гетман.
– А забредших бойцов? – нанёс царь укол в ту же точку.
Какая-то мысль, очевидно вызванная спором, заставила помолчать Дворжецкого. Одно время он просто смотрел в лица стоявших чуть поодаль и прислушивавшихся советников, Мосальского и Голицына, – те даже немного отвернулись. Потом Станислав Вацлович сказал:
– Взять хоть давешнюю свалку. Как вышло бы, к примеру, в том же Кракове? Оскорблённый пригласил бы хама за угол, повертели бы клинками, одного друзья зарыли, всё. Нет, здесь не так! Здесь дело понимается сложней и шире: либо драка во всю улицу, либо с плачем бегают к царю.
– У-у-ум-м, – Дмитрий чем больше Дворжецкого слушал, тем безысходней горбился на камне. Царь вдруг вспомнил, как года два назад сам маялся, пристыженно мялся, кипя внутри матерно, в полонских бальных залах, и теперь точно ощутил, что бой из-за несходства двух подходов к женщине – это цветочки. Царю представились жестокие баталии между Москвой и его старой гвардией по поводу ведёрных мер, святых каждений, адова жара упомянутых Дворжецким бань, сурового духа чесночных излишеств и всерьёз переведённых игр чужого языка.
Дело ещё усугублялось тем, что одна сторона почитала себя праведнейшей, а вторая – умнейшей. Конечно, можно легко доказать праведнику, что он – великий грешник, а умника укорить, что дурак... Но стоит ли уж так?
Дмитрий спросил гетмана, с чего, по его мнению, сегодня всё началось. Дворжецкий вкратце поведал о галантности Котковича.
– Заруба по столь мизерной причине? – не поверил, выглянув из-за соседнего зубца, Бучинский.
Но царь верил и кивнул за гетмана.
– Мелочность повода – ручательство, что зло копилось. Мне этот кососаженный детина перед твоим выходом, Станислав Вацлыч, говорит: «Ляхи-де гордые больно, гордо ходят, гордо ездят, пьют, нужду справляют гордо. Мы-де по обычаю отцов после обеда спим, а они песни среди улицы орут – нарочно. Стрелец наш, мол, с бердышом – только в наряд, а этот и на базар прётся с шашкой да с пушкой, пожалуй, с таким поторгуешься. Нет, не иначе лях так понимает, что он наш город на войне захватил, что мы дома теперь как не хозяева. – Дмитрий почесал в затылке, лицедействуя. – Нет, што-то гордые больно. Казачок и тот проще, больше нравится, ей-ей. А литвин – нет, горд очинно». Я уж ему говорю: «Мил человек, лях навсегда от рождения гордый, чуть-чуть как бы в детстве уроненный. В торжестве он такой, а проиграет – будет вчетверо гордей». Да не знаю, вряд ли я детинушку разубедил. – Царь улыбнулся тревожно Дворжецкому.
Станислав Вацлович, как истинный военный, мог долго хладнокровно созерцать любой бардак гражданских устроений, но, «по доложенным фактам» решение принимал мгновенно.
– Прикажу так, – сразу взял он в оборот все сведения. – Убывая в город, никому, кроме палатной стражи, оружия не нацеплять. После обеда – учения, сон по тревоге. Дьяка Сутупова в учителя-капралы дашь. При следовании Москвой – равнение на сапоги, по-холопски, попроще... И с барышнями прикажу, чтобы поосторожнее. В ночное время выставлять на стрём посты...