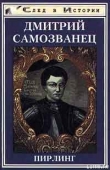Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
МАМА
На берегу одной северной русской протоки, на скате бугра, кажется, каким-то чудом держится ещё, помалу слезая к воде, теремок.
Мелкодворянские такие теремки обычно ничем неотличимы от соседствующих с ними изб разоряющихся время от времени лотошников или благополучных крепостных крестьян, но этот уж что-то особенно ветхий. По сравнению с пристойными соседями, всходящими вверх по горе, это какой-то встрёпанный задира, отовсюду изгнанный, но выдержавший норов и смело открестившийся и отворотившийся от всех.
«Зубы» угловых креплений, подгнивая, ослабели, валятся из «лап», и сруб из-за вётел щербатой – то, кажется, едва сдерживаемой, то уже преувеличенной – ухмылкой провожает всякого прохожего.
Ряд косящих ставен беззаветно сер – ни памяти покраски. Вёснами под тяжестью сосулек из-под шапки облетают кудри русой кружевной причелины[35]35
Висячая резная доска по краям кровли.
[Закрыть].
Два последние лета и крыша обессиленно текла – в горницу и на мост.
– Вот то-то и есть, матушка! Царь да нищий – без товарищей! – сказала кабальная баба Каздоя Олсуфьевна, с крыши принимая у своей дворянки тощий тёс. – Эх ты, бабёнка без ребёнка! Слепой кутик и тот к матери ползёт, один твой по чужим дворам лузгает!
– Да уж полно, старая! Гвоздя не вобьёшь нетто?! – осердясь, тыкала снизу доской старушка госпожа. – Ты ли, Олсуфьевна, не знаешь, что не своей охотой всюду мыкается он?! – Дворянка вмиг вдруг понизила голос и теперь кричала наверх шёпотом. – Пристав и давесь всё вокруг избы-то шнырил! Уж тако бедство, тако...
Олсуфьевна хваталась за тесину и шипела тоже:
– Да потише, потише, матушка, дощицы-то пихай. Сковырнёшь вот меня и последней прислуги лишисся. И без того тут сижу ни жива ни мертва... Где это привидано, Анна Егоровна, чтоб баба крышу латала? – И, отползя с дощицей и соломенным пучком подалее от края, снова бубнила своё: – Он мыкается... Перепрятывается да бегат... Неча было к неслухам царёвым в службу поступать, к шишголи всякой... Тоже герои Романовы, братья-бояре! Волки белозерские!
Олсуфьевна, широко отмахнув молотом-киянкой, разносила кленовый крепёжный гвоздок, как орех, и, омрачась, скорей соломой и щепой законопачивала паз.
– Уж после времени ты больно смышлёна! – приглушённо расходилась внизу сердцем старая хозяйка. – Всех князей-изменщиков раскрыла настежь! А ну определяй, ведунья, враз, в которо место оттоль брякнешься, я соломки подстелю!
Олсуфьевна невольно взглядывала вниз, но уже без особой опаски: страх выси скоро проходил – там, внизу, вокруг вдовы-дворянки, как на муравленом блюдце, близко зеленело древнее начавшееся лето, и к Олсуфьевне протягивались частые ярко-жёлтые цветы.
В кометный год сплошные смутно-охристые воды летели под гору сквозь двор вдовы, хлеща в погреб-ледник и подвал. А «на-заверх-сыт» страшный сырой кус суглинка сорвался чуть выше усадьбы с родного своего утёса и, выдавив двери и низкие окна, прямо въехал и заполонил собой дом. Если бы дальше склон не был закреплён рядами глубоко вкопанных брёвен на продольных крючьях, и сам дом уехал бы совсем. Но тогда теремок устоял – запечатанный, как пряник, в глине, извне и изнутри.
Чуть ливневое лето кончилось, Анна Егоровна с Олсуфьевной почти без упования воззвали из слуховых верхних окошечек о помощи к соседям – такому же отчаянному старичью, как и сами они.
И тут пошли являться чудеса. Откуда-то явились для начала четыре здоровенных монаха и, благословясь, широкими лопатами засветло вынесли всю глину из вдовьей избы. На другой день мощные монахи вычистили дворик, а на третий день перелатали крышу под белую солому пахучею сладко драницей, терем – «епанечно», клеть – «6очечно».
В смятении душевном вдова наскребла бедняцких даров почестнее и прибрела с ними к ближней обители.
Игумен кротко отклонил скоромные подарки и вдове сказал:
– Сыне твой, дочь моя Анна Георгиевна, ноне иноческий чин приял. А так как в наш в богоспасаемый сад он подался, и тя, стало быть, хлопотам Божьим препоручил! Раз так, сие есть дело совести нас, слуг Господних: матерь дальнего нашего брата всемерно соблюдать.
Выспрашивая жалостливо и дотошно игумна о сыне, мать с невозможною радостью узнала, что сын, прощённый за ослушание и воровство прежних своих, неудачных, господ, ныне призван в Чудов монастырь для своего наивернейшего спасения. По-видимому, он уже спасён, бо у самого Иова в уважении и обожании – так игумну сказал инок-причетник, ходивший с отчётом в Москву.
Только поуспокоившись, Анна Егоровна всё поняла, откуда ей такой почёт от здешнего архимандрита.
Вскоре по ямской гоньбе мать получила маленькое письмецо от сына, в три вершка исписанной бумажной ширины. Анна Егоровна пересказала всем соседям, по три раза на дню перечитывала вслух неграмотной Олсуфьевне выведенные прилежно, с прежней детской ласковостью закруглённые вокруг неё – объятиями – строки, но... уже чуть покривлённые от какой-то невнятной мужской скуки. Мать и ночью вставала – под светцом ещё раз осмотреть сыновьи буквы. Никак не понимала, что опять с её ребёнком приключилось, велик ли гнёт на душе у него?
«И куда его всё выспрь кидает? – прохватывало ей дух. – То к высоким боярам в работу прошёл – чуть потом из-за их озорства сам на цепь не сел! А нонесь ходит подле первого архиотца! Уж на этакой-то круче Иисусе Христе упаси от какой тихой спотычки – ухнешь так, только в ушах засвистит, ещё острог покажется чертогом!.. Ох, отмолился бы лучше от этих владык и преподобий, пока можно! Так и скидал бы свой подрясник пролазной, а то я и внуков теперь не потискаю с ним!» – забывалась, досадуя, Анна Егоровна.
Однако хотя мать и опечаливал холостяцкий чин сына и ужасали его неуклюжие прыжки по зыбким бархатным приступкам стольной службы, где-то с другой стороны души она была очень горда, довольна и озарена долею сына, цепко обосновавшегося в белокаменной Москве и даже преуспевшего в Кремле краснокирпичном. И одновременно с суеверной робостью от сыновьей сановной высоты Анне Егоровне всё-таки верилось в могущество своей ночной молитвы и уповалось ей, что всё у сына наконец наладится и впредь будет пусть трудно, только бы лестно и хорошо.
Чем более горбилась и ниже садилась её лачужка, тем выше сама Анна Егоровна задирала нос перед соседями и всем деревенским Галичем-городком. «Терем мой песочком изнутри помыло – только чище стало!.. А толку-то, что у этих недоросли-переростки по печкам сиднями сидят?! – нарочно думала она о домовитых соседях. – Толку-то, что под зад их, камень сидячий, и вода не затечёт?!. Вон же, – оборачивалась мать осенью к серой тугой струнке, чисто и высоко отзванивающей наперевес света небесного. – И журавель своего тепла ищет... Хоть в Орде, да в добре... А здесь только и званья, что город: восемь улиц на горке, а хлеба ни корки... Нет! Как Лазаря, матушка-репка, ни пой, всё одно – московской чести отсюдова ближе Москвы не найдёшь». Под одним понурым сводом неизбежности Анна Егоровна примиряла и оправдывала сыновье важное опасное добро и своё незначащее худо. Анна Егоровна, кроме того, успокаивала душу небольшой надеждой, что тревога о её благе как-то сопутствует дальним делам или стремлениям сына и в некоторых его планах она тоже где-нибудь подразумевается.
В конце лета, продав кое-что из украшений перехожим скупщикам, мать уж совсем собралась было в Москву, в гости к сыну, но как раз от него пришла весточка. Сын твёрдо обещал приехать на побывку с ямской почтой под Георгия холодного, уже вот-вот. Анна Егоровна стала готовиться к встрече: снесла на торг пять вёдер репы и купила на выручку мёда и белой муки для пирогов и кренделей. Также насытила мёд недоспевшим крыжовником и щавелём, который только и удался этим летом, – сие яство сын всегда благодарно приедал.
Вдруг спохватившись, отёрла пылевой пух под налойцем – с книг. По утрам при отчётливом у оконца свете принималась за чтение. Дерзнувшая осилить «Индикополов» и Златоуста, мать мысленно шла по следам своего малыша-черноризца, причащаясь последнему слову благочестия, ставшему его новым игрищем и поприщем. Теперь-то отшельник-сын скоро не затоскует от неё, докучливой и глупой, на простой своей родине по жуликоватой чужбине. Хоть погостит дома подольше.
Олсуфьевна требовала, чтобы барыня-подруга всё читала вслух: она боготворила и могла часами слушать разные благие чудеса, деяния и поучения, так же как бабьи базарные сплетни.
Но вот Анна Егоровна вычитывать помногу не могла. Частые вьющиеся буквицы долгого слова сплетались для неё в один непроходимый дикий куст, и она на месте истинного писаного слова мыслила другое, хотя и немного похожее. Но Анна Егоровна знала себя образованной и чтимой женщиной, кроме того – преподобным слогом как ударить в грязь? – она так без запинки и знай читала Олсуфьевне всё подряд – настоящее с присочинённым самовольно.
А для Олсуфьевны так даже милей было – ей только бы поудивительней и непонятней. Так что вольное переложение канонических текстов во вдовьей избе, по утрам и в часы полуденного отдыха, быстро подвигалось.
С последней грамоткой от сына ямщик переметнул через забор вдовы во двор небольшой, но весомый бочонок – со свинцовыми печатями по днищам. На одной стороне свинца над ликом Богородицы был оттиск – «матёр деи...», а на обороте – «Иов, патриарх Московский и всея...».
В бочонке, оказалось, прислан монастырский мёд. Изнутри, с отбитой крышки, отлип крестообразный серебряный ков, ещё не прокованный толком и не огранённый ювелиром, очевидно взятый где-нибудь между кремлёвских мастерских. В прозрачной патоке были видны вмурованно зависшие ещё два таких слитка... На это серебро можно было жить в тепле и сыти хоть пять лет, но Анна Егоровна всё-таки прибрала кресты: на добрую память и от греха подальше...
Сын всё не ехал. Уже и двухнедельные Георгиевы праздники прошли – для матери полные тоски и тряски ожидания. Ещё месяц теплил какую-то отчаянную веру в неожиданную встречу, особенно счастливую от небольшой задержки... На Льва Катанского мать перекладными достигла престольного града и Чудова монастыря. Легко перекрестила соборную пядь молодыми глазами в дряблых мешках: дорогой она почти не спала, впиваясь во все встречные дровни, каптаны и розвальни и в пеших заснеженных иноков, храбро шагающих на русский северо-восток, – иначе можно было разминуться с сыном.
Из каморы Чудова скита к Анне Егоровне выплелся свёкор, старец Замятия, и сразу замахал печальными руками:
– Ушёл, ушёл! Как вызвездило, так с ползимы и ушёл! Незнамо и куда! Рассерчал на патриарха, что ли...
– Правильно сделал, – чтобы тут же не расплакаться, обрадовалась мать. – И правильно... Так лучше, лучше... Я ужо ему говаривала: не держи двора возле княжа села!..
Замятия предлагал снохе погостить на Москве пару деньков. Он бы выхлопотал ей каморку для приезжих в Воздвиженской женской обители – там у него сведено камилавочное одно знакомство... Анна Егоровна, отказавшись от всего, поехала домой – притихнув и съёжась на вылинявшем до холодной лавки медведне в углу возка. Только Замятию обязала: чуть узнает что о внуке, ей вмиг отписать.
Следующий год заметных изменений житью Анны Отрепьевой не принёс. Нынешний неурожай был милостивее предыдущего, цены добрей, а Анна Егоровна с Олсуфьевной переносили и не такие удары-дары и обиды природы. Живали и при Иоанне Грозном, который был сам по себе неповторимой стихией.
В это лето только ласточка не свила уж гнезда в пазу прочно законопаченной чернецами крыши, да чей-то хряк, проникнув в огород, выкопал морковь на двух грядах, да податной городской воевода раз верхом тихой ступью, с челядью, проследовал той улочкой, где стоит вдовья изба, заглянув в самые её окна, чего до этих пор не бывало. Потом какой-то малый в соловом полукафтане и козловых сапогах как сел на лавочку под окнами соседнего порядка аккурат против вдовьего двора, там и сорил окрест себя тыквенной семечкой целыми днями.
Анна Егоровна сначала думала, что это какой-нибудь купчик или зажиточный чувашский старшина, влюбившийся в девку, благодаря тороватой родне упускающую в теремке над завалинкой лучшее время замужества. Предположения Анны Егоровны подтвердились, когда с наступлением холодов купчик совсем перебрался в противоположный дом. Стало быть, его признали женихом, и теперь его спокойное широкое лицо, ложащееся вплоть к подслеповатой слюде соседского окна, смотрело на Анну Егоровну.
Но время шло, на том порядке свадьбу всё не играли. Анна Егоровна стеснялась расспросить об этих сокровенностях людей. Ей уже думалось, что это никакой не ухажёр, а видно, так, далёкий свойственник, причём лодырь и захребетник.
Всё лето мать встречала сына: в саду, бережно раздвигая над тропинкой ветви, она не торопилась обирать ягоду – сначала смородину, после малину и вишню. Надеялась, что сын успеет поесть, как ему любо – с куста.
Но и яблоки вот повалились. И Олсуфьевна по таркам их, по срокам годности, червивое от битого разобрала.
От Параскевы Пятницы и до Казанской бродили по дворам нежирные пиры, раздольные песни вываливались из ворот и покачивались меж заборов: Галич потчевал своих отважных мужиков, воротившихся с воинских ратей из-под Ливен. Стоя всё лето там, хотели дать отпор Серебряному хану, а не то, может, другому кому (татар-то в тех степях уже лет двадцать не видать).
Анна Егоровна смотрела и не верила, что и с приездом её сына всё шло бы в этом поселении тем же унылым чередом – веселье, сделки, посиделки, трудный роздых пьянства и сны беспробудного труда...
Когда примчался государев скоросольник, галичанам оставалось ещё сутки гулять. Хмельных городовых дворян, как мягкие тяжёлые кули, забрасывали на коней, толкая под гузна и голенища, сами трезвея и матерясь, их боевые холопы.
Кто надев колонтарь[36]36
Доспех из металлических пластин.
[Закрыть] шиворот-навыворот, кто – шлем передом назад, взяв копья остриями в землю, галицкие ратоборцы прокляли неурочный наряд и, гудя дебелыми шмелями во хмелю, сея по дороге за собою плётки, варежки и стрелы, кое-как порысили на Брянск...
Пошла Анна Егоровна к заутрене и слушала певчий стих о другой Матери и другом Сыне, также оставившем мать, и странствовавшем по осенним хлябям, яко посуху, а там и вовсе канувшим куда-то в ливневые небеса. По пути он выручал, учил и звал с собой всех остальных непосед-детей, и, чтобы от своего младенца не отстать, мать его вскоре стала всем горюющим родителям заступницей усердной.
– ...обременённых грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе... – пел без размышлений наизусть ризный дьякон в Царских вратах, но потом он всё же приоткрыл небольшой, как будто номинальный, свиточек и, развернув устрашающе голос, повёл: – Погуби, Госпоже, Царица и Владычица, Скоропослушница Всечестная, Крестом Твоим борющия нас врази, яко исчезает дым да расточатся...
Ризный дьякон гремел, косясь в памятку, которую держал в опущенной и даже вытянутой во всю длину длани. Стоял, даже назад клонясь, так прямо: может, скрывал от прихожан худость памяти, а скорее всего, письмена начинал различать только с такой дали, не ближе. Ссутулился бы он немного – всё, ни буквы бы не прочитал.
– Яко воск тает от лица огня, да сгинет от Твоего гнева святаго василиск и аспид, лев и змий, вор и чернокнижник Гришка Отрепьев, расстрига, анафема!..
При сих стихах голос певца вдруг пустил причудливую трещину, и дальнозоркий дьякон над туманом ладана упёр ошалелый взор в низенькую прихожанку, побелевшую под семисвечником у жертвенника.
Анна Егоровна не помнила, как и дошла домой. Не замечала, что горделиво идёт одна по своей улице под лубяным оком притихших усадеб, а появляющиеся изредка из переулков знакомцы тут же хоронятся в прозрачных палисадниках, и даже местный пастушок, вдруг зачастив бичом, спрятался со стадом в боковом прогоне.
«Да что это деится?..» – с лёгоньким, покалывающим ледком при сердце пала перед домашней Пречистой – звать её оборонить сына от приходской жуткой Царицы, выставленной на его погибель.
«Ведь только с нашими зверями развязался! Когда ж он с польскими языцами, казацкими князьями да зарезанными воскрешёнными царевичами познакомиться успел?! – путалась Анна Егоровна. – Не зря он всё это? Не грех ли темнейший? Ты-то, Всесветлая, ведаешь, да нам ли знать? Ты уж не осердись, убели беззаконие его. Уж такой он у меня слабодумный да шалапутный: всякий мерзавец-медолюбец куда ни поманит, а наш уж и рот раскрыл... Ты, Дева Присноблаженная, с меня взыщи, бабёнки неподобной, что родила дитя да на твой путь не наставила!.. Но только он прежде всегда почитал тебя, Благая Мати, и «Отче наш» и Символ веры без сиотычки отвечал...»
Если бы Анна Егоровна днём раньше сведала о бедственной анафеме на Юшу, повисла бы на стременах уходящих на юг ополченцев, изломала б им все стрелы по одной или зажгла лес у них на пути, но не допустила бы их налететь на сына.
Она и теперь кинулась бы им вслед, если бы не «ухажёры» с противоположного порядка, которых уже стало трое. Все в одинаковых соловых кожаных охабнях, они перешли через дорогу и без спроса и молитвы вошли к вдове в избу. И наказали Анне Егоровне настрого: не выдумать куда с посада съехать и без ведома их от дома дальше сорока локтей не отступать.
Один – тот, что первым начал лузгать семечки в виду её окошек, – вовсе поселился было у вдовы для приёма всех её гостей, но скоро разведал нехитрый обеденный стол у дворянки-стрельчихи и, словом не попрощавшись, перешёл опять в соседский дом. И оттуда «ухажёр» легко мог примечать всех заходящих к своей «ненаглядной», но так и не приметил никого. Даже лучшие её товарки, кумушки и сватьи ходили теперь далеко. Даже кабальная Олсуфьевна вдруг отпросилась у хозяйки со двора – у неё на другом краю Галича занедужил старый деверь.
Анна Егоровна осталась одна в неожиданно разросшемся, молчащем срубе.
В первую же пустынную ночь она хотела бежать к сыну, наплевав на запреты всех на свете ярыжек и воинов, но, посидев перед дорогой, опамятовалась. Ей ничуть не верилось в своё исчезновение на неоглядных, быстро охлаждавшихся пространствах, но нельзя бросать дом, тогда некуда будет вернуться Юшке из сибирской каторги. Если и она, вдова государева стрельца и дворянина, уйдёт, и не будет жильца-караульщика, конечно, терем загребут в казённый обиход или себе перетянут ушлые соседи. И Анна Отрепьева осталась сидеть дальше в своём городе, как в лесном скиту, – с одними образами, на водянистых щецах, отрубном блине.
В неделю раз, с позволения ярыг, выходила она – схимонахиней из своего ущелья на общее причастие – в церковь Хамовной слободки, где её мало кто знал. Анне Егоровне главное было удостовериться, поётся ли ещё анафема на погибель сына: если поётся, то ясно одно – её ребёнок на свободе и здоров, непоколеблен пока что ни пьяными воинами, ни похмельными ионами, – значит, Бог даст, не дастся в железы им и присно, и никогда.
Ставя свечки, Анна Егоровна тихонько умоляла приходскую Богородицу и всех уважаемых, сильных, святых и дальше не прислушиваться к искушению диаконов, подначивающих святых на строгость, – все дьяконы в литиях воинствуют без чувств, только по долгу чина.
По утрам Анна Егоровна тщательно соскребала тяпкой с ворот чьи-то чёрные вирши, выведенные тёплой смолой, – радость трусоватой лютости. Как-то снежной ночью и оконный пузырь сквозь щель в ставнях разрезали, хорошо, что у Анны Егоровны был запасной. Она всё опасалась, что тайный недоброжелатель и избу однажды подожжёт, да «ухажёр»-ярыжка всё же изловил одного баловника и содрал с него с лихвой возмещение в свой карман, тогда озорство поутихло.
Зиму Анна Егоровна прожила бодро и спешно: то печку истопить, подколоть дровец, уткам и корове дать, себе обед придумать, нащипать лучину, раскопать в снегу крылечко, мало ли... – всё сама, даже прихворнуть время не выбрала. Наверное, само молчание и одиночество, показавшиеся непосильными, бесчеловечными тяготами поначалу, берегли её, пестовали и лечили, и, хотя не часто – иногда, будто двумя добрыми снежными крыльями, возносили к миру тайны и успокоения...
Ещё хорошо, что с самого начала Анна Егоровна так уж по-своему услышала и поняла, что анафему Юшке поют только здесь, в Галиче – в том краю, который всего-навсего дал своего очередного неугодника. Узнай она в ту зиму, что проклятия на сына распеваются всей дьяконовской, остающейся при Годунове Русью, наверное, всё-таки бы слегла. Но к вдове решительно никто не заходил – ни бестолковый, ни осведомлённый, и сама она даже к соседям не пробовала достучаться, легко выдерживая характер.
Её неведение было таким полным, что частью уже переходило в знание. Чуткий колдовской кристалл её души, не скованный оправой царских извещений, не оскорблённый грубой огранкою сплетен, растёкся вдаль... Обнимая бугорки и впадинки, темноту и свечение мира пытая на ощупь... Огибая кремли и болотца и отличая в ветрах тонкую дрожь голых рощ и окольчуженных, под толстохвойными лапами, войск... Взбираясь с ледяной водицей по волокнам преогромных древ и вздрагивая от качания макушек...
Проходила зима, теперь рано из-за реки и лесов подымалось быстро отдохнувшее, как сполоснувшееся и помолодевшее тысяч на пять лет, если не совершенно новое, светило. Так востекало оно каждый божий день невесомо и славно – всё в дорогих небесах, парило-любило землю с каждым днём всё убеждённее, почти пело, что Анна Егоровна поверила: этой прилежной весной и участь сына переменится после зимы к летушку жизни. Завидев чистое кипение новой травы, Анна Егоровна подумала, что и эта нега на полях осмелела сейчас только потому, что всю зиму поля несли вериги тяжёлого снега.
Анна Егоровна понимала, впрочем, что неудобная старуха вроде неё во всём может легко обмануться, и оттого больше надеялась на крепкую молитву Богородице, чем на своё чародейское чутьё, нечаянно приоткрывающееся при помощи молитвы и без спроса заглядывающее скорей вперёд. Да и случай с сыном был не тот, чтобы, получив самую верную надежду, перестать тревожиться. Никто ведь, даже ни один, наверное, пророк или ведьмак, не знает грядущего точно – на том и стоит. А если и узнает кто – протянется пластом на лавке и глаза вместе сведёт: для него всё кончится.
Ночами теперь Анна Егоровна внимательней просматривала сны. Она бродяжила в снах сумеречными какими-то, безвидными степями, проваливалась в талые зажорины под наст, съезжала в путаные узкие овраги с сурочьими нырищами. Солнце куда-то запало или его с самого начала тут не было. Ни месяца, ни звёзд тоже что-то давно не проявлялось, но сам тонкий, гибнущий во влаге, наст по всей степи вытапливал из себя, как через силу, слабый, неуловимо дробящийся цвет.
Анне Егоровне смутно встречались иногда в этой степи какие-то не то разграбленные и заблудившиеся купеческие таборы, не то отставшие от своих полков обозы. Цыганки подавали ей ворованных грудных детей, но ни один между ними не был её Юшкой.
Раз Анна Егоровна увидела в ложбинке прежний свой, московский мужнин дом. Она вошла, приподняв внутреннюю щеколду за известную ей одной, скрытую в прихлопе, верёвочку. Все вещи стояли по старым местам – Анна Егоровна двигалась во тьме, шаря по сторонам руками.
В горнице яхонтово светила щель в дверце подтопка, да в углу под деисусом неслышно вздрагивала, узким лепестком, бессмертная свеча. Подтопок блаженно потрескивал. Анна Егоровна села на невидимый сундучок – поприсмотреться к видению.
Где-то за еловыми плотными стенами и будто за три-девять земель, безумствовали псы и унывала волынка, радуясь весеннему теплу. Причудливый высвист то нарастал, то опять удалялся, как вдруг огонёк свечи прянул и лёг. И сразу посереди комнаты грянул тяжёлый и садкий удар – такой, что хозяйка выпала бы из сна без сознания, если б вовремя не сообразила, что это сиганул с печи на стол кот.
Мимо окна прошёл, насвистывая, молодец в лёгком кафтане, с веточкой пушистой вербы, прикреплённой к шапке, – показалось, сын. Анна Егоровна метнулась, широко раскинула окно в белый дремотный утренник: молодой человек, не торопясь, пошмыгивая, уходил по дорожке... Хотела звать – не стало голоса, в глаза замешался какой-то дымок, мать не могла разглядеть: не Юра ли это бредёт?
От угла казённой лавки отошло несколько незнакомых слободских парней, они окружили юнца с вербой. Один, самый низенький и крупный, вполголоса звучно спросил:
– Ты, что ли, Отрепьев? Таньку Уздечкину знаешь с Шорной улицы?
Анна Егоровна не расслышала, что смиренным голосом ответил паренёк, но на этот случай страстно ему пожелала, чтобы он её Юшкой не был. Ещё товарищ, из встречающих, снял с его шапочки вербу и отхлестал ею встреченного по лицу так, что бурая киноварь смочила беличьи кисточки почек.
Приземистый здоровяк, не замахиваясь, крутнул станом, и молодец пал как неодушевлённый. Тогда вся ватага плотно сдвинулась над ним, широко в пыли отмахивая сапогами и крепко выговаривая ему:
– Попомни, как наших дев радовать!.. Как в баб обращать их!..
Анна Егоровна сначала караул кричала, потом сама прогнать губителей от сына побежала на недействительных каких-то, полувоздушных ногах. Даже когда удавалось сделать шаг, Анна Егоровна почти не поступала вперёд...
Подворьем на качелях пролетел Ивашка Безобразов – соседский мальчик, дружок сына.
– Тётя Нюр, а Юшка выйдет?! – обратился он к Анне Егоровне на лету, но, привлечённый криком с улицы, остановил качели и полез на забор – глядеть драку.
Но сама Анна Егоровна уже забыла об избиении юноши у кабака: пострадавший не приходился ей Юшкой – не мог же сын быть возмужалым удальцом, грозой слободских жён и девиц, раз его ровесник Ваня Безобразов ещё ходит под качелями пешком. Значит, на двор заглянули старые радостные времена!..
В избе вдруг в голос всей обиды воспрянул ребёнок, и мать без памяти с порога кинулась назад. Распахнув с моста дверь на терраску, она онемела от счастья. Холодная комната вся была залита мутным солнечным светом. Её муж, живой стрелецкий сотник, Богдан Яковлевич, уже собирался уходить, навешивая через плечо лядунку[37]37
Патронница на ремне.
[Закрыть]. Годовалый крепыш, Юшка, смеясь теперь, держась за кайму скатерти, неуверенно, но неуклонно (большая, вытянутая дынькой голова умилительно покачивалась в разладе с плотным напрягающимся тельцем) топал к отцу.
– Пшёл, пшёл, царь-сикун, – ругаясь, сторонился от него отец.
Юшкина улыбка, понемногу выгибаясь, опрокинулась в другую сторону, и сын, набрав в грудку поболее воздуха негодования, вновь пустил басовито-булькающую трель.
– Юшунька, иди к маме! – тогда засмеялась мать. – Иди поменяю...
Но малыш знай подбирался к недовольному и уже собранному вон стрельцу и, оглядываясь на материнские зовы, ревел пуще.
С трудом сдержав свою особую досаду на отрешённого от родного дитя мужа и на сделавшего такой неважный выбор сына, Анна Егоровна проворно сорвала с Юшки штанишки, подхватила чадо на руки и, не садясь, выпростала для него разбухший молодой сосок.
Ребёнок тотчас сам приклеился к груди и на полуслове умолк. Мать возрадовалась: молока у неё за столько лет и не убавилось, так что с дитём невелика морока – титьку сунула, и горевать не надо боле ни о чём.
Анна Егоровна понемногу успокаивалась, но сын уже наелся молока. И он молочными острыми зубками что было сил защемил материн опорожнённый сосок. В очах Анны Егоровны всё засверкало и провалилось от боли.
Она очнулась опять в сумрачном овраге и, скользя, деря кожу с коленей и ладоней о его талое мерцание, быстро покарабкалась наверх. Внизу страшно урчал и тяжко, судорожно воздыхал в темноте какой-то невообразимый зверь – от его-то клыков и следовало как можно дальше уйти.
Достигнув вершины оврага, Анна Егоровна оглянула близь и даль. Недалеко, разваливаясь, проходили, скрежеща полозьями, чьи-то караваны, за ними ничего уже не видно: морось, снег ли? – свет непроницаемый. И поплелась Анна Егоровна в это марево, уставленное вкривь и вкось возами, клюнувшими снег пушками, давлеными литаврами, протыканное кое-как слегами, жезлами, греческими стульчиками. Побрела, оступаясь над вмерзшими в лёд тряпками шелков, бутылками, раскроенными камеями без золотых оправ, рассыпанными шариками жемчуга подкидывающими наступающую ногу... Надо было искать сына.
На Николин день в Галич вернулась грязней грязи задохшаяся городская сотня, а точнее, полусотня от набранной осенью сотни осталась. Матери и жёны непришедших воинов уже хотели выть, но прибывшие им вовремя растолковали преждевременность такой печали, объяснив, что все их пятьдесят целы и невредимы и даже не пленены – все они доброй волею передались противнику.
Немногословны и уклончивы даже со своими родными были ополченцы-беглецы, Анна же Егоровна Отрепьева и тех загадочных их ответов на общий спрос не слыхала. Зато она ясно услышала внезапное молчание Церкви о сыне. Молоденький причетник спел всю литургию строго по благословенному канону, без привнесения тщеты и злобы нового дня.
Прежний дьякон, теперь кутающий шею в изумрудный плат, но временами только невнятно похрипывал и мерцал брусничными белками из-за престола с Сионом и жертвенника на прихожан.
Ни жива ни мертва Анна Егоровна, что ни утро, ожидала превеликого молебна в честь победы Годуновых над врагами – теми самыми, с которыми был и её сын, но так и не дождавшись, на ночь оставалась в той же жизни.
Вскоре голосок псаломщика-мальчишки отвердел, и двух недель со дня прибытия беглого войска не минуло, как он собрался с геройством и выкинул «многая лета» вместо «Феодора Борисовича» «обретённому царством наследным Дмитрию Иоанновичу – приобретшему кровные земли своя, дедич и отчич!..».
Наперво благовест срединного собора подёрнул волглый Галич расходящимися, матовыми от неохотной дрожи, кольцами. Прозрачно вмешались и поговорили по очереди все, до малейшего, била, потом по неявному знаку, одномгновенно «во все тяжкие» ударились вместе, и пошёл трезвон!..
– Добра здоровьичка, матушка Анна Егоровна! – поясным поклоном остановила вдову на дороге от храма соседка. – Дозволь с великим празднеством поздравить, государыня моя!
Анна Егоровна так растерялась, вдруг услышав человеческое обращение, что с перепугу спросила, забыв про свою оборонную спесь:
– А с которым празднеством-то, Секлетея Федотовна?!
– А со Сретеньем-то, матушка, со Сретеньем! – нашлась вернувшаяся блудная подружка. – Сретение образа Предивной Богоматери, вызволившей град Москву от агарян...
Анна Егоровна, возрадовавшись доброй примете сретенской встречи, тая от поздравления и разговора, пригласила на праздник вновь обретённую кумушку в гости и, почему-то удерживаясь от спроса о главном, умильно-длительно раскланивалась с ней.