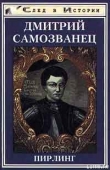Текст книги "Самозванец Кн. 2. Окаянный престол"
Автор книги: Михаил Крупин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
ДРУГ ДЕТСТВА
Вышел дворянин Ивашка Безобразов утром на крыльцо своей избушки, повернул нос по Кремлю. В просветах утлой улицы, над козырьками лучшей, виделся ему ряд мелких червчатых зубов, местами в нём горели золотом искусных орликов и стягов – выпирали правильными башенками – красные клыки. За ними светились сусальные нежные части Кремля – обителями, дальними соборами. Ещё же выше, утопая в атлабасной славе, втягивая лучиками складок атлабас, восседало только само солнце, не поддающееся человеческому обозрению от теснейшей своей пышности.
Безобразов привычно прижмурился, но солнечный ветер – как неотвратимой золотой травинкой – щекотнул в его ноздрях, и дворянин звонко чихнул.
Будний день начался. Безобразов прошёлся подворьем. Небрежно, а вроде бы ровно, первокошенное сено было раскидано вдоль трои. Тёплый дух взятых у трав жизней тонко стоял ещё невысоко в воздухе.
Грязноватые худые куры пробовали что-то разгрести и поклевать под наклонной поленницей.
С тыльной стороны хором полнотелая ключница Манефа, закатав выше локтей рукава и уткнув подол меж строгих розовых коленок, дёргала ножом – на спиленном пне чистила ершей, местную прудяную мелочь. Из её угла тянуло иногда болотом, порскали чешуйки, и перед ключницей-стряпухой уже на задних лапах трепетал гладкий караковый кот и без единого звука кричал, не закрывая рта. Из раскосых щёлок глаз кота вышло с натуги по огненной капле.
Усадебной тропой, прямо на Безобразова, полз на одних кулаках человек. Ноги его, лишь расслабленно подрагивая, стлались сзади тяжёлой повинностью. Лицо калеки было скомкано страстно и косо замкнуто в схватке с неописуемой мукой...
– Не верю! – сразу крикнул пластуну Безобразов и сбоку обошёл его.
Пластун сердито вскинулся с кулаков на ноги, забежал в амбар и вывалился из него уже со стянутыми вместе неприметной бечевой по онучам и в один лопнувший лапоть вдетыми ногами.
Лжекалека запрыгал на двух кулаках одновременно (ноги влеклись теперь без всяких примет жизни, мёртвым хвостом) и с пробудившейся вдруг силой, хуже кота у сырых ершей, хрипато заблажил:
– Эх, ни в корень, ни в пристяжку – не везёт, не едет!.. Зимой с бороной, летом в извозе: седлай портки, надевай коня! Только сено плохое – половина травы!..
(За изгородью с жутью залился волкодав соседа).
– Тренди-бренди, лапти в ленте! – продолжал неудержимый пластун. – Эх, стану на лавку да в пол головой! Промеж того-сего!.. Гляньте на мя, люди! Был бы человек хороший, да никуда не гожусь! Поможите, хлебца купить не на что, с горя медок попивам!
С квохтом и веяньем крыл скрывались врассыпную куры. Из сарая недоверчиво ржанул конь, отвлёкшись от порожней торбы.
– Эх, однажды дважды! От беды бежал, да в ямину попал! Муравьи все ноги отдавили!.. Поделитесь, православные, не осердитесь. В городу живу, а всяким свиньям кланяюсь!.. Отворяй кошёлку пострадавшему за Русь от Годунова. Мне его заморские врачи чирия вырезали, а болячки вставили!
– Лучше, лучше уже! – спешно хвалил юрода-крикуна Безобразов. – Теперь гоже!
– Гоже не гоже, а на гоже похоже, – переведя дух, согласился пластун. Сжал-разжал, поломал отмятые малиновые кулаки. Подпрыгнув в усадебной луже, не пересыхавшей ни в какие времена, долго и придирчиво осматривал себя и, напоследок проволокшись сквозь неё всем туловом, двинулся за ворота.
Вдруг у дворянина Безобразова вышло вперёд слабое брюшко и разъехались по сторонам полы охабня. Крутнувшись на пятках, Безобразов метнул руку назад – так поймал свой тафтяной кушак за краешек.
– Всё, попался, Сысой! – горько укорил он, прихватив за шиворот холопа, не успевшего выпустить господский пояс из воровской руки. – Ну, совсем охудел?! Где ты видел-то, чтобы и кушаки с людей рвали?!
– Да я ж так, на пробу, Иван Евменьяныч. На смех попытался, – оправдывался уличённый вор. – Своё-то обычное дело мы не забываем, – пояснил он и протянул хозяину его серебряный нательный крестик на гайтане. Безобразов-дворянин, как ни привык к Сысою, а зашарил вокруг своей шеи рукой.
Вернув «боярину» кушак и крест, Сысой отправился в курятник и там, только двумя тонкими перстами, не замечен ни одной наседкой, вынул из-под каждой по яйцу. Довольный счастливым началом, Сысой тоже пошёл на работу – на улицу.
И обманный ползун, имя которому было Филипп, и Сысой давно служили Безобразову: один – кабальным нищим, второй – вором-батраком. Поутру оба выходили со двора и возвращались ввечеру с трофеями, с некоторых лет составлявшими львиную долю прибытка, дающего живот и Безобразову, и невеликому его двору.
В лучшие времена, ещё до хвостового огня в небе, Сысой и Филипп мирно крестьянствовали на государевой земле. Даже когда с полнощной высоты замахнулась на ту землю жаркая безмолвная нагайка, а ударили оземь морозы и наказали всех потопы-голода, когда с поместья Безобразова скользнула к югу половина земледельцев, а другую половину Безобразов сам согнал, перед тем перекидав ссудами в прорву стихии три единственных амбара, – даже тогда он всё же оставил на земле двух бобылей, Филиппа и Сысоя, чтоб самому из благородного сословия надсмотрщиков и латников не выбывать.
Безобразов, перебравшийся в московский родовой свой терем, под которым оставалась у него, на чёрный день, четвёртая неприкасаемая клеть, не очень-то надеялся, что в такое светопреставление его бобыли, не убежав, выживут. Но бобыли что-то жили и жили. Безобразов даже перевёл их с подмосковной нежилой заимки в город – посмотреть хотел, как же они перемогнутся там, где действительно кормиться нечем?
В городское лихолетье Сысой и Филипп сменили десятки нехитрых ремёсел – плетение лаптей, строительство соборов-годуновок, починку деревянных мостовых, погрузку возов гостинодворцам, колку дров по дворам вдов, деланье игрушек-чебурашек и многое, многое другое, но остановились, как на самых прибыльных и верных промыслах, на нищенстве и воровстве. Злой и запальчивый Филипп юродствовал, а малорослый неброский Сысой но чуть-чуть крал. Так они прошли самые трудные годы, заодно прикармливая и Ивана Безобразова – и по завещанному дедами обычаю, и за московскую крышу над головой.
Несмотря на своё изумляющее мастерство, Сысой достаточно часто попадался. Такое дело было предусмотрено ватажкой Безобразова: челобитная помещика о беглом крепостном давно тёрлась в Холопьем приказе, на сыскном столе. При поимке Сысой, не таясь и мига, честно назывался. Призывали Безобразова, который с неподдельной злобой и поддельной радостью всеми перстами вцеплялся в Сысоя и, прокричав, что беглого своего вора накажет по-свойски, по-адски, а не как теперь ведётся – слабенькими веточками перед заспанным приказом! – скорей уводил своего вора домой.
Через неделю Безобразов, сокрушаясь и причитывая, опять относил челобитье о бегстве холопа Сысоя в повет – заблаговременно.
Обычно на усадьбе Безобразова царил задиристо-шутливый лад, но бывали и раздоры. По зиме 1603-го, когда было особенно голодно, Сысой с Филиппом почти перестали носить барину дневную выручку, тратя, пряча ли её или глотая где-то до его ворот. Безобразов учинял им ощуп и на входе, и на выходе – всё тщетно.
Безобразов корил их, грозил битьём, замком, волей... Совестил, напоминая, что они с ним – один тын и дом...
– Коли хочешь, Иван Евменьяныч, артельно, – сказали наконец бобыли, – что ж, мы не прочь. Не такие нынче на Расее времена, чтоб тебе на даровщинку бороду раскатывать. Хоть – так давай, кидай тогда свой кус в общий котёл.
Покойный отец Безобразова когда-то вроде бы владел скорняжным ремеслом, но взятый во дворянство «по прибору» счёл ручной труд для имени своей семьи уже преодолённой срамотой и не рассказал сыну секрета этого весьма полезного занятия, в «лучшие люди» выведшего его самого.
Пойти по купеческой части (хоть и не надо лишнего умения по сотворенью вещей для того, чтобы купить их и продать) Безобразов тоже не мог. Для этого же вдаль надо влачиться за товаром, а ему надолго отлучаться со двора нельзя – Москва во всякий час может потребовать дворянина на службу.
О паперти тоже мечтать нечего было: прознают в Разряде – с земли спишут и вытурят «в мещане» безо всякого.
И всё же Безобразов начал выезжать теперь со двора после обеда и даже возвращался засветло не с пу́стом. Пора жутких чудес, холодов-голодов помалу забывалась, крепостные Филипп и Сысой уже не выгоняли барина на поиски насущных крох, но Безобразов всё равно, и уже спозаранку, выходил каждый день чутко порыскать Москвой – по нажитой привычке.
Пустился он по круговой своей, обыденной дорожке и в тот июльский день, когда так нежно пахло усыхающее сено, густо золотились маковки с орлами в атлабасных небесах и гладкий караковый кот «служил» и бредил мелкими ершами. Безобразов отправился пеш, как часто ходил – незаметен, резов, справен, – только в знак сословного достоинства вдел за кушак отцову шашку.
На Ахметьевском проезде его обошёл цуг прекрасных коней, легко кативших за собой басурманскую коляску.
Сквозь медлительные волны московской пыли каретица играла радужной поливой, точно вилась и стремилась течением. Кучер-немец, в подвёрнутых выше колен шароварах, держал перед собой, как осовевший серьёзный рыбак уду, длинный бич, но лошади и так, без поощрения, бежали весело и ровно, бесшумно дыша и неглубоко кивая головами, как волшебные.
Когда рыдванчик поравнялся с ним, Безобразов, по обыкновению, поддёрнул выше кушак и побежал рядом. Схватив с головы мурманку[22]22
Шапка с отворотом.
[Закрыть], Безобразов на ходу стал быстро отряхать с немецкой колесницы пыль. Узкой и корявой мостовой нарядным лошадям велено было ехать тихо, и Безобразов, в общем, управлялся.
Из каретного оконца вырывался чудный дух. Смуглые итальянские щёки омахивал трубчатый голубоватый парик, рядом колебалось перо на литовской, сдвинутой набекрень шапочке. Итальянец опрятно чистил ножиком круглый плод ласкового заревого цвета – от плода сего и шёл дурман.
Безобразов слышал на бегу, как ездоки тычутся выморочными, кое-как сколоченными, слегка пахнущими Русью словесами. Безобразов так понял: лях с пером на шапке не курныкает по-фряжски, а италиец «размовлять» на польском не силён. Вот друг перед дружкой они и выворачивают толстой, непослушной стружкой языки.
– Паки, паки уверяю, господьеро, – часто выговаривал фрязин. – Понапрасну сетоватчи на теперечний цар! Натура есть стародавен способ для отплатты услуг туто!
Литвин фыркнул и отделил от плода в руках у италийца сочащийся ломтик.
– Ваш легионер с императора получает нонче столько корма, – не смутясь, продолжал наставления римлянин, – что, ежели... не набирати многи слуги, а того паче – не запировать без толка, тогда форсэ... скузи форсэ: воз-мож-но!.. Возможно через сэй товарвар делатчи велики оборотти...
Встречь рыдвану осторожно пробиралась, жалась к запылённым частоколам баба с коромыслом, тяжело уравновешенным бадьями.
Безобразов увидал, что это добрая примета, и с хода смело макнул белую от пыли свою шапку в ближнее к себе ведро. Москвичка поперхнулась от такой обиды, но, сейчас же обретя дыхание, с плеч отвалила коромысел и, ухватив ведро, катнула – с густейшим подзаборным словом – хаму вслед опоганенной водой. Но Безобразов на бегу вильнул, и баба как раз обдала заднюю стенку рыдвана. Безобразов сразу вскочил на запятки, яростно пошёл водить по увлажнённым барельефам губкой шапки.
Дворянин ехал, работал на задке, смеясь. Вспомнил, как однажды заполошная молодка, крутнув станом, успела спасти воду в ведре от его грязной мурманки, но при этом бадья с другого конца коромысла залетела прямиком в окно нерусской колымаги. Безобразов тогда сразу дал стрекача с места такого происшествия, только мельком оглянулся на углу и видел, как две вышедшие из кареты ополоснутые немки верещат и ёжатся в приклеенных брабантских кружевах перед девахой, чувственно размахивающей над кукольными их головками страшенной саженной дугой...
– Надо же, – говорил, жуя и благоухая, литвин. – Померанцы даже на Варшаве редкость... Грация... Ла прима белла коза...
– О, проше бардзо... – смеялся римлянин. – Ежели цар Митр и дале снижать весчий сбор и пьяно-пьяно свышать посчлина кумам Лонданокомандато, Митр вельми обогатит тутний край, а я есть завалить апельсином Московья...
– Где бы Димитр воинских людей тому подобно жаловал, – привередничал лях.
– Смутто... пёрке кози... – успокаивал друга фрязин. – Митр сам не рад... Слыхано: он поволит комуждому из человек воздатти... Сначало легиону, затем посаду, затем земле-пахато... и на конце концов – авосьно-тунеяццо, навродье энто кретино, что в это сие моменто грязневает бедный наш шарабан.
На смену деревянной, в лад осям ноющей мостовой ровно просыпалась гремучая, булыжная. Впереди зарябил крепкий мелкий забор – доехали до слободы нерусской. Словоохотливый римлян вычистил-таки, сердясь на брызги, апельсин, скомкал мясистую гибкую кожу и сложил её в окно на улицу – в спешно подставленные горсти Безобразова.
Аркебузир в воротах приподнял оружие, впуская свой рыдван и отпугивая приблудного дворянина.
Безобразов покатился с торного булыжника, закувыркался, спешно морщась от впивающихся пик стерни и кусачей горечи на языке – от ароматного подарка.
В конце концов попав на ноги, немного шатко пробежавшись, Безобразов двинулся вдоль иноземного забора и обошёл его до половины круга. Там заканчивалась Москва. Вплоть до Земляного вала, радуясь своей тоске, рвались татарник и осот, и голубое полымя полыни освещало мусорные гребни.
Одно прясло немецкой городьбы в сём месте раз на дню отмахивалось рычагом на блоках, и всё, что лишнего и негодящего образовалось в слободе за сутки и легло на этот сорный угол, проносилось под гору, облаком и плеском расходясь по пустырю.
К нужному часу под заветным жерлом собирались русские авосьники. Сидели, возлежали в ожидании или похаживали, изредка носами кидаясь к траве, как птицы. На лопухах стыла в прогалах сермяг погибающая вовсе теребень – матерое полуживое воронье. Трепетно подёргивали «оперением», настороже переступали, томясь, молодшие, ещё бранящиеся на пустырь.
Всех ближе к басурманскому углу, особым звеном, подходило остолопное беднейшее дворянство. Но оно было всё-таки в цельных ряднах и посконных хитонах – всё-таки в человечьем одеянии былых веков, с чернёными клинками всевозможных длин, узоров и кривизн по поясам.
К горделивому сему отряду примкнул и Безобразов.
Когда ворот, без лишнего грома и визга, только по-немецки коротко лайнув, вскрылся и по пробитой колее вскачь – паря́ и убывая – примчался к ним неописуемый хлам, все дворяне ступили вперёд. Как бы с брезгливой ленцой стали работать своими клинками – ворошить, перебирать ими, раскидывая, чужую свежую помощь.
Нищие простолюдины, пока только глухо досадуя, судача, напряжённо ждали, когда отберёт лучшее и отойдёт вооружённый привилегированный отряд.
Солнце жгло город до вечера, а на закате, без обузы туч и облаков, нагрянул ветер. Споткнувшийся на кособоких площадях, страшно разбился, обрушась... и ошеломлённо понёсся по лубяным улицам, с высвистом при поворотах.
Ветер, принятый московским тряским ситом, был так силён, что вывернутые вишнёвые и яблонные ветви кочевали по тынам, из сада в сад, и крепко хлопали накрепко запертые ставни и ворота.
Дворянина Безобразова ветер усердно погонял к Кремлю, убирая из-под его каблуков путь к дому. Но Безобразов, прижимая полную кошму к бедру, не отдавался всё-таки на милость ветра: боком и зигзагом, хитроумно, подвигался в свою сторону по мостовой.
Если бы идти Безобразову сейчас по слову ветра и подслушанного у окошка кудреватого фрязина, уверявшего, что царь задумал возродить ради чего-то безродную знать свою, тогда, конечно, по пути Ивану Евменьянычу наведаться в родной приказ.
Но Безобразов знай увиливал, упирался знай супротив ветра – и даже не потому, что в апреле под Кромами не передался с туляками цесаревичу, а без оглядки бежал до Москвы и что опасался подарить теперь свою головушку опале, – совершенно даже не поэтому.
На крутых мостках через овраг дворянин был развернут-таки неожиданным буздыханом[23]23
Крупная и длинная булава.
[Закрыть] воздуха лицом к Кремлю, и в этот миг, сощурясь и ощерясь весь от чёрной желчи подошедшего к лицу ругательства, вдруг Безобразов различил в одной стрельнице, между зубцами стены на другой стороне реки, колкую зеленостеклую бусинку подзорной трубы. Из бусинки вышло невидимое, но налетающе-твёрдое, будто сегодняшний ветер, лицо – его словно разнесло в ширину до угловых башен, а бусина осталась витать в нём карей искоркой из-под знакомого наглеющего века.
Вместо бранных слов олубеневший Безобразов только причмокнул так, что челюсть отнялась, с силой развернулся и сквозь весь, бугристый и обрывистый, мир ветра, лоб в лоб ему, дунул бегом к себе домой.
Безобразов сперва глянул в щербину забора – всё ли ровно там и скверно, как дотоле, – и потом только пошёл на свой двор. Так он каждый вечер делывал последние месяца два. Днём и ночью, замирая, в эти нескончаемые времена он всё чего-то ждал, а на дворе у него ничего не менялось.
Двор Безобразова стоял, точней – полулежал в ложбинке. Даже повсюдный нахрапистый ветер мало касался двора.
Удушливой июльской ночью, когда Безобразов соскальзывал с лавки в холодном поту, услыхав, что ломятся стрельцы в ворота, невдалече, в тесной тиши брякала одна сторожевая колотушка. Когда же днём, по возвращении, Безобразов от усадьбы ждал любых засад, из-за поленницы владетельно и торжествующе выступал к нему петух, отделавшийся от подруг, за ним следуя, плющась и расправляясь, выбирались некоторые куры. Выглядывали отовсюду тихие деревяшки и живые сучки, лез через смородиновый куст Сысой, цедя ягоды тёмными горстями; в пустоте какого-то из двух крылец обезоруживающим полным гулом отдавались распоряжения ключницы...
Всё, от лёгких сухих погремушек сверчков и как бы проваливающихся голосов блаженных жаб где-то в низкой вечерней траве до бесшумного крамольного червя в зелёном яблоке – высоко под небом всё жило вечной крепостью обычая...
Соседский малец, отклонив одну полоску в смежной со своим угодьем изгороди, наблюдал чужой надел, отшугивающих угроз Сысоя не боялся и на приветные зовы Манефы не шёл. Заборина над головой мальца каким-то волшебством держалась на едином клинышке, вываливающемся из истлевшего гнезда, но всё-таки должна была когда-нибудь упасть и вышибить крутой бугор на голове мальчишки. Безобразов видел это, но никогда не приближался к изгороди, чтобы подновить её, и слуг не гнал, и соседям не подсказывал.
Этому общему для двух дворов забору насчитывалось восемнадцать лет – он был ровесник дому Безобразова и похожему, соседнему по левую руку, дому.
Оба сруба ставлены были в первый же год после шведской войны. Тогда царь прибирал лучших людей и справнейших стрельцов по волостям на московскую службу, на место павших под Иван-городом и городом Копорьем на варяжском побережье.
Сосед Безобразовых сначала только застолбил надел, что-то долго прощался с родной стороной (как Безобразов-отец страшно шутил – «развязывался с костромскими медведями») и на полгода позже отца Безобразова «поднял» свой дом.
А ещё через несколько месяцев на крыльцо дома утром вышел – в стрелецком армячке с игрушечными кисточками и с колокольцами вместо пороховых зарядцев – мальчик и тревожно оглядел свой новый двор.
Ванюша Безобразов как раз перед тем нарезал из кленовых веток стрел, из ракитового прута напряг лук – как настоящий: лук вышел с него ростом и непредсказуемо стрелял по пряслам городьбы, плоским и частым, будто рать жёлтых монголов. Ванюша весьма гордился своим сбором, хотя вместо оленьих жил пришлось свить тетиву из пеньковой бечёвки, и стрелы, без железных наконечников и комля, от всего отскакивали.
Увидев играющего, мальчик с кисточками сразу же, не то смущённо, не то горделиво петляя меж горок опилок и тонких яблоневых саженцев, стал подвигаться к ровеснику.
Ванюша медленно, со всем значением, развернул лук в его сторону, наложил и прицелил стрелу, потянув тетиву.
Мальчик вдруг зарыдал и побежал обратно – к своему крыльцу. Запинаясь, падая на всех ступеньках, рвался в дом. Видно, он сразу ясно представил себе, как на место его небольшой радостной жизни мёртвая старинная стрела втекает между кисточек. Вслушиваясь в удаляющийся плач, Ванюша сам так же представил плаксу, неизвестно чему захохотал, будто кто-то спокойный и властный вдруг неудержимо и блаженно ухмыльнулся изнутри него.
Но дня через два на мытном торге, что бурлил недалеко – в конце их улицы, соседи снова встретились. Ванюша увидел, как давешний, прогнанный им мальчик с лотка самостоятельно покупает медовый калач. (Иван никогда таких не покупал – у него дороже полукопеек не водилось монет за щекой, и сейчас зуб не попадал на полуполушку). Соседский мальчик тоже, видать, не каждодневно сшибал калачи, потому что стоял теперь и любовался искристым сахарным сугробом на кровле покупки. Он брал на ноготь сверху по одной крапинке мака и прилежно накладывал мак на язык. Ванюша пошёл на сугроб прямо и твёрдо, как человек, отложивший лук и стрелы очень ненадолго. Но мальчик-сосед на сей раз не сробел – наверно, догадался или узнал у кого, что лук у обидчика велик, а крив, стрелы кувырчатые, тетива – верёвка. Мальчик быстро вынул из-за пазухи рогатку, на её место временно убрал калач и, дёрнув за тугую жилку, влепил подошедшему в упор какую-то пластинку в лоб. Иван подумал и приветствующе улыбнулся:
– Ты что, калач купил?
Мальчик кивнул, облизнув рассеянно маковые тычинки с губ, – значит, начал Иван верно, а вот выстреливший не успел подумать: так и не отложил дружелюбие – основу своего угадывавшегося нрава.
– Что, всё облизываешься да стреляешь? – удивился больше Иван. – Давай калач-то есть!
Видно было, мальчику не улыбалось делиться невесть с кем, но он всё же слазил ещё раз за пазуху, достал, смазав сахарный сугроб, и разломил душное печево поровну.
Они подружились. Три года кряду, с утра, то один, то другой первым втискивался под отстранённой забориной на подворье к другу, и день-деньской чередом обращались в казаков-разбойников, в войну против татар, в Добрыню и Змея – малые дети стрельцов во дворянстве, Ванюша Безобразов с Юшкой Отрепьевым.
Устав припоминать игры в стеснившихся усадьбах, други шли прогуляться Москвою. Глазели на торжки, шутили с пьяными, тырили яблоко и ягоду по окраинным открытым, полудиким садам, сбрасывали с колоколенок больших нерасшибаемых котов, купались в тёплых речках и болотцах, основывали из песка и глины города по берегам, в полдни заводили сети под кусты, нависшие над заводями. В вырванном из-под воды, тиной облепленном бредне гнулись, отплясывали полосатые серебряные слитки.
Легко бились, соединясь с подобными себе, бойцовскими, ребятами, против нашествия с другого конца улицы – не до крови, только до победы и погони. Ходили в ближний лес и там, зверским рыком из-за малинника ужасая девчонок-грибниц, вмиг захватывали тяжкие, благоуханные их корзины, брошенные в жертву гневному хозяину лужайки. Затаив дыхание, следили над плечами сидящих рядком вдоль монастырской стены чернецов, как на мелованных дощечках понемногу воскресали лики великомученных, славнодержавных и странносущих...
И много, много иных дел, и повеселей, и поскучнее, затевало без роздыха их детство – удивительное время единения строжайшего бесправия и великой беззаветной воли человека на земле...
В конце ноября вместе шли в школу – разделить скорбь знания розг ягодицами. Но в школе друзьям казалось сперва больше весело, чем любопытно. Пока новой была эта игра: лоза, точно коршун, высматривающий на земле непутёвых цыплят, наводящий восторг жути, ежеминутно кружилась над ними. Кто-то спасётся, кого-то стервятник вскользь клюнет, а кого-то вынесет в когтях из ученической светлицы... Уроки пролетают в птичьих кликах, скоро и легко.
Жжение мокрых розг было не очень сурово, сравнительно с той длительно тлеющей болью, что слышалась им в обессилевшем голосе самого коршуна – преподавателя, когда он, в конце дня воротясь на гнездо, прокаркивал сверху итог:
– ...Опять только два дурака-байбака, Отрепьев и Безобразов... – далее шло с незначительными изменениями в зависимости от урочного часа:
– ...одни не знают, когда и как сотворён мир!
– ...пишут «Москва» и «Борис» с маленькой буквы!
– ...а «сом» – с большой!
– ...убирали школу и выплеснули из лохани всё новые розги с хорошей водой!
– ...обменяли Азбуку Отрепьева на подсошек от пищали и пирог с яйцом!
Но со второго года Отрепьев пошёл вдруг учиться всё лучше и лучше и, к сокровенной грусти Безобразова, вышел в первые ученики. Безобразов учился всё хуже и хуже – это Отрепьев, первым наскоро пробежав заданные хитрости, уже не давал другу спокойно зубрить. Впрочем, розог на товарищей, как прежде, выпадало поровну: Безобразов получал за беспонятие, Отрепьев – за подсказки.
Однажды они, дети небольших дворян, учредили «синвол» крепкого своего братства – за алтын Отрепьева приобрели костяную игрушку: с острыми, накрест, ушами два истовых зайца скрестили два стрелецких бердыша.
Символ хранился в туеске для шашек в доме Безобразова. Когда друзья поссорились, в пылу зла Безобразов выхватил заветных зайцев из коробки и навек зарыл их дружбу во дворе близ корня возмужавшей яблони. На другой день Безобразову сделалось жаль резной ценной игрушки. По кругу окопав две яблони, он достал-таки обиженных священных зайцев, оттёр от подземельной черноты и со вздохом отправился сквозь забор мириться с другом.
Только они немного подросли, Безобразов разведал торговую баню на Варварке. Насладиться заповедным заглядением позвал и друга. В саму баню малявки без больших родных не допускались. А их отцы, сразу заматерев на Москве, топили свои баньки... Но из кустов боярышника, что против журавля, цепляющего кадью воду из Неглинки, было ясно видать, как банная дверь с топким хлопом выбрасывает в светлом облаке – с достающим издали дурманом распаренной хвои – густо-розовые телеса, то сухие, то толстые, то мужики, то бабы, отмеченные влажным глянцем и берёзовым листом... Блаженствуя всею ордой, бежали к речке с басовитым хрюканьем и тонким балалаечным привизгом... Странно, страшно притягивая, изливался не смех, а сам зов-перезвон из размахивающихся и бьющих, мягких опрокинутых колоколов... Бабы, хохоча, бежали почему-то впереди, а мужики за ними. Безобразов в кусте весь подбирался сердцем: он уже чувствовал, что всё это не просто так, не без толку.
Река, принимая людей, отфыркивалась от них брызгами с паром, а те знай покатывались со смеху в текуче облегающей усладе. Но скоро некоторые мужики и женщины, попарно, постепенно уносились течением от основной, гогочущей и плещущей толпы купальщиков, останавливались где-нибудь под нависающей плакучей ивой и там вдруг серьёзнели. Там, приблизившись, женщина вдруг поедала голыша мужчину, нешуточно, без всякого былого хохота и даже малейшей улыбки, тонко рыча и виясь... А мужик теперь и вовсе замолкал, только шумно дышал в воду.
Отрепьев не признал такое любование нагими возле бани делом сколько-нибудь путным. На восторги, расспросы и объяснения друга, требующие всего сочувствия, отвечал односложно и мирно, хотя и тем честолюбивым языком похабства, что сызмальства, из века в век, наследуют поколения. Полная невозмутимость в изречении срамных слов, что дана только маленьким, лишала весь выговор Отрепьева на банном берегу самого малого воодушевления. Наверное, он медленнее друга мужал полом, но Безобразов в сердце заподозрил, что Юшка такой же, как он, только ещё хуже. Потому, затаясь, и отмалчивается. Решив так, Безобразов друга больше не стеснялся и бросался на девчонок и стволы лип по пути с реки домой.
В зимние медлительные вечера Отрепьев брался было подтянуть по учёбе друга. Повиснув на ступеньках лестницы между полатями и печью, он говорил наизусть прислонённый враспашку к печной, белой в точках, трубе азбуковник. После, взяв часослов, переводил другу древнеславянский, читал про иудейских, израильских и московлянских царей...
Но Безобразов тяжело скучал и раздражался, не слушая. Он только понимал, что внаглую читающий Отрепьев как-то проникает в каменную суть этой рябой, как оттиснутой оспой, чтебной поверхности, – это и выводило из ума Безобразова. Если Отрепьев сообщал о князьях или султанах, все указы и выводы древних владык он оглашал так благозвучно, и хладно, и страстно, точно когда-то промаячил в самой гуще их. Слово же святых Отрепьев возвещал и ласково, и кротко, будто сам проводил по земле и воде до небес Христа.
Безобразов, слушая, покрывался гусиной кожей. Он вот не умел так задушевно лепиться, никогда и не хотел. Он знал, что каждый должен занять одно своё место. А занимать гонор у жития больших, великих, в долг – постыдно, глупо, особенно если обходишь за две улицы Малую Басманную, где правит толстый пасмурный мальчишка с перевязанным тяжёлым кулаком.
Когда нельзя было уже терпеть, Безобразов разом обрывал товарища, говорил, что всему научился, и они спешивались с недвижимой обжигающей печи в пушистую зиму, гулять.
Вообще Безобразову нравилось чувствовать себя по жизни (не по школярской ленивой скамье) много умнее и крепче раскидисто беспечного Отрепьева.
– Принеси с ваших кустов терновника и яблок с ваших яблоней, – говорил он в августе Отрепьеву, – а то, если в наш огород лезть – заругают...
И Отрепьев приносил ягод, и груш, и яблок, и ещё чего-нибудь, не задумываясь о причинах строгого порядка в доме Безобразовых.
Безобразов одно время терзался и даже спрашивал приятеля, не обижается ли он на что. Но вскоре убедился, что тот на этот счёт не чует и не учитывает ничего. В детском дружестве Отрепьева не было ни любознательной корысти, ни прицела вдаль... Взрослеющим вытягивающимся рассудком, как рукой, проверив со всех сторон эту его пустоту и ничего не обнаружив, Безобразов успокоился.
Как-то Отрепьев вынес со стола из дома пресладкий широкий пирог: с ревенём и творогом, опять на сдобе мак, внутри, в твороге, – мёд и коринфский изюм. Друзья вдвоём смогли поглотить пирог только до половины, вторую спрятали на голубятне в глубине двора. Ночью пошёл дождь, Безобразов долго мученически ворочался на своей постели: он различал в тёмной, тугой глубине своих сжимаемых в смутной борьбе с дождём век, как потоки безвкусной небесной воды избивают погибающий пирог сквозь худую кровлю голубятни.
Уже в рассветной мороси на голубятню влез мокрый, проголодавшийся мальчишка. Чистая струйка точилась откуда-то сверху и, приблизясь, стукала в вершке от вытянутой руки Ванюши Безобразова, когда под пальцами неслышно, но внятно и приветно хрустнула подсохшая за ночь корочка полпирога.