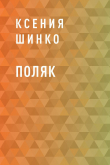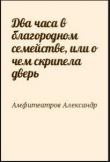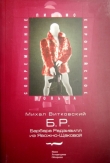Текст книги "Любиево"
Автор книги: Михаил Витковский
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
– Боже, этого больше не вернуть! – Патриция одним махом выпивает рюмку.
– Мы им приносили порнографические журналы, тайваньские, кофе приносили в термосе, самогонку. Тетки в очередях за мясом стояли не для себя, а для них, чтобы бутерброды с колбасой сделать! Ой, Боже, Боже… Они устраивали такие соревнования, кто дальше струю пустит, плюнет или кто громче пернет. Жаль, Михаська, что тебя тогда на свете не было.
– Боже, умоляю, не напоминай мне!
– А почему вы не ездили в Легницу?
– Не любим толкучку…
– Легницкие тетки, – Патриция надевает фуражку с красной звездой, серпом и молотом и аккуратно поправляет ее перед зеркалом, как старушка свою беретку, – легницкие тетки ходили к казармам в женской одежде. Поначалу вообще прикидывались женщинами и говорили, что спереди не могут, потому что у них как раз трудные дни… Или какая-нибудь понаглее говорила: «Я еще девушка и хочу такой остаться»… Но зато дам тебе сзади (хороша девушка!) или отсосу! – и они в этой темноте какое-то время верили. Наверное. Но существовала легницкая школа – с переодеванием, и вроцлавская школа, которую мы основали, где не надо переодеваться, потому что они к петухам привычные, им все равно, ихний петух им отсасывает или кто со стороны. Даже могли поссать на тебя, если хорошо попросить… – В это мгновение внимательно слушавшая Лукреция просто окаменела с чайником над столом. Белая как полотно, она медленно процедила:
– Ну, это ты, небось, придумала.
– Честно говорю, лили на меня втроем, а я лежала на гравии, на коксе, на угле! Только вот ты, хи-хи, в это самое время в больнице с сифилисом лежала и жиденький молочный супчик хлебала! Вот так-то, дорогая моя! А от них аж пар шел… – Патриция сладострастно дразнит Лукрецию.
– Если это правда, то я знаться с тобой не хочу. Боже, надо было мне сказать, что они на такое соглашаются, что существует такая возможность. Не желаю с тобой разговаривать. – Лукреция медленно надевает куртку и беретку. Каждый день к восьми вечера она ходит в костел.
– А один такой, – и тут на лице Патриции вспыхивает ироничная усмешка и корежит его в отвратительной гримасе, – один такой ужасно мне понравился, но все держался в сторонке, похоже, не хотелось ему. Ну я и взялась за пресловутый ум и думаю: «Здесь, Патриция, придется брать психологией, хитростью». Подхожу я к нему, блондинистый такой, хотя нет, у всех у них волосы были серые, шатен одним словом. Подхожу, а он чего-то там, мол: «Как eta, malcik z malcikom?»
Я и думаю: вот я тебя и поймала. Алеша, понимаешь, из «Братьев Карамазовых» нашелся. Хорошо ж, будет тебе Грушенька. И говорю ему прямо вот такими словами: «Ja w Germaniji była, tri goda, eto tam normalna, czto malcik z malcikom».
А он уставился и что-то еще бормочет: «No ty nie żeńścina».
Тут меня как прорвало, я так психанула, так завизжала, что они зашипели на меня, утихомиривать стали.
«Как это, – говорю, – как это ja nie żeńścina? Rot jest? Jest. Pizda jest? – задницу голую ему показываю – Jest!» Но у него в голове Германия засела. Потому что для них это был рай, недостижимый, в Германию поехать! Если они всю жизнь в России и, кроме Польши, кроме казарм, мира не видели, двадцатилетние парни! Я говорю: «Как eta, w Germaniji tak eta delajut, eta normalna!» – и только он ширинку расстегнул, так я и присосалась!
Но однажды ночью пришли они к нам, подошли к стене, прислонились… А у одного шапка-то и сползла. Засветилась в темноте обритая голова, и у другого тоже, и у третьего. А мы в плач: «Уезжаете, значит, покидаете нас!» И уже отсасываем, и одновременно оплакиваем. Через сто дней их здесь не будет! И что они тогда начали нам говорить… Что, мол, никогда нас не забудут, даже когда будут далеко, когда назад уедут к черту на рога. Что мы их первая любовь.
«Nу znajesz, мне для счастья много не надо, была бы водка, да баба, но я человек простой, я везде бабу найду и работу, хоть канавы рыть, а ты сюда всегда за этим хуем, за этой ляжкой приходить будешь».
Был там один казак. Лицо белое, с усами, одним словом, казачище (ах, они совсем по-другому пахнут, степью, Азией…). Он мне сказал, что еще никогда ни с кем этого не делал. Удивлялся Патриции, что она берет в рот, а она ему: «A ty liżesz pizdu?» А он, мол, нет, потому что «pizda woniajet». И тогда Патриция со своей врожденной чуть ли не буддийской простотой: «То nada umytʼ pizdu».
Точно, они нас не забудут. Они теперь лежат там на берегу Дона, уже и женами обзавелись, и детьми, постарели, потолстели, в шапках-ушанках, не те уже парни. Но, обещали, будут смотреть на небо, на звезды и думать: «Где-то там, под этими звездами мой Андрюша (Патриция) у казарм, в далекой Польше».
Таk priroda zachatieła, paciemu – nie nasza dieła…
* * *
Когда Здиха Спидович не на шутку разболелась, все в парке от нее отвернулись. Никто не хотел сидеть с ней на лавке и делить обернутую в полиэтиленовый пакет бутылку водки, а потом запивать эту водку горячим. Ее волосы превратились из шелка в паклю, голос из тенора в скулеж, а глаза из углей в гравий. С ней перестали разговаривать, потому что у нее стало вонять изо рта. Видать, размножился в ней какой-то грибок. Говорили: Здиха – чучело. Тогда на все еще красивом, но уже покрытом прыщами и пятнами лице Здихи Спидович появилась тень горькой иронии. Никто не мог ей простить, что она продолжает клеить чужих мужиков, что заражает их. Через всю аллейку ей вслед летели водочные бутылки, бесшумно падали на землю. Откуда-то появлялась собака, готовая поверить, что с ней хотят играть и бросают палку.
Здиха и меня водила в свой вагон, пока я не узнал, какое у нее прозвище. А что может знать пацан? Ну, ходила она в вагон. Наткнулась на него за вокзалом, когда ей негде было спать. Вагон на запасных путях, окна забиты досками, куда ни глянь – железнодорожные стрелки и развилки… Шпалы, высохшие кусты, будки путейцев, фонари, знакомые только с одним цветом – красным, кабель высокого напряжения, столбы с проводами, переносящими тысячи голосов, электронных сигналов, интернетных посланий, смех, плач. Все вместе звучало как далекие шумы школьной спортплощадки под виадуком, многие годы доступной взглядам пассажиров. Товарные платформы, груженные давно забытыми, простоявшими здесь не один десяток лет бревнами. Вагоны крытые, даже имеющие печку и окно, сквозь которое видно царство железнодорожника: журнал отправлений в старом клеенчатом переплете, печку-буржуйку и грубые рукавицы. На всем слой мерцающей серо-фиолетовой смазки. Серые листья подорожника пробиваются между серыми шпалами. Серые цветы пахнут шпальной пропиткой, этой эссенцией Польских государственных железных дорог. Таковы дороги Здихиной судьбы. Самым удивительным была эта ее красота: бледное худое лицо, почти белые падающие на глаза прядки, и во всем – неухоженность, грязь, ну и тот самый грибок. Поговаривали, что был у нее любовник, который бывал в Париже, оттуда и болезнь. А поскольку терять ей больше было нечего, Здиха начала сильно пить. А еще был у нее здоровенный такой волкодав, который провожал ее, пьяную, к тому вагону, как поводырь слепого.
Когда-то, когда у Здихи была работа и квартира, ее звали Джеси.
* * *
Они оживают по ночам. Тогда они лучше видят, днем они носят купленные на рынке солнечные очки в пошлой золотой оправе. Когда они ночь напролет слоняются по Польскому Холму, по паркам, когда проходят мимо вокзальных скамеек, на которых спят солдаты, пьяницы, наркоманы, когда суют свои вытянувшиеся от постоянного вынюхивания носы в круглые жестяные туалеты, тогда каждый мелькнувший на горизонте прохожий будит трепет надежды, дескать, вот он, и ему приспичило, и какая-то сила погнала его в ночь! Они не прячут концы в воду, они прячут водку в пластиковый пакет.[16]16
Не нарушают запрет демонстративного распития алкоголя.
[Закрыть] Они не требуют многого, сгодится любой – и старый, и молодой, здоровый, больной, хромой, лишь бы это была не тетка и не баба! Ночью в парке темно, иногда сюда наведывается милицейский патруль. Машина едет медленно, величественно, пронизывает темноту резким светом, сворачивает в кусты, поднимается на горку, объезжает площадку с сортиром и исчезает. Автомобиль-призрак. На ободранном от коры стволе кто-то что-то написал, но вовсе не о нас, и даже если кто-то что-то знает об этом месте, то прикинется, что впервые слышит.
После десяти часов «пикетирования» в горле сухо от сигарет, ботинки обрастают грязью от хождения по буеракам, заглядывания под мосты и в гротики-руинки. Губы горят, ботинки жмут, единственный бумажный носовой платок свивается в кармане в мокрую веревку. Уже, уже пора домой, но их снова задерживает какой-то далекий силуэт, который вблизи оказывается деревом или корнем. Однако фантазия творит чудеса. Свое вершат нервное возбуждение и надежда на то, что случиться может все. И никто больше не думает о возвращении домой, хотя уже первые птицы начинают портить настроение ночи и за горкой как будто начинает светать. Но опыт учит: именно тогда и происходят чудеса, и ночная ловля приносит золотых рыбок!
Еще солнце не встало, ночь сказочки вам шепчет.
Вот тут могут появиться пьяные Орфеи! Спящий на лавке алкаш, возвращающийся с гулянки малолетка. Никого не упустят. Парк холоден, парк черен, зол. Ночью парк превращается в дикий лес, заполненный рассказами о Сером Волке и Красной Шапочке. Волк может заразить Шапочку какой угодно болезнью. У деревьев отрастают сказочные корни, в дуплах сидят злые совы – старые седые тетки, у которых на уме лишь одно. Сплетничают, сидя на лавочке, а что еще им остается? Тетки подзадоривают телков, но как только те посягают на их жизнь, они отлетают, как совы. Не удивительно, что телки от злости ломают скамейки, ни одной не пропустят! Тетки из укрытия смотрят на курочащих скамейки телков и думают: эх, а ведь ни одной не пропустят! Когда вечером тетки пересекают границу парка, их, словно наркомана перед введением иглы в вену, словно игрока за зеленым сукном, охватывает трепет возбуждения. Все может произойти, никогда еще не было так, чтобы ничего не произошло. Как знать, кого пошлет мне добрый Бог теток, ибо тетки веруют в Бога, как все прочие пожилые дамы в беретках с хвостиком. И вовсе не считают себя грешницами – ведь они никому не вредят!
В пять утра в парке начинается паника. Вот-вот рассветет, и все эти призрачные мужчины обратно превратятся в деревья, таблички, запрещающие въезд, в камни и памятники. Обман раскрыт, король голый, в зарослях всю ночь что-то шевелилось, и только теперь стало видно, что. Около дыры в заборе стоял не телок, а выброшенный старый пылесос с длинной трубкой, и это он так реалистично прикидывался болоньевой курткой и коротко стриженной головой, крепко сидящей на толстой шее! Лишь немного погодя парк заполнится людьми. Ими, к сожалению, окажутся не пьяные чмо, жаждущие лишь одного, а дневные прохожие, срезающие дорогу на работу, няньки с детьми, и эти люди будут на нас смотреть откуда-то извне. От них будет пахнуть обувным кремом и зубной пастой, а в сумке у них будет свежая газета. И вообще: отвратительно трезвая свежесть будет разливаться по мере прояснения неба – этих раскоряченных ног небосвода с зависшими на нем птичками. Бррр. Надо бежать, чтобы не видеть всей этой профанации. Бежать от людей, чтобы не смотреть им в лицо. Идти спать.
* * *
Лукреция плачет, прячет в сервант памятные вещицы в полиэтиленовых пакетах, тщательно закрывает дверцу. Но сначала дает нюхнуть каждому, сделать по одному вдоху. Я тоже вдохнул разок. И поначалу ничего такого не почувствовал. Потом до меня дошел запашок вроде как тюрьмы, пота, лизола. Видать, попалась какая-то полувыветрившаяся портянка! Сейчас на столе остались только фотки. Смотрят на меня эти лица, в основном двадцатилетних подростков, еще не в форме. Снимки, сделанные где-то над Доном, в фотоателье далекого СССР. Патриция берет один из них, протирает рукавом и рассматривает, словно видит впервые в жизни:
– Этот наверняка уже вернулся на свой Кавказ, Саша мой любимый. А вот Ваня. Иногда ночью, когда не спится, беру карту и смотрю, где теперь мой Саша, где мой Ваня, где Дмитрий? Ничего нам не оставили, даже казармы отдали университету. Ничего, ни парка, ни казарм, ну ничего. Вы все хотели этих перемен, эту новую систему, а мы с Лукрецией молились, чтобы у вас ничего не получилось. Все идет к худшему. Солдатика в поезде снять в коммунистические времена – булка с маслом… Мало того что все эти Сашки и Ромки были прямо из деревни, так еще не было в армии девчат, пропусков… Я, как только услышала о «гуманизации в армии», сразу поняла, что плохие настали для теток времена. Потому что теперь у каждого новобранца практически неограниченный доступ к пизде. – Лукреция плачет.
Тут Патриция встает и с надеждой в голосе спрашивает:
– Может, кто-нибудь на нас нападет, а, Лукреция, как ты думаешь? Может, Германия чуток бы нас пооккупировала?
Патриция, видимо, не слышала о НАТО.
Лукреция начинает беспокойно посматривать на часы. Церковная служба ждать не станет, а она хочет помолиться за своего Ваню, за своего Дмитрия, за своего Сашеньку. Или только так болтает, а сама пойдет известно куда. Одетая в черное, конечно. Но уже из коридора говорит:
– Эх, не нападут на нас больше, былого не вернуть. А потом вдруг как засияет: – Разве что… Разве что в тюрьму попасть! Боже! Петуха бы из меня сделали, все эти преступники, а я бы для них тряпкой, тряпкой бы стала половой! Тря…
– Прекрати! Мы не одни! Боже, снова свое завела! Пошла б уж лучше в этот свой костел, помолилась. В костел идет, Богу молится, а с чертом водится!
– Тряпкой, подстилкой бы им стала, сказал бы мне такой с рожей убийцы: мой пол волосами, нахаркал бы на каменный пол, нассал бы, лижи, сука, а я бы лизала!
У Лукреции трепещут ноздри, как у кинозвезды, она проводит пальцами: по груди, потом по животу, потом ниже, вся она – жажда унижения, что-то ее донимает, что-то гложет, неизвестно что, но, абсолютно точно, это что-то загоняет ее в какое-то гиблое место.
– Заткнись! Ладно, станешь для него тряпкой, всех уже оповестила, а теперь заткнись!
Патриции и самой-то трудно все это выдержать. Ей что-то приходит на память. Но видно, что она ждет, пока Лукреция уйдет. А Лукреция крутится, примеряет старые шляпки и в конце концов выбирает одну такую, из коричневой кожи, в которой выглядит как толстый старик, собравшийся на рыбалку. Показывает нам язык, но тут же делает глубокий реверанс и уходит. Патриция облегченно вздыхает, хочет что-то мне рассказать. Но именно в этот момент дверь открывается, Лукреция возвращается, хватает со стола пачку сигарет и зажигалку, машет нам на прощание и наконец уходит. Патриция встает, чтобы из большого обгоревшего, а может, всего лишь закопченного чайника долить мне кипятку в кофейный осадок. Доливает еще и мятную настойку. Сразу становится другим человеком, серьезным, больше не говорит о себе в женском роде, он стар, утомлен жизнью. Но остатки волос тем не менее поправляет. И тогда: дррр! Лукреция опять возвращается:
– А помнишь, как мы ездили в Олесницу, к тюрьме, коль скоро речь зашла о тюрьме и петухах? Я обязана увековечить это в памяти потомков, потому что вернусь поздно и вас, пан журналист, уже не будет… Помнишь, Пат? Поздняя осень, они целый день торчат в окнах, обхватив решетки, и таращатся на улицу. Какие-то угловатые, серо-бурые, как топором вытесанные, коротко остриженные и безликие. Оба крыла тюрьмы видать с улицы, не то что у нас, на Клечковской. Иногда под окна приходят родные и жестами о чем-то сообщают своим, но в тот вечер никого не было. Только мы стояли себе и стояли. Они нас сразу вычислили.
– Нет, сначала один спросил: «Чего глазеете?» Так мы чуть было не обосрались. Подумать только: преступник мужского рода, хуже того – несвободный, вроде как в армии, – и к нам обращается. Вы там говорите, что хотите, но, на мой вкус, настоящий мужик это мужик, лишенный свободы. А если он на свободе, значит, послушненький был, значит, угодничал. Мужик должен буянить, бунтовать! Я уже молчу об аттестате зрелости, лишь бы он был в тюрьме, в армии или в колонии. На худой конец, пожарным…
– Короче, как они разойдутся, как разорутся. А мы нет, мы молчок.
– А мы нет, стоим себе тихонечко, головы задрали, не шелохнемся. Тс-с-с. И тогда они непонятно как докумекали, в чем дело, и так громко стали кричать, что даже люди на этой улице начали оборачиваться. «Вы, суки, пидоры, бля, пидоры, мать вашу!» Это ж какое событие, на целую неделю хватит разговоров. А мы стоим, и уже невмоготу нам, так нас завели, слюной исходим, словно конфеткой в витрине нас дразнят, ах, как они нас заводят, но и мы их тоже! Еще б не завестись – они ж в нас петухов увидели! Они бы нас… они уж знают, что бы с нами сделали, ах, они нас ночью во время дрочилова припомнят. И будут говорить: «Ты которого берешь? Этого, в шапке, или того, высокого? А я, скорее, того, второго, что курил, уж я знаю, что бы с ним сделал», – так будут про нас самые настоящие натуралы говорить на нарах. На нарах, нарах, нарах!
– И тогда я тебе, Патриция, шепнула: «Похабаль». А у самой лицо неподвижное, губы окаменели. Похабаль, блядища, приколись, ведь они женщин в нас ищут, так пусть женщин и увидят, такими потом и припомнят. Чтобы потом у них встало. Когда себе czaj спроворят с помощью бритвы и лампочки. Ты им утонченную изнеженность подай, предложи какую-нибудь изящную округлость! Пат, дорогая, старушка Пат, похабаль niemnożka… Помнишь, стоило тебе сигаретку закурить, как они «браво» закричали и затопали. Заорали так, что даже охранник высунулся с угловой вышки – нам ведь изо всех окон кричали. А мы не выдержали, убежали…
Сделали мы круг по рыночной площади в этой Олеснице, бах – Олесницкую встретили, так она только пальцем у виска покрутила, когда мы ей сказали, чем здесь занимаемся, потому что эту игру открыла лет двадцать назад, и она давно ей наскучила, понятно, коль сама из Олесницы… Короче, сплавили мы ее и пошли дальше. Я говорю: «Слушай, безумная, темнеет, быстро на автобус и домой, дура, не то придется на автостопе юбку задирать».
– Только это не ты, а я сказала. Мы там, говорю, уже погорели, нас уже охранник засек. Они там такой шорох навели, так разошлись, по каким-то парашам, ведрам колотить начали, что охранник им по мегафону стал кричать с вышки, чтоб успокоились! Правда, этого мы не расслышали, только гул какой-то из матюгальника, а они в ответ еще больше разорались. Потому что их эта наша женская пассивность до безумия доводила. И их беспомощность: какой-то, вишь, пидор, какая-то тетка, словом, полное говно стоит себе на свободе, курит и зенки пялит, а они вынуждены сидеть взаперти и ничего не могут – ни нам врезать, ни даже закурить. Проходит по этой улице мужик с жердью, так они ему закричали: «Врежь им этим колом, врежь!» Мужик только шагу прибавил. Но мы вернулись, хоть нас там и разоблачили. А что? Уж и на улице постоять нельзя? Там рядом парикмахерская была, и мы вроде как перед парикмахерской другую тетку дожидаемся. Ждем, когда выйдет, а она еще в солярий пошла и потому так долго не возвращается, а потом еще и волосы красить, и на маникюр. А они, едва увидели нас, еще пуще разорались, чуть ли не на весь белый свет: «Опять этих блядей принесло!»
Вычислили нас мгновенно, как нечего делать. Мне знакомые давно говорят: вот женишься, дети пойдут… Уж сколько лет, а все никак сообразить не могут, а вот уголовник со сдвигом (мы только потом узнали, что это заведение в Олеснице для психически больных), эдакий псих-уголовник сразу в наш язык уличных шлюх врубился, сразу как к своим подкатил, как к шлюхам… Тот же язык…
И тогда ты крепче сжала мою руку. Нам кричали «Козлы», один встал во весь рост в окне, прижался к решетке, как будто решетку эту пялит, так терся об нее ширинкой. Мы – ничего. Словно окаменели, как в Библии. А у самих в груди – вулкан. Опять на рыночную площадь, опять возвращаемся, от самой автобусной станции вернулись, ночь ведь, значит, надо посмотреть, что там ночью творится, парни ночью, небось, об одном только и думают. В окне всего один был, а как нас увидел, исчез на секунду и опять появился еще с несколькими, начали они лупить по подоконнику и кричать и, пожалуйста – сразу все окна снова облеплены, свет позажигали, снова мы у них в фаворитах! Один что-то стал нам жестами показывать; вот где я пожалела, что языку жестов не обучена. А они нам кричат: «Эй ты, сволочь, отвечай ему».
Хотя слышно было плохо, после каждого их выкрика нам приходилось чуть ли не комитет меж собой созывать, чуть ли не собрание устраивать, чтобы расшифровать, что они сказали. «Эй ты, сволочь, отвечай ему» – на том дело и застопорилось.
– А что мне оставалось – я ж этого их немого языка не знала, – только палец в рот засунуть и вытащить. На вековечном языке полов к нему обратилась. Но слишком сильным оказалось впечатление. Не выдержала я, спряталась за угол и ну дрочить, а ты осталась… ну, давай, расскажи пану журналисту, что там дальше творилось.
– Ты смылась, а тут началась величайшая в моей жизни сцена под балконом… Один свистеть мне начал, а для меня это зазвучало жаворонком, предвестником утренней зари… Словно самый прекрасный концерт в филармонии, как прекраснейшая музыка. Свистел, точно суке своей верной. Причем целыми мелодиями. Фью-фью-фью. А я подошла к его окну (к самой стене не могла, потому что тогда бы я его не увидела, но на несколько метров приблизилась), как загипнотизированная, как приманенная кошка, точно в каком-то театре инстинкта, освещенная только этим тусклым светом с узором в клетку, пошла к этим вожделенным омутам. И тогда он руку поднял, погрозил и по шее полоснул, что, дескать, убьет меня, что клянется отомстить мне. Что меня с ножом в спине найдут, на темной улочке (вот она какая, книга улицы!), как Маньку из песни… У меня аж мурашки по спине. Но я стою. И тогда он снова засвистел, тихонько и так как-то спокойно, ну прямо по сердцу меня гладит, манит: «Ну, иди, малыш, иди… Ну, иди сюда, иди…» – и это свое «фью-фью-фью» насвистывает…
– Он так в детстве котят подманивал, чтобы потом их сжечь на помойке…
Они так котяток ласковым голосом подманивали. Вроде ласково, «малыш», говорят, и тут же на помойку труп выкинут. И столько их в этой гетерической тюрьме понапихано, что все их гетерические черты усиливаются, накручиваются. Какая-то мешанина нежности и ненависти, потому что они хотели нас одновременно изнасиловать и убить. Нас и ненавидели и хотели. А мы стояли как вкопанные на морозе, и эта наша пассивность с этой их взрывчатой смесью, как жук, посаженный в бутылку. Ребята всё молодые. Так и хотелось запеть: «А стены рухнут, рухнут, рухнут…»[17]17
Строка из песни Яцека Качмарского «Стены».
[Закрыть]
– Уже утро, почти рассвело, и автобус последний ушел, а мы все стояли и, наверное, до Судного дня простояли бы… Потому что думали, что вот-вот и настанет он, Судный день, Господь Бог сойдет и скажет: «Боже, а чего это вы, девочки, стоите так? И чего это вы, идиотки, встали там?»
А потом мы ходили к другой тюрьме, только это было очень опасно, потому что их оттуда иногда выпускали. Звоним одной тетке из Гдыни, а она нам говорит: «Вы это, от тюрьмы лучше подальше, подальше, у нас тут тетки ждали у тюрьмы, пока выпустят такого, еду ему, жилье предлагали, постирушку, и ни одной больше нет в живых… А я ради вас, девочки, на последние деньги задницу поднимать не стану, чтобы вам „Наш Господь, Иисусе добрый“ заупокой спеть…»
– Ты давай иди, Лукреция, иди уж, помолись, а я здесь с паном журналистом еще поболтаю…
* * *
– Было время, когда и разговору ни о каких казармах не было, я тогда еще в Быдгощи жил. Был у меня там дружок, Мачеихой звали. Вот уж правда ненормальная была: работал сиделкой в больнице, отработает свое, а потом остается и выносит утки. У нас с ним ничего не было, потому что мы обе искали мужских мужиков, лучше всего натуралов. На вокзале как раз была непруха, а нам позарез надо было кого-нибудь снять. Как наркоману, которому невмоготу без дозы. Раз подцепили мы солдата, напоили водкой, он стриптиз нам показал, но сапоги, гад, так и не снял, они вообще сапог никогда не снимают, у них там такой смрад, что им стыдно. И так потешно танцевал в этих своих спущенных портках, зато в сапогах и портянках. И с голой задницей. А еще был случай, сняли мы натурала, молоденького, Боже ж ты мой… А раз меня избили. Да так быстро, что не успел оглянуться. Иду ночью через парк, смело иду, вижу – навстречу какая-то группка. В двенадцать ночи. Я их заметил-то, когда они уже были от меня метрах в десяти; обычно я внимательно по сторонам смотрю, а они вынырнули из-за угла. Из-за какого-то строения. А что мне оставалось – только прибавить шагу и делать вид, будто откуда-то возвращаюсь и очень спешу. И уже казалось, что все в порядке, потому что слышу – они уже метрах в пяти за моей спиной и о чем-то разговаривают. Вдруг один как подлетит – секунду длилось, – ударил меня ногой и повалил на землю, а я, как упал лицом в асфальт, так больше и не встал. Другой мне ботинком шею придавил, тяжелым, скины такие носят, и только начинаю вырываться, он еще сильнее придавливает шею! Да так, что во мне что-то начало лопаться. А другие меня лупили моим же собственным ремнем, с меня снятым, а во рту – песок скрипит и кровь. Боже! Но я не чувствовала, не чувствовал боли, не чувствовал, как меня били, а лишь слышал: «сдохнешь тут, пидор». А я там что-то вроде «пощадите, пощадите», только это и сумел выхаркать. Содрали с меня кожу, часы я снял сам, стал им бросать всё, потому что, когда бросал, давление на шею вроде как уменьшалось. А то, что я жив остался, так это спасибо машине, проезжавшей по той улице, тогда я услышал: «смываемся!» Поначалу у меня ничего не болело, я на взводе был, а когда они убежали, начал кровью харкать, и потом мне сказали в больнице, что у меня внутреннее кровотечение. Прилетела ко мне Мачеиха. Поймали мы машину и в больницу. Там-то и выяснилось, что у меня это самое кровотечение и голова пробита, глубоко, сотрясение мозга и рука сломана. Документов при мне не было: все забрали, в одних трусах оставили. Газ? Кто тогда слышал о газе, но, скажу я тебе, в такой ситуации никто бы не отважился применить газ, потому что тогда б они еще больше озверели и убили бы: надави на шею посильнее – и все. Ведь как раз это стояние на шее оказалось хуже всего! Мне так хреново было, что я до конца жизни зарекся ходить через парк. Ну а потом мы в основном к казармам ходили, уже во Вроцлаве, а казармы – это самое большое счастье, супер, мало того что сплошь натуралы, так еще и вполне безопасно. Они нас даже вроде немного любили. А скины эти, бррр. Но зато мы на натуралах отыгрались!
* * *
«Старый портье улыбался и ключик давал!»[18]18
Строка песни из репертуара Славы Пшибыльской «Помнишь, была осень».
[Закрыть] Ключи и полотенца выдавала в сауне самая знаменитая из вроцлавских теток – сама Луция Банная. Известная своим бурным романом с каким-то уголовником, который ее напоил, а потом обокрал, после чего Луция сказала: «До конца жизни водки в рот не возьму, хоть бы золотая была!» Лысеющая, с крашеным волосом, завитым мелким бесом, косо так на меня смотрела в вестибюле Банного комбината. Грубое красное лицо, глядит исподлобья налитыми кровью глазками. Явно деревенская, что можно было понять хотя бы по типично-простонародной символике золота в ее высказываниях, ибо Луция не только не прикоснулась бы к «золотой водке», но и к каждому обращалась «золотко». Луция достает из плоского шкафчика большой ключ, как будто она тут бандерша, а ведь это всего лишь ключ от кабинки. Подает сложенную простыню, из которой получается римская туника, облегающая мокрое от пота тело, подает полотенце. Пьет кофе. Вся такая расслабленная, никуда не спешит, это другие носятся. У нее тут десятилетиями ничего не меняется; Луция певуче тянет гласные, говорит вальяжно, задумчиво:
– Иди, иди, беги, золотко… Туда как раз один красавчик вошел, чистое золото… Я ему и ключик дала с брелочком в форме сердечка, рыбка ты моя золотая. И еще тебе кое-что на ушко скажу: иди, иди, он там тебя дожидается… Я ему номерок дала, шестьдесят второй…
Вот если бы отыскать Луцию, можно было бы попросить ее по пятнам и подтекам на выброшенных в корзину для грязного белья простынях прочесть все эти истории и написать книгу улицы, может, даже золотую. Пусть она поднесет их поближе к искусственному свету ламп, потому что в сауне всегда царит сумрак. Пусть щурит глаза и ворчит, что плохо видит.
Половины из тех, что в восьмидесятые годы были завсегдатаями этой сауны, уже нет в живых. Старые тетки грели кости под паром, величественно прохаживались, обернутые простынями, приходили на весь день, приносили с собой в банке обед, который съедали в раздевалке. Великолепный мраморный зал Государственного банного предприятия был для них слишком велик. Не нужны были им эти греческие колонны. Парам приходилось вести себя тише журчавшей воды, потому что в те времена гомосексуализм считался грехом. Все голые, или в полотенцах, словно в римской тунике, одно плечо обнажено, демонстрация нарядов из простыней. Выпирающие ключицы, впалые грудные клетки, веснушки и родинки. Сидя в маленьком украшенном лепниной бассейне с тепленькой водичкой, я наблюдал за этими старыми тетками: Пригожая Цинцилия, Катажина-Сапожница, Иоаська-Мельничиха, Катажина-Мясничиха и другие вийоновские женщины, вышедшие в тираж, обнажали увядание своих прелестей, вожделенно облизывали губы, проходя мимо бассейна, пощипывали себя за соски, направляясь в парилки с надеждой, что я сам к ним подойду. Распад времен пришпорил распад их тел, начало которому положил СПИД. Специальное предложение: все десять казней египетских в одной! Сначала на их телах появились красные пятна. И они поняли: что-то кончается, настало время расставания… Тогда, забыв об угрызениях совести, они набросились на убегающие остатки жизни. И чем меньше времени у них оставалось, тем безогляднее погружались они в распутство. Лишенные стыда, подобно неестественно похотливым прокаженным, они пришли к выводу, что все уже и так больны и нечего больше заботиться о безопасности. Они мочились друг на друга, вырывали остатки волос, испробовали все извращения, в том числе и смерть. Римская сауна напоминала сцены из маркиза де Сада, из фильмов Пазолини. О, с какой страстью сцеплялись эти распадающиеся тела пятидесятилетних толстопузых мужиков! Не было такого выделения, которое бы они не слизали, не было такого движения, которое бы они не интерпретировали как приглашение к… сексу. Только был ли это секс? Нет, скорее какой-то танец смерти, нечто, о чем неизвестно как говорить, зато можно скулить и дышать… Потом появились крысы, а может, им только показалось. После первых смертельных случаев дирекция устроила дезинфекцию сауны, бассейна и раздевалки. Посреди римского зала, меж высоких колонн поднимались дымы, Луция Банная жгла полотенца, простыни, горела засохшая сперма, а впрочем, дым к небу не шел, он стелился по земле.