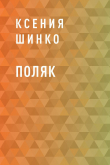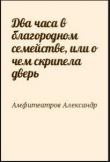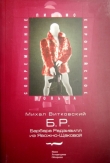Текст книги "Любиево"
Автор книги: Михаил Витковский
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Мужчины в жизни Паулы
– Ты не представляешь, дорогая Михалина, какую большую роль в моей жизни сыграл один жест: меня берут за руку. Как этот жест через всю мою жизнь прошел, как возвращался в самые необычные моменты. Мужчина хватает меня за руку и куда-то ведет.
Паула сидит на одеяле, в большой белой шляпе. Рассказываем друг другу то, что до сих пор куда-то от нас ускользало, несмотря на пятнадцать лет знакомства.
– Впервые этот жест появился, когда мне было лет примерно шесть. У нас в городке был один такой сорванец с оттопыренными ушами, рыжий, в веснушках, лопатки торчат, лупоглазый… Короче, все на нем топорщилось, подмигивало… Уже в школу ходил, но учился хуже всех. Тетка, работавшая уборщицей в этой школе, как-то рассказывала, что однажды он влез на высокий шест посреди спортплощадки, на который поднимали флаг во время линеек. Туда к нему целые делегации приходили, умоляли, слезь, Анджей, слезь… Фельдшерица школьная, учительницы – а он ни в какую. Уперся и только смеется, щерит желтые свои зубы, а просветы между зубами большие, а лопатки выпирают, а уши торчком, эх, торчком. Шест мерно раскачивается то влево, то вправо. Так и не слез. Вот он какой. Сам мне потом рассказывал, как на всех сверху смотрел.
Помню то время как просто невероятное, помню болота, какие-то придорожные алтари с Богородицей. Помню, раз допустил я святотатство, вынул фигурку из придорожного алтарика, а она оказалась пустой внутри – эдакая «Богоматерь Бутылка» с отвинчивающейся головкой, прикрепленная ржавой проволокой к полочке. Вот они, подумал я, вот они, чары-то, и развеялись… И только так подумал, как из фигурки выскочила живая ящерка, прямо мне на руки…
Короче, возвращаюсь к рукам. Однажды этот сорванец предложил мне: «Давай рванем отсюда». А у меня тогда была вырезанная то ли из «Пшекруя», то ли из какого другого журнала картинка Антарктиды. Он и стал подбивать меня бежать в Антарктиду, а сам спрашивает, не знаю ли я, где эта самая Антарктида находится. Я и говорю, что где-нибудь поблизости, где ж ей еще находиться. Наверняка за болотами.
Бежать собрались ночью. Я чувствовала какое-то непонятное воодушевление: с таким сорванцом вдвоем бегу аж в Антарктиду. Взяла с собой полкило колбасы, теплый свитер и всякое такое. С колбасой в Антарктиду… Условились около фигурки, ну той, которая с ящерицей. Я улизнула из дома. Никем не замеченные, дошли мы до самого леса, и тут он вдруг подал мне руку… Жестом, не терпящим возражений. Чтобы идти через болото, потому что так быстрее: лес был за болотом. Я испугалась – страшно было идти по болоту, – вот тогда-то он и подал мне шершавую в ссадинах руку и повел. А когда мы уже были на самой середине, в полной темноте, он сказал, что, видимо, придется отказаться от Антарктиды, потому что оба мы уже поняли, что это дело нам не по силам, оба пожалели, что отправились в этот поход. Возвращаемся. И тут он вдруг говорит, что специально привел меня сюда, чтобы убить. Я встала как вкопанная, а он не выпускает мою руку, так сжал, что наши пальцы аж заскользили от пота. Так и стоим. Он говорит:
– Сейчас тебя затянет, подождем, пока эта трясина тебя затянет.
Я заплакала. Прошло еще какое-то время… Он говорит:
– Я тебя тут сейчас утоплю… – А когда меня уже начала засасывать трясина, снова говорит:
– Дай мне руку… – и так судорожно держал меня за руку, как будто одновременно хотел и утопить, и спасти.
И только когда начало светать, мы увидали, что к нам движутся какие-то огоньки, так нас и нашли на этом болоте, которое сегодня мне кажется уже не таким опасным… Может, так только говорили: «болото», а на самом деле это была просто мокрая почва, а не топкая трясина. Потом меня отправили в лагерь, в Чехословакию…
Обычный коммунистический пионерский лагерь в фанерных бараках. Но он мне казался раем, мне уже было пятнадцать лет, и вся мужская часть лагеря прикидывалась гомиками. Постоянно. Подойдет один к другому и давай о него тереться и постанывать. Каждую ночь устраивали такие показушные оргии. Сбивались в пары, причем каждый день партнеры менялись. Спали на земле или на двухъярусных нарах: кто на нижнем, кто на верхнем ярусе. Я спала по очереди: то с одним таким телочком на земле, то еще с каким-то на нижнем ярусе, то с одухотворенным поэтом наверху – и точно так же можно расставить всех мужчин, встречавшихся мне потом в жизни. Понимаешь: с уровня обезьяны и голого эротизма в чмошном исполнении, через более или менее нормальных, вплоть до романтической любви (вершина). Конечно, лучше всего я помню того, что с пола, а тот, который «средний», самый обычный, совершенно из памяти исчез. Ну вот, в первый день я спала с тем, который на полу. Он говорит: «Я тебя сегодня отымею».
А я молчу. Лег на меня и трется, все смеются, потому что это вроде как шутка такая. Но была там и тетка, молодая. Боже, кого только у нее не было. Какая же она была охочая! Трусики белые у нее были из валютки. И вот лежу я с этим телочком под спальником на одеяле, а прямо передо мною она, на нижнем ярусе. Чего только она своей задницей не вытворяла! И направо и налево ею вертела, чтобы тот телок, что снизу, и тот поэт, что сверху, видели.
Погоди, а что же этот Войтек потом ей сказал? – Паула задумалась, затянулась сигаретой, подперла голову руками. – Представляешь, не помню, но что-то она там несла, чтобы свет погасили, может, на самом деле думала, что-нибудь получится? Я как сейчас помню, как дело было, но ты про это наверняка писать не станешь. Нет! Не пиши! Зачеркни все это, пожалуйста! Я вот только сейчас всю сцену вспомнила, ей-богу.
– В смысле?
– Короче, этот Войтек, что с теткой был, показался мне попригляднее, чем мой, с пола, который уже вовсю меня ощупывал, короче, я что-то там ляпнула, какой-то афоризм, и вдруг все изменилось. Тетка в белых валютных трусиках – на пол, а я – на нижний ярус, к Войтеку. В результате все мы уснули, и свет погас. А с этим Войтеком все уже было по-настоящему.
– Честно?
– А ты думала! – смеется Паула. – Ну…
Везде пахло молодым потом, фанерой, немножко краской… Стало быть, телок. На следующий день я спала на нижнем ярусе. Со «средним», «середнячком». С никаким. А на третий день – наверху – тот мне всю ночь свои стихи читал! То есть все совпадает. Прикинь – длинные волосы, впечатлительный… Ну ладно. И тогда еще раз появился этот жест хватания за руку. Потому что собирались устраивать то ли конкурс чтецов, то ли торжественный вечер, чему-то там посвященный. Меня, конечно, выдвинули в солисты, потому что культурная. А я взбунтовалась, отказалась учить стих (Галчинского).[59]59
К. И. Галчинский (1905–1953) – польский поэт.
[Закрыть] Так и сидела, обиженная на весь свет, в столовке перед стынущим супом, все уже ушли, а у меня слезы капают в тарелку. Тут подошел ко мне этот телок с пола: большой, простой, со сломанным носом…
– Ну, что случилось, Павлик… Что? Все будет хорошо… – И гладит меня. Я сижу, обиженная, лишь бы, думаю, это подольше длилось. Носом хлюпну, слезинка навернется, я глаза опущу, а в душе молюсь, чтобы он меня обнял и утешил. А он продолжает:
– Не хочешь играть с нами в мяч – не играй, я тебя в обиду не дам… – И хватает меня за руку, и обращается ко мне, вроде как к бабе: – Ну, Павлик, пошли, сходим в лесок и порепетируем…
Я только носом хлюпаю, ногти рассматриваю, потому что девочке-подростку очень нужно это мужское тепло, нежность. Ну и чтоб эту руку шершавую, мужскую мне подал и сжал, сильно-сильно! Пошли в лес! Со мной, в лес, а может, и на болото…
Ну и ведет меня в конце концов за собой на эту репетицию, как тот рыжий тогда на болоте, будто хотел и в обиду не дать, и убить… Да, таких вот быкастых парней с пола во всех этих школах да лагерях тетки всегда боялись, они за нами часто увязывались, поддевали нас, но после того, как мы немного поплачем, около нас крутились, как около обиженной бабы, и нас обнимали…
Ладно, выиграла я этот конкурс и стала звездой всего лагеря. Тогда тот, что с пола, стал ходить за мной, как охранник, гордый такой, что «наши выиграли», так уж у них, у этих натуралов, заведено. В поэзии он не разбирался, но гордился, что «наши выиграли», потому что я из того же самого домика была. Как середнячок на это реагировал, не помню, но тот, что сверху… Волосы со лба откинул и вдохновенно так:
– Ну да, ну да, Галчинский, конечно, ритмичный, легко запоминать, ну да (а волосы все откидывает да откидывает), ну да, а не пробовал ты, например, читать Стахуру?[60]60
Эдвард Стахура (1937–1979) – польский поэт, прозаик, бард.
[Закрыть] А?
Третий раз этот жест появился уже в интернате. Начало восьмидесятых, я покинула наш домик в М. и поехала учиться. Жила в интернате, наверное, века восемнадцатого постройка, из красного кирпича. В казарменной атмосфере. Какие же там смешные типы были… Например, в ванной комнате: покрытые грибком стены, ванных нет, только лягушатники, все мылись над умывальниками. Все, но не тетка! Была там одна такая. А поскольку ванны не было, так она, Мишка, будешь смеяться, наливала воду в два мелких лягушатника и в них укладывалась: ноги – в одном, туловище и голая задница, сухие – между, а плечи – в другом. И еще книгу читала! Такая у нее была потребность – ванну принять: с книгами, с пенами, все как в кино. Голливуд в интернатском общежитии себе вообразила! Мы над умывальниками, а она лежит себе в лягушатниках в позе звезды и читает.
Был еще в общежитии мальчик из художественного лицея, с длинными дредами, с проколотыми во всех местах ушами, всегда меня рисовал, а как-то раз крепко схватил меня за руку и говорит:
– Слышь, Павлик, давай не пойдем завтра в школу, я тебя рисовать буду…
Это был мальчик из категории верхнего яруса. Длинные волосы, живопись. Мне мои волосы казались желтыми, но он углядел в них сливу, я ему на это: «нет у меня в волосах никаких слив»… Он как засмеется, и поцеловал меня в волосы, а пахло от него скипидаром и горячим вином с гвоздикой и корицей!
Но были и другие, с нижнего яруса: эти, когда мылись над умывальниками, всё кругом заливали, бросались мылом – ребята с вагоноремонтного завода…
Когда я была маленькой, учительница повела нас на экскурсию «знакомимся с профессией» как раз на этот вагоноремонтный завод. Специально пришлось встать в пять утра. Помню рев заводской сирены. Невыносимый в такое раннее время. Все замерзли, потому что на дворе уже была поздняя осень. Я терла покрасневшие глаза и думала, что это сон. Я видела призраки грязных людей, возящихся с машинами, с подшипниками, с товотом, на холоде, ранним утром. Все еще было темно, как будто эти парни вышли на работу посреди ночи. Грязными руками они разворачивали бумагу и доставали неказистые бутерброды с жирной колбасой. Когда закатывали рукава, становились видны глубокие шрамы, ровные, как будто специально себе сделали. Ногти черные, заскорузлые, и на ногти-то непохожие. Где-то в проходной по радио тихо звучало какое-то важное сообщение. Пока утро прикидывалось ночью, оно нас даже как-то возбуждало, потому что не надо было спать, потому что ночью творятся удивительные вещи, но что будет, когда займется скучный трезвый рассвет? Вот тогда-то я и решила стать актрисой и не иметь ничего общего с профессией вагоноремонтника. Потом я просила родителей записать меня в Дом культуры. Записали. А тогда, во время экскурсии, учительница сказала: если будешь хорошо учиться, никогда не окажешься в таком месте. Люди, которых ты здесь видишь, плохо себя вели, не учили уроков, курили за школой и не учились играть на пианино. А они мне подмигивали, чтобы я ее не слушала. Чумазые парни, припорошенные этим рассветом, словно серой пылью.
Потом, годы спустя, снова этот жест. Сидели мы с моим Филипом под Щитницким мостом в День Всех Святых, жгли свечки и пили водку. Смотрели на прибывающую воду. Время от времени слышалась сирена с проплывавшего пароходика. Филип метнул пустую бутылку в булыжную облицовку берега Одры, а я встала, пошатываясь. И предложила пойти по берегу, но не по валу, а по уходящей в воду покатой облицовке. Вот тогда (может, именно это мне и было нужно?) он подал руку и уверенно повел меня. Ноги все время съезжали по скользкой от водорослей облицовке из оставшегося от немцев булыжника. Так мы добрались до следующего моста, под которым было слишком низко – не встанешь, но мы открыли лаз в какие-то подземелья внутри моста и тогда… И тогда он снова подал мне руку.
Телефоны в жизни Паулы
Паула в постели перед первым кофе. С чтивом.
Дрр-дрр-дрр!
Кто звонит? Бочка.
– Привет, Паула! Инесса из Штатов приехала!
– Какая Инесса, не мешай, жаба, я в постели, про Грету Гарбо читаю.
– Ну Инесса, та, что до военного положения в Штаты уехала, ну та, которая Юрку обокрала, с Кшыков. Ну та, что с этой Дарьей из валютки жила…
Паула выходит из себя:
– Да не помню я.
Бочка:
– На завтра нас всех из старой компании в «Макдональдс» на обед пригласила!
Паула бросает трубку, встает, что-то там ворчит себе под нос, идет заварить кофе. Ловит первую программу. Кухня наполняется классической музыкой.
Паула уже после первого кофе. Воскресное утро, издали слышны колокола.
Дрр-дрр-дрр! Анна:
– Я получила новый рейтинг вроцлавских теток из «Сцены». Ни одной знакомой клички. Что с ними стало? Где они теперь обретаются? Все новые имена. Какие-то Эстеры, Памелы… Вас с Михаськой-Литераторшей там вообще нет! Единственное, что радует, – ваша сестра на тридцатом месте. А теперь, что карты утром сказали: «Единица» переживет свой ренессанс. Только там все снова соберутся. Все вернутся. Будет как раньше. Больше ничего не могу сказать. Карты не говорят, когда. Паула!
– Ну?
– Можно я приеду к тебе во Вроцлав?
– Конечно, Андя, приезжай, непременно!
– Знаешь, дорогая…
– Ну?
– Я хотела бы тебя обокрасть… Тебя и этого сучонка Михаську…
– Ха! Ха! Ха!
– Плеснуть тебе в суп сыворотку правды и спросить: где ты, паскуда, деньжата прячешь. Все бы у тебя забрала.
– Ха! Ха! Ха!
– Говори, не то прибью! И так мне мечтается, чтобы ты пошла потом на заставу, на Щитники, и какую-нибудь самую большую сплетницу спросила: «Помнишь Анну, которая давно в Быдгощ свалила?» И тогда одна такая, а может, и две, например Бронька-Гэбистка или Сова, скажут: «Ну?» А ты: «Воровкой оказалась, всю квартиру мою обчистила, на сто тысяч меня грохнула… Даже яйца из холодильника, сука, вынесла». И тогда они, головой ручаюсь, сказали бы: «Я всегда говорила, что она воровка, у этой суки прям на морде написано: воровка! Сейчас же звони в полицию, даже не раздумывай, не жалей ее!» И радовались бы!
– Ха! Ха! Ха! Ну ты, Андя, и придумаешь!
– Знаешь, Паула, зачем этот сучонок Михаська книжку про нас пишет?
– Зачем?
– Он думает, что телки прочтут, проникнутся нашей судьбой и сжалятся, станут к нам более снисходительными и скажут: «Вон оно что оказывается, вот как они подкатываются к нашему елдану, а он – вот он, на, Михаська, бери, порадуй свое очко, если уж вокруг этого столько шума…» И будет, прошмандовка, по воинским частям ездить с авторскими вечерами и забавляться с телками со всей Польши, а нам ничего не достанется, хотя все это наши истории! Потому что она теперь гранд-дама, она тебе в парк не пойдет, как когда-то, не-е-ет, побрезгует… Пойдем, обокрадем ее за это или что-нибудь на нее наговорим…
– Да ты че, когда это телки книги читали?
– Анка! А знаешь, я на заставе подружилась с Калицкой!
– Боже упаси от такого счастья!
– Очень со мной была мила.
– Это, я думаю, она дозналась, что у тебя большая квартира, что там комнаты пустуют, и теперь эта сука будет подлизываться…
Паула кладет трубку и впадает в задумчивость. «Единица» была одной из «номерных» застав, а были еще Артистическая, Бемовка… Но чтобы возродилась? Паула крутит пальцем у виска.
После второго кофе она раскидывает карты. Вчера постелила свежую скатерть, вроде бы карты это любят. Письмо! Какое письмо? К черту, уж столько лет не получаю никаких писем. Блондин вечернею порой. Паула хихикает. Поправляет прическу. Принимает успокоительное, потому что все время «какая-то разбитая». Телефон.
– Алло.
Звонит Пьорелла. Всхлипывает.
– Алло, это ты, Пьорка? – а та в рев:
– Ли… ли… ли… Лиза умерла, повесилась…
– Господи, что ты несешь, Пьорелла, в субботу я видела ее на заставе! Она одному молодому работяге платила. Я стояла и видела. И Мими тоже была.
– Удави-и-илась.
– Где и как, говори толком.
– В артистической уборной, у нас, в оперетте…
– Да ты что?!
Пьорелла, уже спокойней:
– Ну говорю же тебе, мы уже все были в костюмах, я к ней в уборную, коньячку глотнуть перед спектаклем, понимаешь, как всегда, вхожу, а она… – Пьорелла снова в рев. – А она на поясе от халата висит, на трубе отопления.
Паула спокойно (видать, лекарство уже подействовало):
– Приходи немедленно, девочек надо обзвонить, на венок сброситься.
Пьорелла уже тоже спокойнее:
– С лентой?
– Конечно, с лентой. И с надписью: «Лизе от подруг». (Паула представила себе, как эта надпись будет контрастировать с мужским именем и фамилией на могиле.) Или по-другому, ну, не знаю, стих, что ли, какой дать, короче, приходи.
Паула подходит к столу, собирает карты, идет закрыть окно, бормочет: «Блондин вечернею порою, ну и где они, эти твои блондины»… А может, она и сама какой-нибудь стих сочинит?
Мнимый телок
Говорит Паула:
– Мир умирает, мир скатывается в пропасть. Иду по парку, смотрю – телок. Настоящий такой быковатый мужик: морда, задница, все при нем, ни за что не скажешь, что пидор. Обычный мужик-натурал, но идет в кусты, я, стало быть, за ним, потому что он весь такой мужской, а это редко случается, ни капли тетки в нем не учуешь. Ну. Классический вариант: он расстегивает ширинку, а я на колени. Ладно. Но мне как-то не по себе, потому что он берет и садится на корточки, и вроде как у меня хочет отсосать. Какого хрена, я здесь баба, тетка проклятая, а ты – телок! И тогда он стягивает брюки до колен, а там… красные ажурные чулочки… Я думала, помру от смеха, все у меня упало, и только все до последней детальки рассматриваю, чтобы тебе это поточнее описать, и говорю:
– Знаешь, здесь столько легавых вокруг, меня это напрягает, я ухожу.
И пошла, но чтобы телки чулки на подвязках носили, где это видано…
Теперь-то ее все знают и называют просто «которая в колготках»… Вот так, и никаких навороченных кликух не хотелось придумывать, а просто «которая в колготках», самые простые решения часто оказываются гениальными. Но когда этот тип появился первый раз, когда его еще не знали, все тетки за ним полетели, а потом, когда он уже легально стал прохаживаться по парку в чулках (сверху – скин, снизу – баба, точно какая-нибудь сирена), то все тетки уже умные были и:
– Ха-ха-ха, чокнутая тетка, чокнутая тетка!
Как на Щитниках Паула телком прикидывалась…
Ночь. Сижу в аллейке на лавочке, курю, прикидываюсь телком. Но в зимней шапке выгляжу скорее как старая баба в платке, ты бы, Мишка, помер со смеху. Во всяком случае ноги, джинсами обтянутые, развела пошире, кроссовкой землю ковыряю, ну и бросаю телковские взгляды. Вот такие (и тут Паула корчит какие-то смешные рожи, но похожа скорее не на телка, а на тетку). А чтобы не было видно шапку, я капюшон телковский на голову натянула от блузы с какой-то спортивной надписью. Сижу.
– А зачем ты, идиотка, прикидывалась телком?
– По заданию Анны из Быдгощи, она мне звонила. Я должна была изучить культуру самых молодых теток. Очень долго сидела так, потому что большинство теток меня уже знали и на телка в моем исполнении не велись, посмеивались…
Но в конце концов появилась какая-то молодая, скорее всего прямо из деревни или маленького городка, и говорит, что она из общежития, первокурсница. Застенчивая такая, смотрит на меня снизу вверх, глаза щурит, словно на солнце, сразу видать, что телка во мне углядела! Карикатуру на себя саму я в ней увидела, как я кокетничаю… Потому и возненавидела ее! Тетки, чем они больше похожи, тем сильнее друг друга ненавидят. Но я должна была через это переступить, задушить в себе ненависть и приступить к делу! А эта-то ни о чем не догадывается и дамским таким голосочком поет:
– Ты был здесь пару дней назад… Я тебя узнала… С кем-то шел, с приятелем… Я узнала тебя по капюшону…
Она меня с каким-то настоящим телком перепутала, может, именно поэтому сейчас повнимательнее не присмотрелась. С тем, о которого каждую ночь отиралась, которого возжелала! В конце концов так говорит:
– Я в общежитии живу. А потому сам понимаешь… Не могу тебя к себе пригласить…
А я уже еле сдерживаю смех: кто ж такие вещи телку рассказывает? Чья это школа? Чей стиль? Наверняка не наш!
– Понимаю, понимаю… – говорю я мужским голосом, а точнее, шепчу. А ей уж невтерпеж, спрашивает:
– Что ты больше любишь?
Этого еще не хватало, виконт, чтобы я перед ней исповедовалась!
– Увидишь… А ты?
Мишка, это «а ты» я уже спросила специально для тебя, чтобы тебе потом рассказать и с тобою укататься со смеху. Исключительно. Потому что тетка эта уже давно экзамен провалила. Но ее ответ… Сама себя высекла, виконт! Так быстро и под нос пробурчала, как на исповеди, ну, знаешь, когда кто-то чего-то стыдится и так быстро говорит, на одном дыхании:
– Ласкать тело и брать член в рот (если он и мой берет), целовать в губы, целовать все тело…
«Ласкать член!» Я ей сказала, чтобы кого другого нашла, развернулась и почапала. Звоню Анне, отчитываюсь, а она на это:
– Все из-за того, что не стало старых учительниц… Старых теток всех или поубивали, или они сидят по домам и редко высовываются. С кого этой салаге брать пример? На чем учиться? Где учебник? Скажем, Рома Пекариха или я, вот мы учились, практику проходили у Матки, у Пизденции, у Стряпухи, у Цитры, у старых мастериц. А эта молодежь не понимает, что, будь на моем месте настоящий телок, она бы получила не телка этого, а в морду! Они просто не понимают, что им такие вещи не говорят! Что им насрать на ваши брабантские кружева! К телку подходишь, смотришь в упор и сразу, без разговоров, к телковой ширинке, и готово! А она мне тут: «ласкать тело» и еще условия будет ставить, что в рот возьмет, если и у нее возьмут! Говорю тебе: Матка в гробу бы перевернулась!
Звоню Цитре, у нее, бедняжки, рак щитовидки, дома сидит, предается воспоминаниям. Ходит в маленьком паричке, зачесанном вверх, как королева. С кривым сломанным носом. Всю жизнь протанцевала в оперетте, в Варшаве посещала кафе «Аматорское» (видимо, еще в сталинские времена). У Сигетинской[61]61
Мира Зиминская-Сигетинская в 1949 г. вместе с мужем Т. Сигетинским основала ансамбль «Мазовше».
[Закрыть] танцевала в «Мазовше». Очень культурная. У такой есть чему поучиться молодежи… А то эта молодежь…
Паула с отвращением гасит сигарету и прячет окурок в коробочку. Потом делает губки клювиком. А я ей за это про Жизель, чтобы тоже что-нибудь из своей молодости вспомнить, вот только молодость эта прошла в самой настоящей гомосексуальной среде, и никакого скрытого вожделения – как с этим схватыванием за руку – там не найдешь. Все только в открытую.