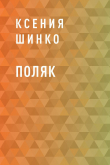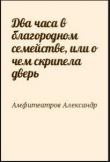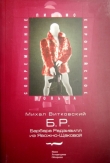Текст книги "Любиево"
Автор книги: Михаил Витковский
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 16 страниц)
Но не всегда. Когда шел дождь, весь парк подхватывал неизлечимую венерическую болезнь под названием изморось. В такие ночи вход с Артистической иногда был открыт. Тогда в проеме, через который входили, появлялся мужчина, которого мы называли любовником дождя. Он стоял со спущенными до самых ботинок штанами и подвернутым под самый подбородок свитером. Мок под дождем или подрачивал у порога. Он ничего ни от кого не хотел, ему нужно было только эхо дождя, барабанящего по жестяным стенам, этот усиленный отголосок обычных капель. Похоже, он не чувствовал ни холода, ни стыда, ни ветра.
А может, как раз они его и привлекали? Каково человеку, по голому телу которого медленно скатываются холодные капли дождя, но не чистые, а упавшие с ржавой крыши сортира? Иногда я пытаюсь вспомнить его лицо. Какое выражение лица может быть у мужчины под тридцать, с усами, в подтянутом к подбородку и поддерживаемом одной рукой задрипанном свитерке? О чем он думает? Возбуждает ли его легкий шелест в ближайших кустах? И охватывает ли разочарование, когда выясняется, что это всего лишь ежи? А может, ежи для него как раз перебор? Однажды ночью я увидел его во время летней грозы. Он стоял и курил, а жестянка как не знаю что притягивала молнии. Груда мокрого железа. Погибнуть в городском сортире. От молнии в романтических пьесах гибли убийцы. Балладина[10]10
Королева-убийца, героиня трагедии Ю. Словацкого «Балладина» (1839).
[Закрыть] тоже погибла, правда восседая на троне. Любовник дождя был бледен и величествен, а его мокрые волосы слиплись в старомодную довоенную прическу. Да и усы у него были как бы слегка под Гитлера. В каждом приличном детективе убийца отправляется на свою охоту в дождливые ночи. Ночью парк мог много чего наобещать, только на выполнение обещаний не хватало времени – брал свое предрассветный холод.
Странно, что для большинства людей всегда существовало различие между смертью от молнии на троне и в жестянке или (если захотим найти нечто такое, что по формам и по расположению больше всего напоминает этот туалет в парке) в читальном павильоне. В эдакой беседке в стиле рококо, поставленной в английском парке, называемой также храмом размышлений, где наверняка не один роман прочли чувствительные рококовые матроны. Но было еще одно название для этого места сентиментального уединения: «храм Купидона». Часто над дверью помещали гипсовых амурчиков, целящихся своими стрелами в посетителей. Читаемые в беседке последние «Арлекины»[11]11
Издательская серия популярных сентиментальных романов.
[Закрыть] тоже призывали к греху, и, головой ручаюсь, это было то самое укромное местечко, где совершались измены. Но что-то мне подсказывает, что различие между этими двумя парковыми святынями, в которых творится практически одно и то же (и если не в действительности, то в грезах), по-прежнему существует и даже со временем усугубилось…
Существовали ли жестянки до войны? На одном из довоенных снимков Вроцлава видна площадь Польши и изящная, украшенная лепниной уборная на месте сегодняшней жестянки. Группка господ с тросточками и в шляпах прогуливается по аллейкам среди клумб и фонтанов. Может ли довоенный прикид любовника дождя служить тому доказательством? Или это просто призрак довоенного немца, скажем, убитого неизвестными? Никто так и не написал истории жизни гомосексуалистов, разве что мочой на ее металлической стенке. Сколько было «гомоэротов» до войны – столько же? Где они встречались и где занимались сексом?
Единственное известное с довоенных времен место – «сожженная застава».
Ее постоянно кто-нибудь поджигал. Это была не теперешняя жестянка, а изысканная кирпичная постройка, солидная немецкая работа, с колоннами и лепниной, типичный для девятнадцатого века клозетный классицизм.
Она была «альтернативной» точкой для тех, кто хотел гарантий, что, хоть и не будет тут много народу (о ней мало кто знал), зато скины не нападут. Сожженная застава. В мрачном, поросшем кустами уголке парка, куда немногие забредали, вдали от аллеек. Как бы в дикой части английского парка. Именно здесь и встречались немецкие гомосексуалисты до войны. Чтобы убедиться в этом, достаточно пойти в Университетскую библиотеку или в «Оссолинеум»[12]12
Национальный институт им. Оссолинских, знаменитый своей библиотекой и издательством.
[Закрыть] и попросить довоенные газеты с криминальными рубриками, сообщающими об убийствах и скандалах. Старые, очень старые сосалки рассказывают, что еще в пятидесятые-шестидесятые годы немецкие тетки, которые сами не эмигрировали и не были по каким-то причинам выдворены, продолжали приходить на сожженную заставу. А сжигали ее уже раз сто! Приходили, чтобы снова и снова продемонстрировать неверие в то, что произошло. Потому что поляки туда не заглядывали, место было сожжено войной. Однако немцев это не смущало. Они приходили, прогуливались, здоровались и хабалили в своем кругу. Делали вид, что огонь не коснулся их заставы, что она такая же, как и прежде. Желали друг другу приятного дня.
Лишь в восьмидесятые годы сюда стали заходить поляки, и то как бы невзначай. Иногда парами. Здиха Змеюшница, какой-то приезжий, прочитавший в редко обновляемом путеводителе, что здесь якобы что-то происходит… Никто не знает, кто постоянно поджигает сортир. Есть ли тут какая связь с войной и немцами? Или это скорее ритуал очищения данною места, своего рода дезинфекция огнем? А может, жестяной петушок на шпиле в самом деле притягивает молнии? Короче, сейчас «сожженную заставу» огородили солидным забором, и мужики в робах вывозят щебень. Люминофорные краски забора удивительно контрастируют с потемневшим от времени кирпичом.
Иногда в жестянке на Центральной появлялся телок. Выглядел как сто злотых. Причем в юбилейном варианте, в золоте! Тут же за ним входила одна из сосалок, а он расстегивал ширинку, после чего доставал удостоверение и говорил: «Милиция. Ваши документы».
Коммунистические тетки, «тетки системы», вертевшиеся около партии и при должностях, легко выходили сухими из воды, а всем прочим доставалось по полной программе. Зато не знаю ни одной тетки, которая взбунтовалась бы. Против системы. Ни одной тетки, которая вступила бы в борьбу. А впрочем, интересно, в какой роли в этой мужской игре они смогли бы выступить, если даже на судоверфи во время забастовок женщины только резали хлеб и были «на подхвате». В гендерном театре для них не оказалось места. Женская покорность, столь типичная для теток и неэмансипированных женщин, не позволяла им бунтовать. Они готовы были лежать под системой, хотели быть пассивными, послушными… Или просто, как всегда, жили в своем собственном, в придуманном мире, а потому реальность нисколько их не трогала. Я их за это не осуждаю.
* * *
Вряд ли можно сказать, что хоть в ком-то они вызвали сочувствие. Для того чтобы вызывать сочувствие, они сами должны были ощущать себя несчастными! Джесика работала санитаркой в больнице, была злобной и глупой. Самое сильное влияние на ее жизнь оказывали сериалы. Сначала «Даллас», потом «Возвращение в эдем», «Север-Юг», а в конце, перед смертью – «Династия», которую она смотрела в дежурке «скорой помощи». Джесика мыла грязные стекла в больничном коридоре и видела в них свое отражение в образе Алексис.[13]13
Одна из героинь сериала «Династия».
[Закрыть] Возможно, из-за расстояния, сумрака или чего другого грязный халат Джесики, весь в инвентарных номерах и фиолетовых печатях, выглядел в стекле как то белое платье, которое в последней серии было на Алексис. Слипшиеся от пота лохмы казались свеженьким перманентом. Джесика просто немела от изумления и восторга. Медленно, не отрывая взгляда от стекла, она слезала с лестницы и отставляла ведро. За окном, на дворе, жутко мяуча, дрались кошки. Все черные и злые. Джеси прекрасно понимала, за что они дерутся! Только персоналу было известно то место, где во дворе стоял огороженный сеткой мусорный контейнер для «биологических отходов». Как-то раз Джеси пришлось выносить ампутированную ногу. Нога оказалась на удивление тяжелой. Она отнесла ее как раз туда, во двор, откуда на следующий день ее должна была забрать специальная бригада. В голове Джеси очень долго не могли уложиться рядом отдельные факты: как это она, Алексис, может нести ногу? Какое отношение имеет одно к другому? Но она сумела примирить их и с тех пор говорила, что у нее трудная и почетная профессия – «спасать человеческие жизни» – и что она каждый день сталкивается со смертью. Между тем спецбригада ждала, пока соберется побольше биологических отходов, только что для котов сетка, а тем более запрещающие красные таблички?
Впрочем, до поры до времени Джесика отдавала себе отчет, что она окружает себя иллюзией, что купленные ею когда-то на базаре грязные перчатки не тянут на шедевр из лайки, а водка, выпитая ночью на трамвайной остановке, мало походит на шампанское. Что все это как бы игра, чтобы легче было опорожнить чарку жизни, содержимое которой не шло ни в какое сравнение с шампанским. Конечно, если присмотреться, – думала она, вынося полные утки и горшки, – на правду это не слишком похоже, мне еще далеко до Алексис, но ведь мы можем договориться, ну, как маленькие детишки, – и она смотрела в зеркало, щурила глаза, будто собиралась отпустить крепкую шуточку в адрес Блэйка Каррингтона или еще лучше – его жены, Кристель.[14]14
Персонажи сериала «Династия».
[Закрыть] Так договоримся же сразу, что с этого момента она – это я. И Джесика теряла голову от счастья и чувствовала себя гранд-дамой! Важничала и позволяла пациентам услужить огоньком, причем никогда за него не благодарила. Голову она держала высоко, волосы завивала на бигуди, губы красила хоть и гигиенической помадой, но в глубине души считала ее помадой с цветом. Часто подсаживалась к другим санитаркам и уборщицам, сидела в их кладовке и чувствовала себя первой среди них!
– Пан Здислав (что поделаешь, Джесику звали Здислав) точно королева усаживается, ногу на ногу закидывает, оставшимся от обеда хлебом с маслом брезгует! Сигарету через стеклянный мундштук курит! А уж как курит-то, как курит!
И не могли понять санитарки, почему пан Здисек, эта наша королева, никогда не закрутит роман ни с кем из них. Одна санитарка, простецкая баба, завитая мелким бесом и целый день распевавшая песни из Сан-Ремо, накрыла как-то Джесику в котельной, с истопником, в недвусмысленной позе. Со страху даже выронила канюлю, которую потом можно было только выбросить, потому что игла коснулась грязного от угольной крошки пола. «Мария, Мария, Мария», – злорадно замурлыкала любимый хит санитарка и решила следить за Джесикой. С тех пор в комнате для санитарок, слыша похвалы в адрес Джесики, она ворчала:
– Принцесса, принцесса Диана… А как утки вынести, так некому…
Джесика любила ночью приходить в эту старую больницу, а санитарка не ленилась ходить за ней по пятам по всему гигантскому зданию, которому каждая из эпох оставила свои переделки и пристройки. Столь же странным в смысле архитектуры смотрится только варшавский «Младенец Иисус».[15]15
Одна из варшавских больниц.
[Закрыть] Джесика то и дело обнаруживала забытые склады, заваленные стульями, негодными лампами и операционными столами. Вымиравшие в ночи коридоры, низкие и длинные, как в бомбоубежище, освещались мертвенным неоновым светом. В этом лабиринте трудно было не заблудиться. Конечно, можно пойти по белым эвакуационным стрелкам на зеленых табличках, но тогда заблудиться еще легче, потому что стрелки сбивали с пути и давали противоречивые указания. Раньше или позже Джесика обязательно натыкалась на стрелку, указывающую прямо противоположное направление. Множество стеклянных дверей, ведущих из отделений на лестницу, было закрыто на угрожающе скрежетавшие цепи. На первом этаже в витрине киоска для больных лежал самый ходовой товар, вроде телефонных карт, соков или номеров журнала «Детектив», чтобы пациенты не скучали и время ожидания собственной смерти убивали чтением о смерти чужой. Ниже – подвалы, в которых, как знать, может, и держали трупы, ведь здесь (и мало кто лучше Джеси знал об этом) каждый день умирало человек по пять. В гуле электричества, в сумрачном и холодном свете она тем не менее не встретила ни одного призрака. Смерть, царившая в больнице, была современной, пустой, как выеденное яйцо, научной, пронизанной электротоками и пахнущей лизолом.
Во время ночных вылазок Джеси запиралась в просторных, пустых и холодных уборных. Вдыхала запах дезинфекции. Как-то раз она открыла окно и бросила взгляд в колодец двора. Мороз ударил ей в лицо, внизу вроде что-то двигалось. В другой раз, тоже во время ночного обхода, она обнаружила совершенно неизвестную уборную над кафедрой кардиологии. Громко скрипнула тяжелая дверь, а эхо спящего отделения реанимации многократно повторило этот скрип. В туалете было безумно холодно, никто, видать, не отапливал его с тех пор, как урезали бюджет. Сейчас в нем был склад: штативы для капельниц, каталки для пациентов, слишком слабых, чтобы передвигаться самостоятельно, старые огнетушители, разбитые стеклянные шкафчики – все это валялось в пыли и смерзалось в камень. Обнаружила она и зеркало, заляпанное недвусмысленными белыми отметинами, грязное, тусклое, но именно поэтому красиво обманывающее. В такие минуты Джеси любила достать из кармана помаду и пошлые белые пластмассовые клипсы (украденные из тумбочки у одной пациентки из женского отделения), ну… вот теперь она настоящая Алексис!
Открыв окно, она увидела, что по противоположной стороне кто-то (какой-то, видать, не слишком сильно больной пациент, наверняка положили на обследование) смотрит на нее, а сам курит (что строго запрещено). Джесика оказалась на высоте, то есть на уровне окна. Распахнула халатик и, не обращая внимания на сумрак и мороз, начала тискать свои соски. Она не знала, могли пациент с этого расстояния разглядеть, что имеет дело с мужиком, или же купился на пластмассу клипсов, пурпур уст и фиолет век, но он вперил в нее взгляд и начал размеренные движения рукой. Или это Джесике только казалось, потому что в сумраке фантазия творит чудеса. На следующий день она увидела, как его на каталке везут на операцию, и подумала, что произвела на него воистину «убийственное» впечатление.
Ключи к туалетам, словно ключи к старинным чертогам, висели на большом кольце. Все двери красились уже раз пятнадцать, и, соскабливая отшелушивающиеся слои масляной краски, можно было перенестись в совсем иные времена. Джесика садилась на толчок и представляла, что у нее месячные. Это ее сразу возбуждало, тем более что дверь она не закрывала и в любую минуту мог кто-нибудь войти. Ей даже в голову не приходило, что этим человеком, скорее всего, может оказаться дед-туберкулезник, волокущий за собой трубку катетера. Она была счастлива, что живет во дворце, большом старом дворце, ведь больница размещалась в средневековой постройке. Пила водку, курила сигареты и снова и снова брала в рот. Никогда ни с кем не поменялась бы… Ну разве этой Алексис лучше, чем ей?
Другие тетки Джесику, эту кисло-сладкую Джеси, недолюбливали. Она долго и небезуспешно училась у Алексис трудному искусству интриги. Она мерзла у телефонных автоматов, тратила мелочь, названивая подругам, бросала свои лепты в общую копилку сплетен, молчала в трубку, изменяла голос через платочек, словом, была сука неприятная. И хотела быть такой! В конце концов тетки стали бояться с ней связываться, потому что все всегда кончалось какой-нибудь изощренной интригой, не говоря уже о сплетнях. Джеси была худая, с продолговатым прыщавым лицом. Впалую грудную клетку обтягивал розовый свитерок, на шею она повязывала платочек с серебряной ниткой. Белые сапожки с надписью «Relax». Меня зовут Джесика Масони и – выше голову, малыш, когда говоришь со мною! Поди сюда, котик, что тебе скажу. Склони свое гетерическое ушко. Скажи тете: отсоси у меня, и тетя у тебя отсосет, посмотри, какие у меня набрякшие соски, когда-нибудь девочки покажут тебе, для чего нужны сосочки. А пока что ты, зайка, слишком маленький!
Однажды Джеси ехала на трамвае, как всегда, без билета. К ней подошел кондуктор:
– Ваш билет, молодой человек.
Джеси ни на секунду не потеряла присутствия духа.
– Вы, видимо, не знаете, с кем разговариваете? С самой Джесикой Масони! Не верите? Можете позвонить на Си-би-радио и спросить! Обо мне писали даже в русской газете…
По-настоящему Джеси водилась только с Анджеликой из социального обеспечения, и они вместе появлялись в парке и в сауне, называвшейся в те приснопамятные времена «Государственным банным комбинатом». В пикет они выходили на обе стороны дороги под Рацлавицкой панорамой и охотились за автомобилистами, чтобы потом рассказывать о них умопомрачительные истории. Был у меня немец, пообещал забрать в Германию. А у меня был миллионер. Но самое большое впечатление всегда производило одно простое признание: у меня был телок. Ни один миллионер не вызывал такого интереса. Ни один пиджак, ни один кейс с цифровым замком не вызывали такой зависти, как испорченные зубы, красная рожа, мощные ляжки, пивная отрыжка.
* * *
На столе появляется настойка собственного изготовления. Отдает травами, мутная, крепкая, с легкой передозировкой мяты. Пьем, курим. Они постепенно заводятся. Сетуют, что теперь все не то. Нет солдат, нет парка, а голубые развлекаются в современном изысканном баре, где престижно бывать всякому, полно там и журналистов и элиты. Но это уже не педы, это геи. Солярий, техно, все тип-топ. И ни у кого там нет ощущения грязи или порока. Просто обычное развлечение. А когда-то… Когда-то стояли на улице у сортира, и всем сразу было понятно, что это имеет нечто общее с грязью. Напротив Оперы в коммунистические времена была такая маленькая забегаловка, принадлежавшая «Орбису», которая в народе называлась «Малой Теткой», «Орбисовкой», «Тетколендем» или – среди приезжих – «Теткобаром». Помещеньице-то с гулькин нос, но, но!.. Эвридики, танцуйте в полутьме ресторана. За стойкой работали две толстухи, подавали в основном кофе и коньяк. Запах кофе и какого-то такого сладкого порока, пирожных типа тортик с желе за стеклом холодильника, дешевого парфюма можно было уловить на улице, когда проходишь мимо. Откуда брался этот запах? Почему любой с завязанными глазами, только по запаху без труда из двадцати кафе-баров угадал бы именно этот, в воздухе которого разлит порок? Патриция, Лукреция, фон Шретке, Графиня, Кора, Яська Ксендзова, Жизель, Джесика, Томатная Леди, Голда, она же Прекрасная Елена, проводили там каждый свободный день. Иногда туда заходил какой-нибудь одинокий приезжий, садился на высокий табурет, погружался в этот смрад и через стекло наблюдал за проходящими мимо мужчинами. Со скучающим видом читал все еще украшающее витрину слово ОРБИС, которое изнутри выглядело наоборот: СИБРО. Сибро, тебе не хочется покоя! Сибро, ты в мире лучшее из слов! Чаще всего в это время шел дождь, чаще всего он курил «Кармен» и чаще всего покидал заведение не в одиночку. Потому что, пока он там сидел, все разом – Патриция, Лукреция, Графиня, Кора, Жизель и Джесика, первой подцепившая СПИД, – начинали подмигивать ему, угощать коньяком, бросать нетерпеливые взгляды в сторону туалета. Все надеялись на исключительное везенье, на то, что в году случается только раз, а может, и реже, а именно: на то, что дверь откроется и из-за тяжелой красной плюшевой портьеры сюда войдет солдатик, пожарный или какой-нибудь молоденький паренек, впервые решившийся попробовать. Люди случайные сюда почти не заглядывали, хотя внешне бар ничем таким не отличался: ни неона, ни претенциозного названия. Новичка было видно сразу: он нервничал, руки у него тряслись, когда размешивал кофе с осадком в самом обычном стакане, постоянно сползал с высокого и неудобного барного табурета. Ох уж эти пресловутые барные табуреты, всегда или слишком высокие или слишком низкие… Для новичков, случайно узнавших о месте встреч педерастов с теми, кто решился впервые попробовать, барный табурет всегда был главным врагом. Сядет такой паренек, заерзает, только начнет подкладывать под себя куртку, как тут же вспомнит, что в куртке у него спрятанные от зоркого маминого глаза сигареты! А ведь их еще надо как-то достать, дрожащей рукой сунуть в рот и закурить, показав всем, что ему уже есть эти шестнадцать или восемнадцать лет! Но самое главное – не свалиться, не шарахнуться от внезапного шипения кофейного экспресса за спиной, не испугаться собственного отражения в стекле с надписью «СИБРО» (и дальше, если после всего этого сумеешь прочесть задом наперед: «Фирменные напитки, торты на заказ, кофе, коньяк»), не упасть от возбуждения и смущения, когда кто-то подмигнет, поводит пальцами по ширинке и посмотрит в сторону туалета. А подмигивали все, подмигивали друг другу и показывали на паренька.
Этим пареньком был я.
Я, путавший тогда артистичность натуры с курением, путавший жизнь богемы с пьянкой, путавший писательство с распутством, с осенью, со всем на свете. Шел восемьдесят восьмой год. Кофейный экспресс несся на всех парах, в ушах у меня звучали какие-то меланхолические мелодии, на дворе стояла осень, пахло горелой листвой, первые морозы – неблагоприятное время для мальчиков, в которых только проклевывается вкус к жизни. После нескольких рюмок коньяка мне сделалось нехорошо, меня вытошнило в писсуар коричневым: слишком сладким кофе и коньяком. Кто-то вошел за мной, сказал манерным голосом, имитируя испуг: «О, Боже, эта молодая ща все заблюет»… Мне было пятнадцать. А усатому мужику с сумкой – около тридцати. О чем думал я, заслушавшийся ворчаньем экспресса в тот промозглый от сырости серый день, когда прогуливал школу и на полученные от мамы деньги покупал кофе и коньяк? Он мне сказал, что, если я еще в силах, мы можем пойти в туалет на вокзале. А там, если дать смотрительнице сто тысяч, можно сидеть вдвоем в кабинке сколько захочешь. Что у этой смотрительницы есть специальная кабинка с табличкой «засор» и что он ее арендует. На улице было страшно холодно. Меня трясло, ноги сделались как ватные. От моих пальцев пахло сигаретами, засохшей блевотиной, нервным потом и духами. В кабинке уже было не так холодно, как на улице, но ноги продолжали подгибаться. Потом к этому прибавился вкус гениталий, что-то соленое и липкое. Плюс гадкое для не успевшего привыкнуть к курению послевкусие сигарет. В тот день меня рвало еще три раза. Свитер вонял тем же. На шее предательски краснели засосы, как первые симптомы СПИДа. Их пришлось прятать под водолазкой, под кашне. Губы покусаны, спекшиеся и грязные. Когда тот мужик спросил меня, не дам ли я ему свои часы – уж очень они ему понравились, – я так разволновался и так напрягся, что, не сказав ни слова, отдал часы, хотя потом сообразил, что я пока еще не взрослый и родители все еще интересуются судьбой моих вещей.
Вот так я с ними и познакомился. Годы спустя, возвращаясь с какого-то литературного вечера, я встретил Патрицию на вокзале. Мы договорились об интервью.
Верховодила в «Малой Тетке» Мать Иоанна от Пидоров, то есть пани Йоля – единственная женщина в этой компании. Ей было лет шестьдесят. Толстая, бесцеремонная, с острым взглядом постоянно моргающих глазок, в которых отражались лица очередных собеседников, с усами и без, очередные поднятые в тосте рюмки с коньяком. Она стояла за барной стойкой, но не обслуживала, а только пила с гостями, обзывала их пидовками и блядями, а они ее за это любили. В ее глазах, всегда чуть налитых кровью и маслянистых, отражались не только клиенты, но и целые истории. Глаза были такими блестящими и остекленевшими, что в них отражалась открывающаяся и закрывающаяся дверь, удерживающая тепло тяжелая красная портьера, висящая сразу за дверью на карнизе, а еще было видно кто с кем, когда и почем. Мать Иоанна от Пидоров могла бы написать книгу вроцлавской улицы, более того – была обязана это делать. Она была обязана писать каждый день фирменной ручкой на фирменных бланках – история А: два коньяка, один кофе, один клубничный тортик с желе, история Б: один кофе и пачка «Кармен», история В: четыре по пятьдесят чистой, потом еще раз то же самое в кредит. Где теперь счета восемьдесят восьмого года? Где эти липкие от приторных тортиков и грязные от сигаретного пепла истории? Где необъятное тело Матери, эта сверхтелесная субстанция, где ее громадные груди, это архитектурное излишество, не производящее ни на кого никакого впечатления, совершенно ненужное в данной компании? Груди, между которыми болталось какое-то янтарное сердечко, такое доброе, пьяное, полное сочувствия ко всему вокруг. Мать Иоанна от Пидоров с упорством закоренелого маньяка считала, что «всё это – дела сердечные». Все без исключения. Так она и говорила:
– Нет Джесики, она в уборной, ее туда позвали дела сердечные.
Но Мать имела право так говорить, потому что она была обладательницей целых двух громадных сердец, не считая янтарной висюльки, колышущейся посредине. Ее одутловатое лицо, ее одалживание клиентам денег, отпуск спиртного в кредит, скупка украденных где-то финских ножей и кучи всякой всячины, ее латентный антисемитизм, вдруг вылезавший наружу, когда она обнимала какую-нибудь из теток:
– Знаешь, дорогой, я ничего не имею против евреев, но, ради бога, бре-е-е-ейся, – верещала она и втыкала небритое лицо меж своих грудей. Впрочем, она во всех видела евреев. Как только я уходил в туалет, Мать Иоанна от Пидоров говорила:
– Приглядитесь к Белоснежке… Вам не кажется, что в профиль она просто «абраш»?
А поскольку у нее было целых три сердца, то ее материнского тепла хватало и на фарцовщиков, обретавшихся на противоположной стороне улицы в кафе гостиницы «Монополь». Из всех на свете теток фарцовщики признавали только Голду, сиречь Прекрасную Елену. Мне о ней мало известно. Всегда безупречно одета, практически всю жизнь без паспорта – его она получила только в доме престарелых. А до этого уже на склоне карьеры жила на кухне у бывшей своей прислуги. Когда ей исполнилось пятьдесят, фарцовщики отметили ее юбилей: Голда сидела в золотом пиджаке на золотом троне в этом несчастном «Монополе», других теток не было, не пустили.
Фарцовщики с нескрываемым отвращением ныряли в испарения «Малой Тетки» – их туда вели деловые интересы. Мать Иоанна скупала у них золото, являясь чем-то вроде персонифицированного гибрида ломбарда с меняльной конторой. Стоящие у высокой барной стойки фарцовщики стыдились своих сумочек, называемых в народе пидорасками, переминались с ноги на ногу, а ноги эти облегали непременные треники из цветной болоньи, на которые с пояса свисали многочисленные сумочки-сашетки. Русские перстни, часы, какие-то талоны – и все это Мать пробовала на зуб, грела за лифчиком и в прочих закутках своего обширного тела. Боже, как ревновали ее завсегдатаи «Малой Тетки», как они ненавидели фарцовщиков! Может, потому, что и их грязные делишки, от которых просто несло валютой, она называла «делами сердечными», а может, из-за ее щедрости, или все же потому, что она удовлетворяла не только их потребность в материнском тепле? Нет, нет, причина этой ненависти была в другом – фарцовщики смотрели на нее совершенно иначе, и она вступала с ними в эротическую игру.
– Пани Йоля сегодня неласковая, пани Йоля сегодня не выспалась…
Без фарцовщиков пани Йоля была Матерью, в их присутствии – превращалась в Женщину. Когда она разговаривала с тетками, на ее лице появлялась снисходительная улыбка и любопытство. Она смотрела на нас, как на двуглавых телят. Ей никогда не надоедали самые примитивные шутки, типа «ща как дам те сумкой по башке» или «юбку к плечу и лечу». Если подобное изрекал кто-нибудь из нас, на Мать Иоанну от Пидоров нападал приступ смеха, и она долго утирала пухлой ручкой слезы, размазывая макияж. Она любила обращаться к нам в женском роде, но на самом деле ее репертуар был еще скромнее, чем то, что ее смешило. Пани Йоля принадлежала к тому разряду людей, которые совершенно исчезли после падения коммунистического режима. Просто провалились под землю, где-то в середине девяностых. Помнится, еще в девяносто первом она пробовала завести кондитерский ларек, но из этого ничего не вышло. И если бы мне сегодня случилось встретить пани Йолю, я нашел бы ее либо на самом дне, либо постройневшей, по-европейски элегантной, испорченной.
Проявляющей интерес не к книге улиц, а к чековой книжке.
* * *
О чем их спросить, я знаю. Вот только захотят ли они говорить?
– Когда вы впервые пошли к казармам?
Оба, как по команде какого-то там их невидимого капрала, тупят взор и начинают рассматривать облезающий с ногтей лак. Лукреция встает и привычным движением ставит пластинку. Вопрос слишком серьезный.
– Когда я приехала из Быдгощи, то захотела поехать сначала в Легницу, потому что знала от других теток со станции Быдгощ-Центральная, что туда слетаются пиды, приезжают специально со всей Польши. Но там их уже столько собралось, что было не протолкнуться. Я и подумала, у нас ведь, во Вроцлаве, тоже стоят войска. И у русских нет денег на проституток, потому что их там в казармах без денег держат и никуда не выпускают. Да и петухом им становиться западло. Тогда меня осенило, и я говорю: «Патриция, это ведь наш шанс».
Всю ночь мы проговорили, поехали на Кшыки, трамваем, семнадцатым номером, и еще на Казарменную. Сначала днем, посмотреть, какие там решетки, ну и все прочее. Решеток не оказалось, но стена была, высокая, вся в устрашающих надписях на четырех языках, что, дескать, не приближаться, стреляют. Наверху ржавая колючка. И каждые несколько метров дежурка с караульными. Я и думаю: Патриция, что мы делаем. Однако все получилось и через год стало делом привычным. Человек не ценит того, что имеет. Потом другие скажут, что, мол, первые туда путь проторили, да кто им поверит, всем этим Кенгурихам? Ты сейчас у первоисточника информации.
– Ну и как это выглядело?
– Как выглядело… а как должно было выглядеть? Обыкновенно выглядело. Мы влезали на стену где-то около часу ночи, одна другую подсаживала, и вскоре появлялась голова в фуражке, из такой сторожевой вышки на стене, ну и спрашивал этот военный шепотом: «Czto?» А мы ему всегда на это: «Eta my, diewoćki!»
– Снег шел, луна светила над стеной, вот какую картину ты должна нарисовать нашему гостю, он ведь литератор!
– А нам хоть снег, хоть дождь, мы всегда туда приходили. Ну и конечно: «diewoćki priszli, wpustitie nas». А он шепотом: «tiepier nie nada», но чтобы мы «czerez piatʼ minut» пришли… и вот еще какая штука: за стеной было полно угля для обогрева их казарм, целая куча. Так что можно было на нее спрыгнуть. Мы с Патрицией подсаживали друг дружку и бух, прыгали на эту кучу кокса, угля, а они там, человек пять, уже ждали. Аж пар из порток валил! Мало того что все перемажемся, так там, на этой стене, еще была колючка, и прыгать приходилось на уголь с нескольких метров.