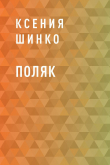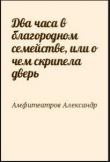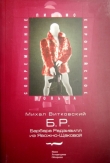Текст книги "Любиево"
Автор книги: Михаил Витковский
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 16 страниц)
Михал Витковский
Любиево
Збигнев Яжембовский
Теткин Декамерон
В своей «книге улицы», улицы темной, сточно-сортирно-пикетной, исполненной какой-то хтоническо-теллурической силы, лишенного культурных масок вожделения, которое может привести только к постоянному пребыванию в высших сферах дна, Михал Витковский представляет альтернативный социально приемлемому образу мир педерастов, «теток», мир перманентного самоуничижения, в лексиконе которого лишь несколько слов: «голод», «неудовлетворенность», «холодный вечер», «ветер» и «пошли», а грязный, обшарпанный парковый сортир образует какой-то особо загаженный пуп земли – axis mundi à rebours.
Герои «Любиева» – гомосексуалисты улицы со своим колоратурным гомоэротизмом – открещиваются от технолатексного мира геев, в котором больше нет ощущения грязи или проступка, они ценят высшие сферы дна, где жизнь как в раю. Они гордятся собой и не желают изменений в своей жизни. И при всей убогости их быта они достоверны в этом своем упорном существовании вопреки быстротекущему времени, вопреки социально-цивилизационным переменам. Они не хотят поддаваться новым модам, вникать в новые темы. Они хотят остаться «тетками», «пидорами», хотят ласково называть друг друга «прошмандовка», «сука неприятная» и радоваться. Ни литературный, ни навязанный средствами массовой информации поп-культурный, ни тем более эмансипированный, социально (и лингвистически!) локализованный, окультуренный образ гея для них неприемлем. Ибо как можно доверять их [геев] языку, их заученному поведению, самому их виду, взятому прямо с обложки иллюстрированного журнала? Гей – продукт культуры, он ненастоящий, обманчиво-«мужской», а «пидор» в своей телесно-языковой грязи, в своей приниженности остается благородно-чистым, идеальным; даже его раздражающая манерность – эти деминутивы, гипокористика, соединенные с кабацким языком, вульгаризмы, брутализмы, какофемизмы, наконец претенциозная трансгрессивность трансвестита – все это составляет сущность его естества; он не может оскорбить, потому что не обманывает, не прикидывается тем, кем не является, потому что он – настоящий…
«Любиево» – также роман о нашем отношении к непохожести на нас, о нашей способности передвигать границы (в том числе, а может, прежде всего границы ментальные, границы сознания, определяющие изменения в нравах, в аксиологии), о расширении территории нашего общего опыта не только в рамках затруднительных ситуаций, но и как бы вопреки им, о преодолении стереотипов повседневного опыта, санкционированного стандартами языка (в том числе языка протокольного, языка политкорректности, который вторгается в действительность, искажает ее). Витковский отошел от такого языка, ввел язык частный, внутреннюю речь описываемой субкультуры. Это яркий, «грязный» язык, «погруженный» в теткинскую долю, будоражащий и отталкивающий, но благодаря этому освобождающий от лжи те области действительности, о которых в течение десятилетий приличествовало если уж не тактично молчать, то по крайней мере их сублимировать, эстетизировать, метонимизировать, идейно возвышать, адаптировать к допустимому уровню – тщательно прикрывать все новыми и новыми завесами «безопасных» условностей. «Любиево», похоже… эти завесы раздвигает.
Збигнев Яжембовский
КНИГА УЛИЦЫ
Пятый этаж, звоню по домофону, слышу какие-то писки, охи и ахи.
Знаю, что попал куда надо, и смело вхожу в грязный подъезд.
Патриция и Лукреция – пожилые мужчины, и в их жизни все уже давно кончилось. Если быть точным, в девяносто втором году. Патриция: склонный к полноте, потасканный, с большой лысиной и очень подвижными кустистыми бровями. Лукреция: пятьдесят лет, гладко выбритое лицо, циничный, тоже толстый. Черные, изъеденные грибком ногти. Их шутки, их комическая заносчивость, их жизненные девизы типа «С аттестатом это уже не мужик!» Их профессии, по жизни и для жизни: социальная работница, санитарка, гардеробщица. Лишь бы хоть как-то жить и иметь возможность заниматься тем, что считаешь самым важным.
Поднимаюсь в грохочущем лифте на пятый этаж мрачного дома гомулковской эпохи. Несет мочой. Во дворе громко кричат дети. Смотрю на прижженные сигаретой расплавившиеся кнопки, читаю надписи, оставленные во славу любимых команд, а всех прочих посылающие на мыло или куда подальше. Отрывисто звоню, мне сразу открывает Лукреция, Патриция на кухне заваривает чай, обе заметно возбуждены (пришел «пан журналист»), держатся точно кинозвезды. Между тем живут они на пенсию и едва сводят концы с концами. У них нет даже участка, на котором можно было бы хоть чем-то заняться, что-нибудь выращивать, да хотя бы чеснок, или через забор обмениваться с соседкой воспоминаниями. Нет, их воспоминания нельзя поверить чужим. Именно поэтому они поверяют их мне.
Лукреция когда-то преподавал немецкий, но нигде не мог удержаться, за ним всегда тянулся шлейф проблем: клеился к ученикам, и в итоге осталось зарабатывать только частными уроками. В семидесятых он приехал из Быдгощи во Вроцлав. Здесь и познакомился с Патрицией, в парке, где собирались голубые, в грязном туалете. Патриция лежал пьяный, головой в луже мочи, и думал, что уже все, кранты. Но Лукреция помог этой шлюхе Патриции, нашел для него работу гардеробщиком в одном из рабочих Домов культуры. В обязанности Патриции входило выдавать пинг-понговые шарики молодежи, приходившей играть в клубный зал. Работа легкая, платили сносно, весь день Патриция пила кофе из граненого стакана, сплетничала с дворничихой и жила ожиданием грядущей ночи. Иногда она заменяла ночного сторожа и оставалась на дежурство до утра. Тогда она воображала себя дамой эпохи барокко с большим кринолином, в высоком парике, едущей в карете к любовнику. И что зовут ее как-то так, что и не выговоришь, и что прикрывается она большим веером. С крыши капало в ведро, за окном выл ветер, но она вставала, заваривала себе то чай, то кофе, добавляла водку и возвращалась в свою карету, в Версаль, в пышные платья, под кринолинами которых можно пристроить сразу нескольких любовников и еще пузырек с ядом. Она закуривала «Вяруса» и шла на обход, а когда возвращалась, в голове у нее уже было готово продолжение. Надо только заткнуть уши ватой, потому что ночи уж больно шумные, и сторожевые собаки гоняют кошек. Утро отрезвляло ее, как пригоршня холодной воды. Она делала запись в книге дежурств и возвращалась в эту жизнь: снова кто-то что-то хотел от нее, и снова она становилась ленивой и строптивой.
Правда, все это в прошлом, когда у рабочих из «Гидраля» и «Стольбуда» после работы еще оставались силы оттягиваться на полную катушку, когда еще не существовало таких выражений, как «сексуальные домогательства», а газеты занимались своим делом, когда у ночных дежурных еще не было телевизоров и фантазия неслась на всех парах – иначе только сдохнуть от скуки.
Теперь в Доме культуры Патриции в каждой комнате по фирме, а на фасаде полно вывесок, сообщающих, на каком этаже находится ломбард, обменный пункт, бильярдный клуб или оптовая продажа свечей и лампадок. Там, где когда-то танцевали неуклюжие работяги, – магазин с романтическим названием «всё по пять злотых». Никто не берет Патрицию на работу, теперь всяк сам себя сторожит, а охрану всего здания осуществляет специальная фирма. Мир недобр, ибо место, где проводились конкурсы чтецов-декламаторов, где занимались аэробикой, балетом и коррекционной гимнастикой, заняли грязные полумафиозные притоны, в которых торгуют бэушными мобильниками немодной формы, как будто этого добра не хватает, а вот бирушей в киосках днем с огнем не сыщешь – отметила Патриция и без сожаления ушла на пенсию.
Так никогда и не впустив в свой дом Третью Речь Посполитую.[1]1
Постсоциалистическая Польша. (Здесь и далее – примечания переводчика)
[Закрыть]
* * *
Они обращаются друг к другу в женском роде, изображают из себя женщин, еще совсем недавно они снимали мужиков в парке, около Оперы и на вокзале. Неизвестно, сколько в этом правды, сколько фольклора, а сколько просто прикола. Одно точно: они – часть отнюдь не маленькой группы людей, подсевших на секс, испытывающих от него зависимость. Они поднаторели в съеме. Даже теперь, на пенсии, при их животиках они сумели бы снять не одного. Никто из них понятия не имеет о существовании пластической хирургии и о возможностях смены пола. Им кажется, что достаточно просто помахивать обычными черными сумками, которые они называют «ридикюлями». Одеваются в то, что есть, – в лучшее из пэнээровской посредственности. Они считают, что достаточно иначе держать сигарету, брить усы и знать все эти словечки. В словах их сила. У них ничего нет, они все должны себе доврать, допридумать, допеть. Сегодня за деньги можно изменить все: пол, цвет глаз, волос… Не осталось места для полета фантазии. Вот почему они предпочитают быть бедными и «играть»:
– Ах, оставь, моя дорогая! – сейчас Патриция хабалит и подает чай в выщербленном стакане. Старом, замызганном, однако на подносике и с салфеткой. Форма, форма – ют что главное. И слова.
– Ах, оставь! Годы уж не те, попка увяла, и где они – снега былых времен?[2]2
См.: Франсуа Вийон. Баллада о дамах былых времен.
[Закрыть] Боже, психопатка, безумная женщина, отстань! Хорошо сказал старина Вийон: бери только мальчиков! Вот мы и брали.
«Хабалить» – значит прикидываться женщиной, какой они ее себе представляют: жестикулировать, пищать, говорить «ах, оставь» и «Боже, Боженька». Или подойти к пацану, взять его за подбородок и сказать: «Держи головку выше, малыш, когда со мной разговариваешь». Но женщинами они быть не хотят, они хотят быть хабальными мужиками. Им хорошо так, это их образ жизни, всей жизни. Игра в бабу. Быть настоящей женщиной – не для них, их возбуждает игра, а удовлетворение это всего лишь удовлетворение… В их языке нет понятий для удовлетворения. Они знают только такие слова, как «голод», «неудовлетворенность», «холодный вечер», «ветер» и «пошли». Они постоянно пребывают в высших слоях дна, между вокзалом, паскуднейшей из работ и парком, приютившим сортир. Об этом последнем можно даже сказать, что он представлял собою какой-то особо загаженный пуп земли.
Оказывается, кто-то специально для них выстлал дно опилками и тряпьем. Очень даже удобно.
Им всегда хватало на суп из пакета и картошку, социализм был к ним благосклонен, ни голодными, ни бездомными они не были, да и много ли женщине надо. Сейчас в их парке строят большой торговый центр, перекапывают все их прошлое, поэтому Патриция собирается подать жалобу. Шутка Вот только шутки становятся все более горькими и грустными:
– Ну что, что я, нищенка, смогу сделать? С палкой на Большой Капитал? Сумкой, что ли, по голове? И что я им скажу? Что это мемориальный объект? Сходи уж лучше, Лукреция, принеси пепельницу, потому что нашему гостю некуда свалить (хи-хи!) свалить… пеееепееел!
Патриция внезапно обнаружила, что назвала себя нищенкой, и очень обрадовалась этой новой шутке. На дне которой была та самая капля самоуничижения, которую она как раз собиралась выпить, вылизать, как остатки яичного ликера со дна рюмки. Сегодня же вечером.
– Иду прямехонько в парк, первым делом покупаю сигареты в киоске, и так не первый год, все путем, на здоровье не жалуюсь. Встречаю старого знакомого, который выбился в люди, деньгами ворочает. Я – ничего. А он смотрит на меня, как на последнюю блядь, будто я на Гварную, на вокзал ходила. А даже если ходила – ну и что? Я ведь не какая-нибудь там вульгарная прошмандовка. Слушаю, что он мне говорит, только мне все это по барабану, потому что речь о каких-то взносах, кредитах. Кредитов, понимаешь, набрал, а работу потерял. Мне, можно подумать, только кредитов для полного счастья не хватает! Вот какая философская рефлексия охватила меня, да и Луция Банная, которой я душу излила, со мною согласна. Что живем мы поживаем на этих верхних этажах дна, точно в раю. Нам ничего уже не страшно, – Лукреция лениво потягивается, – и есть смысл в жизни! – и сладострастно облизывает губы.
Сижу я за шатким столиком на кухне в их старой квартире. Ничего здесь не изменилось с коммунистических времен, везде золотые тайваньские часы с рынка, барометры с рынка, блестящие статуэтки с рынка, все от русских. Даже в речь свою нахватали русицизмов:
– U niego в штанах malcik-s-palcik…[3]3
Здесь и далее русицизмы в речи героев даны в польском написании.
[Закрыть]
Нищета страшная, на веревке над плитой сушится белье. Мужские трусы, черные, самые дешевые, штопаные носки, тоже черные. Черные – это, во-первых, клево, во-вторых, в этом доме траур. Вот уже десять с лишним лет.
Лукреция принимает позу старой графини, которую военное лихолетье лишило имущества, закидывает ногу на ногу (между носком и коричневой брючиной – бледная лодыжка, отмеченная татуировкой вен), затягивается сигаретой, секунду удерживает дым и наконец выпускает его, как дама: в сентиментальной задумчивости и подальше от себя. Ставит на проигрыватель любимую Анну Герман:
Подают приторно-сладкий тепленький чай. Квартира обставлена, как приемный покой в поликлинике; видно, как мало нужно людям для жизни, если они «живут» другими интересами, если их квартира – всего лишь зал ожидания, где они коротают время между ночными вылазками. И запущенная, как это бывает у наркоманов (сексуальных). Стены с пола до середины покрашены желтой масляной краской, с середины до потолка – грязные, на подоконнике – белые пластиковые горшочки с банальной зеленью и деревцами счастья, слегка подвявшими за последнее время. Жду, пока обе (оба?) наконец вернутся к столу, к сигаретам, к чаю. Перестанут мельтешить. Но когда один уже сидит, другой находит нужным освежить подмышки дезодорантом и поправить прическу перед треснувшим зеркалом. Кроме того, на плите что-то варится, а Лукреция начинает поливать цветы из молочной бутылки. Из каких закромов ее достали? Ну и беспрестанно что-то поправляют на себе, в прическе. В конце концов, не так часто приходят гости в сей дом скорби.
– Не могли бы вы мне сначала немного рассказать о жизни гомосексуалистов современного Вроцлава? – ставлю я диктофон на стол, но сразу же раздается громкий пискливый смех.
– И это кто же спрашивает, Патриция, ой, не могу, спаси меня! Убери от меня этого сучонка! А то Святая Невинность не знает? А как господина журналиста называли в Орбисовке[5]5
Орбисовка – место перед бюро путешествий «Орбис», а также маленькое кафе, место встреч вроцлавских теток.
[Закрыть] и под Оперой? Не Белоснежка, а? Белоснежка, потому что вся белая от… снега, хи-хи! Ладно, потом вырежешь, небось не обязан все давать… Так вот, господин журналист, парк называется «пикет», «застава» или «точка». Ходить туда – «пикетировать». Пикет нужен, чтобы снять клиента и «взять в рот», как мы говорим, то есть отсосать. Парки были всегда, сколько себя помню и сколько сосу, то есть с незапамятных времен. Когда-то пикет тянулся через весь город, и именно так должен начинаться этот твой роман про нас. «Графиня вышла из дому в полдесятого» и пошла в парк, потому что десять вечера – лучшее время для легкого отсоса. Помнишь, Патриция, Графиню? Ее, бедняжку, вроде в восемьдесят восьмом убили. Кем она, собственно, работала?
– Глупая ты, в восемьдесят восьмом убили Кору, потому что водила телков[6]6
«Телок», он же «кабан», он же «лось» в разных гей-тусовках.
[Закрыть] к себе домой, вот и доигралась. Телок ее убил ее же собственным кухонным ножом, кокнул ее, позарился на несчастный радиоприемник «Нарев», больше у нее взять было нечего. Половина вроцлавского пикета вышагивала на похоронах, даже кое-кто из, хм… ксендзов (мо… можно об этом говорить? Это ведь не для католической газеты?), ну да, ксендзов. А я кричала им: «А требник уже отшуршала?! А чего тогда на пикет приперлась?» – а они только шаг прибавляли.
– В Бога-то они верят?
– А как могут тетки не верить в Бога? Даже во многих богов. Постоянно на улице из-за каждого угла выходит молодой бог.
Что, бишь, я хотела сказать? А, вот: Графиню-то убили гораздо раньше, в семьдесят девятом, и работала она уборщицей в туалете. Вернее, уборщиком. А впрочем, нет, именно что уборщицей! Работала в подземном переходе, недалеко от дома. Жила хоть в подвале, зато у самого парка. Да, все тетки жили недалеко от парка. Специально снимали квартиры и годами ходили туда, а теперь переживают, что у них под окнами появились строительные краны.
– Кто такие «телки»? – мой вопрос перекрывают дикие визги.
– Кто такие телки, кто такие телки. Боже мой, Боженька, кто такие телки?! Ну ладно, допустим, ты не знаешь. Телок – это смысл нашей жизни, телок – это чмо, бухое чмо, мужское отребье, жучара, деревенщина, который иногда возвращается через парк или лежит пьяный в канаве, на скамейке на вокзале или в самом неожиданном месте. Наши пьяные Орфеи! Ведь не станет же тетка заниматься лесбийской любовью с другой теткой! Нам гетеро-мясцо подавай! Телок может быть и пидором, лишь бы был простой, как бревно, неученый, потому что с аттестатом это уже не мужик, а интеллигенток какой-то. Никаких выражений на лице у него не бывает, морда – что твоя ляжка, просто обтянутый кожей каркас, ничего на ней не может проступать, никаких чувств! Разве найдешь такого в барах для геев? Известны десятки примеров: сначала телки-натуралы ведут себя с тетками в постели по-хорошему, как пидоры, и только потом, вроде бы ни с того ни с сего, вдруг становятся агрессивными и грабят, убивают, сбывают награбленное… Не раз уже с лестницы возвращаются в дом. Заговоришь, спросишь о чем-нибудь – вернутся и съездят по морде. Как будто со злости на самих себя.
Но тетку этим не испугать. То есть настоящую, вроде нас. А не какую-нибудь дешевку из баров. Каждая только и мечтает снять такого пьяного Орфея, который нипочем не заметит, что имеет дело не с бабой. Чтобы в этом пьяном виде думал, что он с бабой. Только должен быть очень пьяный или… Потому что лучший телок это натурал, и чтоб такого урвать, надо его или вусмерть упоить, или…
– Или?
– Так вот, возвращаясь к Графине, – Патриция не хочет отвечать на мой вопрос, – оказалась я как-то, видите ли, в одиннадцать ночи, пока еще эти краны нам все не раскопали, и горка, и гротики-руинки, и наше дерево с надписями были целы, пошла туда ночью повспоминать, потому что как раз День Всех Святых и сразу Дзяды.[7]7
День Всех Святых – 31 октября, Дзяды – 1 ноября, День поминовения усопших предков, давший название знаменитой поэме А. Мицкевича.
[Закрыть] Иду, вижу… телок. Наверное, думаю, пьяный телок идет, никак не иначе, я, стало быть, за ним, а он шмыг и исчезает из виду. Я в настоящем времени говорю, чтобы ты так и записал, специально так говорю, чтобы перед читателем было как наяву. Ну, значит, фонари, через один горят, темно, но глаза за эти годы привыкли к темноте. А потому я сразу соображаю, что он к руинам направился, за горку. Я ведь все уголки и закоулки знаю. Иду туда, вижу: промелькнул передо мною этот телок и опять исчез, а я уже знаю, что идет он в ту самую воронку от бомбы, поросшую кустами, в которой мы тогда поимели этого, ну Членопотама…
– Ага, ага, – Лукреция точно помнит о ком речь.
– Значит, обошел телок ограждение с надписью, что ведутся земляные работы, я нижнюю юбку подобрала и шасть! – небось знаю, где доска отходит в заборе. Иду, соски тереблю под лифчиком, вся уж в губы превратилась, спускаюсь в эту воронку и вижу, что, как я и думала, остановился он в этой темной дыре от бомбы и оборачивается…
– Ну и? Ну и?
– Смотрю, а это Графиня!
– Привидение?
– Стращает, сука. Свет от нее струится, из глаз, от лица, из ушей, точно внутри свеча горит. Одета была в эту свою куртку с рынка, зеленоватую такую, но как будто в грязи, в засохшей земле, будто там, в могиле, у нее все с дождем, с грязью перемешалось. Я перекрестилась, а она и говорит мне: «За телком сюда пришла я, за святым дулом сюда пришла, через эти буераки, даже после смерти! Сегодня мы Дзяды отмечаем, дай немного спермы, дай, а я преподам тебе моральный урок, что если кто не был ни разу…»
– Насмехается! Над национальными святынями, потаскуха, даже после смерти издевается!
– Потаскухой она всегда была первостатейной. Насмехается, значит, и говорит: «Имя мое Мильон! Имя мое Мильон, – говорит, – ибо меня Мильон телков поимели!»
– Боже!
– Я тогда ей: «Кыш отсюда, кыш! Сгинь, исчезни, наваждение нечистое!» А она свое, что, мол, не хочет ни еды, ни питья, а хочет только каплю телковой спермы. Вот, а еще над Библией стала изгаляться и что-то там вещать, словно Пифия бесноватая, в смысле Кассандра, мол, «стоять вам, тетки, у врат ширинки телка и да не отверзится вам». И так ко мне свою кривую руку тянет и говорит: «идем». Ну. (Тут они переглядываются, вздыхают.) Страшно мне сделалось, потому что уж и череп у ней под волосами стал проглядывать, но я узнала ее, потому что в воздухе разнесся легкий такой запашок вроде как из того сортира, что в подземном переходе, где она работала, и всю жизнь этой отдушкой с хвойным запахом, которую она к унитазам пристраивала, так от нее несло, что я и в темноте могла определить, кто сидит в кустиках – Графиня или телок. Ну, и еще я ее узнала по говору: она и при жизни точно так же говорила, с деревенским акцентом. Стою я, как загипнотизированная. Понимаю, выпить надо, если я сейчас не выпью, мне кранты. В конце концов выковыряла из кармана какую-то помятую сигарету, а руки – ходуном.
У Патриции ногти длинные, руки худые, все в пигментных пятнах, на руке металлический браслет с надписью LOVE, такие в приморских сувенирных киосках продаются. Показывает, как дрожали руки. Браслет трясется и стучит о большие золотые русские часы.
– В конце концов как-то удалось закурить, tolka nа abarot, со стороны фильтра, а я стараюсь втолковать ей, внешне спокойно (хотя внутри всю меня трясет), и так говорю: «Очнись, девушка, ведь мы были с тобой в жизни лучшими подругами, тебе что, сперма в голову ударила, что ты после смерти подругу не признаешь, с которой столько телков вместе отымела, с которой к русским в казармы ходила, столько спермы пролила, что, если ее собрать в какой ванне, всю вместе, можно было бы искупаться, а если б такая толстуха, как ты, влезла, то и перелилось бы через край?! Кирие элейсон,[8]8
Господи помилуй (греч.).
[Закрыть] кыш отсюда! Неужто не видишь, что я никакой не телок, а Патриция, старушка Патриция из центра?» А глаза у нее какие-то мутные, видать, и после смерти поддавала на том свете, как на этом при жизни. Вроде бы стала меня узнавать и бормочет разочарованно: «Патиция?» (И говорит не «Патриция», а как-то странно, вроде как «Патиция», «тиция», будто у ней каша во рту; может, после смерти так оно и бывает.) А я: «Ага». А она там что-то пробормотала, прошамкала и пошла на горку дальше искать. Ни тебе здрасте, ни тебе до свиданья, отвалила, и все тут, хоть мы больше десяти лет не виделись и было о чем поговорить. А одна шлюха (Патриция взрывается смехом: знаешь о ком речь, – подмигивает Лукреции, – Сова), как увидела, что та выходит из развалин, так сразу за ней, за Графиней, и увязалась на горку. Вот, думаю, сюрприз будет. К тому же я еще раньше заметила, что на эту горку со стороны Одры идет какая-то кодла вроде как скинов, в любом случае враждебно настроенных. Я даже хотела ее предостеречь, но потом подумала, а что они могут ей сделать, если она дух? Сама-то со страху еле держусь, потому как, во-первых, дух, а во-вторых, с горки доносились крики, вроде как кого-то убивали там… Испугаться-то я испугалась, но не настолько, чтобы не… ну знаешь, этот Збышек-с-Усами как раз появился. Тот, что всегда на велосипеде.
Патриция знает. Лукреция встает и причесывает остатки седых волос. Переворачивает пластинку. Натягивает дешевый свитер с пошлым узором на свой выпирающий живот. Она безобразна, у нее перхоть при том, что почти нет волос. В этот момент на ее лицо выползает кривая ухмылка. Она высокомерно цедит:
– А ведь Графиня еще при жизни спятила, и кто знает, как могло повлиять на нее такое потрясение, как собственная смерть? Помните, как мы ходили с ней к русским под казармы?
Два старичка оживляются, Патриция подходит к полированной мебельной стенке и благоговейно что-то из нее достает. На столе появляются плотно закрытые полиэтиленовые пакеты, в которых что-то коричневое. Хочу открыть пакет, но обе набрасываются на меня:
– Запах, запах, улетучится запах! Боже упаси открывать! Мы открываем только в Годовщину.
В пакетах они хранят свои занюханные реликвии: солдатские ремни, ножи, портянки, какие-то коричневые или черно-белые снимки, выдранные из удостоверений, с фиолетовыми полумесяцами больших печатей более не существующих организаций. На них рожи двадцатилетних русских здоровяков, носы картошкой, морды просят кирпича, но добрые. Или злые кривые хари. Вкривь и вкось остриженные. Сзади посвящение кириллицей. Над кухонной дверью вместо святого образка висит на гвоздике кусок ржавой колючей проволоки – недавно оторвали, достался легко: покрутили вправо-влево и порядок. Напихали этой проволоки в карманы, чтобы и Матке и другим хватило, когда здесь уже ничего не будет.
А еще показывают снимки развалин, оставшихся от казарм, надписи вокруг окон, нацарапанные или намалеванные в недоступных местах, например: «Брянск 100».
В толк не возьму, о чем речь.
– Цифра «сто», – объясняют они со знанием дела, – означает сто дней до дембеля, а город Брянск – это место такое, куда они через сто дней вернутся. Почему именно сто? Потому что им как раз за сто дней перед дембелем последний раз волосы стригут под ноль. А под ноль, чтобы вшей не привезли. Вот тогда они оторвались! До сих пор на стенах эти надписи. Вот только стены-то, которые сегодня выходят наружу, на открытую для всех улицу, тогда были там, за забором, недоступны.
– Только не для нас! Тут, – Лукреция показывает снимок, – на этой внутренней дороге (ах, сегодня уже внешней…), вот тут росли кусты, а тут Патриция подмахивала. Эти казармы на Казарменной назывались комендатурой. Так и говорили: «Пойдем к комендатуре». Потому что были и другие казармы, в районе Кшыков…
Лукреция плачет. Голос Патриции срывается. Я еле сдерживаюсь, прошу прощения у дам, кладу сигарету на пепельницу (не хрусталь, выломанный, видать, из стены большой кусок стеклоблока) и иду в санузел (совмещенный).
Противно. Противно и в то же время интересно. Все равно ведь не опубликую. Да и как публиковать? Что из этого можно сделать? Репортаж для «Политики»? «Глазами очевидца»? Что? Можно тиснуть материал, например, про плечевых, про воров, про убийц, про мусорщиков, про предателей, а вот про это как-то не очень. Хотя никто тут никому препятствий не чинит. Вот только нет языка, на котором можно было бы рассказать про это, кроме языка, использующего слова «жопа», «хуй», «отсос», «телок». Разве что так долго повторять эти слова, пока они не отмоются от казарменного налета. Как и слово «влагалище» в «Монологах вагины».[9]9
Пьеса американской писательницы Ив Энслер, впервые поставлена в 1996 году.
[Закрыть] Ничего удивительного, что до сих пор никто не сделал на эту тему репортажа!
Такие вот мысли приходят ко мне, пока писаю и обвожу взглядом их санузел… Первым делом прямо со стены над унитазом в глаза бросается аккуратно вырезанный из какого-то журнала снимок телка. В наручниках, в сопровождении полицейских, тоже каких-то телковатых. Наверное, это кто-то известный, мне же известно о нем одно: он несвободен, а фишка в том, что невозможно, писая стоя, не смотреть на него. Далее – стиральная машина «Франя», не автомат, работает шумно, из крана капает, в поддоне горшки с папоротниками и всей той банальной растительностью, какую встречаешь в любом госучреждении здравоохранения. Смотрю на бедненькую косметику, выставленную на край пожелтевшей, не обложенной кафелем ванны, на открытый шампунь «Три травы», на запылившийся помазок, на какие-то дешевые тоники, кремы, на зубную щетку в последней стадии разложения с торчащими во все стороны желтыми щетинками. Паутина в полоскательном стакане. Турпизм – так бы я назвал это, рискуя в очередной раз нарваться на ярлык «эстет». Есть даже кварцевая лампа – свидетельство отчаянной битвы за привлекательность. Каждый, кто видел Лукрецию и Патрицию, с состраданием отводит взгляд. Но вся эта просроченная косметика, которую собирает Лукреция (а Патриция украдкой пользуется), грошовые зелья против целлюлита, для подтяжки живота… Все говорит о том, что я не в ванной, а в арсенале. Внезапно за моей спиной включается газовый бойлер, наверняка одна из них моет руки на кухне. Смотрю на голубые язычки пламени, на пожелтевшую ванную, на дне которой стоит кастрюля с желтой водой, на окошко над унитазом, завешенное тоже пожелтевшей шторкой. Квартира пожилых женщин. И везде полно цветов в горшках – пожилые женщины обожают растения.
* * *
Кругляк, кипиш, жестянка в течение пятидесяти лет была для гомосексуалистов чем-то вроде сегодняшнего торгового центра для среднего класса. Расположенная где-то в парке с дурной репутацией, покрытая ржавчиной, скорее всего еще довоенная, с остатками декора. В плане выглядела как звезда. Каждый ее луч – вход. А какие звезды приходили! Посреди – обоссанный со всех сторон то ли столб, то ли массивная колонна. По ней стекали потоки, смердящие, как подворотни старых домов.
Жестянка была частью городской инфраструктуры, такой же, как и фонари, скамейки, балюстрады, отделяющие гуляющих от реки или улицы. Во времена коммунистического правления это было единственное место общего пользования, где не сидела ворчливая смотрительница. Публичные женщины стояли под фонарем, а мы – у жестянки, как у позорного столба, вот именно, потому что каждый прохожий мог в тебя плюнуть. Внутри постоянно воняло дезинфекцией и мочой. Входили, вытаскивали свой шланг и лили на покрытую лишаем стеночку, на которой наросли сосульки и проступали настоящие палимпсесты, иногда кто-нибудь палочкой процарапывал на ней какую-нибудь надпись, хипповскую эмблему или что-нибудь на совершенно непонятной фене. Тот, кто приходил сюда только отлить, сразу же и выходил. Если за чем другим, то долго кружил вокруг жестянки в ожидании, пока кто-нибудь туда не войдет. Тогда следовало обождать пару минут, войти, встать рядом и начать дрочить, посматривая краем глаза на мужчину, который зачастую вовсе не ссал, а как-то бережно и размеренно гонял лысого. И тогда лед трогался, и можно было уже не прикидываться. Даже не поглядывая наверх, на лицо, которое, впрочем, никогда толком и рассмотреть-то было нельзя, потому что приходилось следить за мужиком, хватать его за конец и позволить ему схватить твой. Да и остатки смущения не позволяли поднять взгляд. Все это сопровождалось монотонным звуком падающих капель, эхом и холодом, более пронзительным, чем на улице. А поскольку у жестянки не было дверей, не было там никогда и непроглядной темноты. Впрочем, ночью некие таинственные Власти Парка перегораживали вход решеткой.