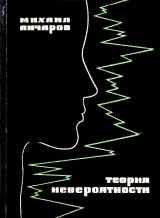
Текст книги "Теория невероятности. Золотой дождь"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 13 страниц)
Глава 11. ЖИВОПИСЬ «А-ЛЯ ПРИМА».
До осени сорок пятого года я был в резерве. Потом демобилизовался. Уже есть на свете атомная бомба, по никто еще ее не боится, потому что она у союзников. А кто боится союзников? Боятся только врагов, а враги – это разбитые гитлеровцы и японцы, о которых до этого мы знали только, что они отличаются немыслимой силой воли, как у штабс-капитана Рыбникова, самурайской хитростью, и у них выступают вперед зубы, для чего артисты в детективных пьесах делали поверх своих зубов еще искусственные.
Чего мы боимся? Мы боимся только мороза. Потому что идет первая послевоенная зима, и Москве может не хватить топлива. А так лично мне чего бояться? Мне нет двадцати трех, деньги, слава богу, уже кончились. Потому что открыты коммерческие магазины, а в них продают «Белочку», шоколад с орехами, который очень любят девчата, а также они любят мороженое, а пачка стоит пятнадцать рублей. Ну еще и еда, конечно.
Мы едем на лесозаготовки.
Поезд выбрался с окружной дороги, и мимо окон вдоль путей тянутся гряды, барханы, дюны, завалы, заторы дров, присыпанных снегом, которые подтягивают и подтягивают к Москве. У меня в мешке пятьсот пятьдесят граммов сала, полголовы сахара и бутылка зеленой водки, залитая сургучом. Еще в вещмешке у меня томик Грина, а там феерия про Алые паруса и про девушек, трогательных, как серны, которые всегда ждут и никогда не изменяют.
Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля испугала давно.
В теплый край, в южный край,
Приплывем все равно…
– поем мы чью-то самодельную песню на слова Грина.
Они мне нравятся безумно, эти девушки Грина, до слез. Но я бы хотел их иметь сестрами, а не женами. Я не могу представить себе, какие они в постели, как я не мог в юности представить себе в постели ни Анну Австрийскую, ни леди Винтер, потому что в иллюстрациях к «Трем мушкетерам» на них были такие роскошные неподвижные одеяния, что невозможно представить себе, как все это происходит. Я был здоров, как свая, и небесные чувства меня еще не коснулись. Из живописцев мне в тот период нравились только Франс Гальс и Цорн, а из наших – этюды Репина к «Государственному Совету» за ослепительную силу мазка, за красочную пасту, которая взвивалась вихрями под кистью мастера и не поймешь, как лепила форму. Правда, все это по памяти – музеи еще были закрыты. Эти художники писали «а-ля прима», то есть сразу, и мне тоже хотелось всего сразу, и я не мог себе представить, что на свете помешает мне получить все сразу, потому что войны окончились и на всем свете остались одни свои. Я знал, что с разрухой мы скоро управимся, а карточки скоро отменят. А то, что я взрослел гораздо быстрее, чем умнел, меня не удручало, потому что я полагал, что все происходит как раз наоборот. Чересчур я был тогда умный, вот в чем штука.
Деревня была как деревня. Острый месяц висел в сиреневом небе, дым из труб сносило набок, и замерзшие колеи посреди улицы весело пахли навозом.
Нестройной гражданской толпой мы прошли к околице, где стояли грузовики, и свалили вещи в полузавалившуюся ригу.
– Потом разберемся, – сказало нам красноносое начальство с шерстяным кашне поверх поднятого до ушей демисезонного пальто и поставило у дверей старуху с осоавиахимовской мелкокалиберкой.
– Погреться бы, – послышались голоса.
– В лесу погреемся, – сказало начальство. -
Не маленькие. В стране разруха.
В стране действительно была разруха. Мы полезли на грузовики. Во всей толпе нас было человек тридцать демобилизованных – поэтому набились в один грузовик. Решили держаться вместе. Дорога виляла в сосновом бору, не тронутом артиллерией. Все стояли в машине, держась друг за друга, и дышали паром – человеческий монолит. Если бы полуторка перевернулась, она бы так и стояла на наших головах вверх колесами, так мы держались друг за друга. На других машинах была болтанка и слышались вскрики на поворотах. Там были какие-то гражданские.
Великое дело – сплоченность. Вдруг мы, тридцать демобилизованных, поняли, что нам дала армия, и все вокруг поняли и завидовали нам. Еще бы, черт возьми! Разве у кого-нибудь шла работка так, как у нас! Набранные откуда попало, с разных предприятий, с бору по сосенке, гражданские – разномастные, разношерстные, разных возрастов и разной упитанности гражданские – только кряхтели, глядя на нас.
Кто-то повалил лес, разделал его на двухметровые поленья и уложил на снегу штабелями по четыре, восемь, шестнадцать кубометров. Когда сгружали в машину такой штабель, то под ним на снегу оставались темные пролежни с торчащими на углах столбиками. Сила координации, великий Усачев, автоматически ставший командиром, чувство локтя, великое чувство дисциплины и великолепное военное пижонство делали нас недосягаемыми. Машины катились к нам одна за другой – шоферы боялись нас и Усачева, а гражданские только на второй день додумались до технологии потока. Тогда Усачев построил нас цепочкой, и живой наш конвейер в два броска дотягивался до любого места на дороге, и машины не буксовали в снегу. Гражданские додумались до этого не сразу и дело организовали плохо. Мы начинали с дальних делянок, а они с ближних, и к моменту усталости у нас работа становилась легче, а у них труднее. Да и навыки у них были не те и силенки не те. А проблема одежды? Они берегли одежду, а мы нет. Армия приучила нас не бояться портить одежду, когда идешь в дело, другую дадут. Мы донашивали старое обмундирование, а у гражданских были те же ватники, но купленные на заработанные деньги.
Когда наша одежда рвалась, Усачев отдавал приказ, и пять человек за ночь чинили всю одежду, а на следующий день не шли на погрузку. Красноносое гражданское начальство с шарфом произносило речи перед своими и почти плакало, но каждый чинил свою одежду сам, и никто не хотел, чтобы его сосед валялся в теплой избе, когда остальные будут, обдирая руки, таскать ледяные поленья. А приказ отдать красноносое начальство не имело права.
Мы умирали от хохота, когда под конец дня они вдвоем шли встречать учетчиков из лесхоза; Усачев – сто восемьдесят пять сантиметров роста, в подогнанном ватнике, и красноносый тощенький парнишка, кашлявший в шарф.
– Не дышите на него, товарищ командир, – упадет! – крикнул кто-то, надеясь попасть в портняжную команду. И красноносый поскользнулся.
Он с ненавистью оглядел наши смеющиеся рожи и вырвал локоть, за который галантно поддержал его Усачев. В деревне нас любили, а красноносый ненавидел Усачева. Зато Усачева любили женщины. А как его было не любить, когда он подбрасывал им топливо. Красноносый однажды поймал Усачева и спросил:
– Откуда дровишки?
– Из лесу, вестимо, – сказал малюточка басом, отстранил красноносого и быстрей зашагал.
Он зашагал к избе, где ждала его сладкая хозяйка и горькие слезы по умершему «перед войной еще» мужу, заведующему складом в городе Рыбинске, который успел перед смертью сколотить жене лучший дом в деревне. Дом требовал ласки, а о хозяйке и говорить нечего.
– Вот что… – сказал Усачев. – Пора менять дислокацию. А то еще женят. Мы подумали.
– А что делать? – спросили мы.
– Фортель нужен. Проявим солдатскую смекалку.
Мы уже устали от чемпионства.
– Слушай приказ, – сказал Усачев. Мы выслушали приказ.
Мы устали, и нам действительно пора было отдохнуть. И потом Усачеву видней – приказ командира не обсуждается. Сами согласились на его командование. Дровам конца не было. Наше дело было выполнить норму – двести кубометров на человека. Наступили морозы. По насту ледяная корочка. У гражданских, когда вернутся по домам, худо-бедно – у каждого своя работа, а у нас впереди еще полная неясность, и пора было браться за дела. И потом мы воевали, черт побери! Если подсчитать, из скольких убитых рот набрался остаток в тридцать человек – бывших офицеров, сержантов и рядовых, – то лучше не считать.
«Фортель» был таков. Учетчики из лесхоза замеряли выработку не по дровам, а по пролежням на снегу. Сразу было видно – четыре, восемь или шестнадцать кубов увезли с поляны – штабеля были стандартные. Мы удвоили размеры пролежней, мы утоптали снег, перенесли колышки, присыпали снег трухой и сделали из четырех кубометров восемь, а из восьми – шестнадцать. Мы поставили «рекорд», получили благодарность от лесхоза и через полдня такой деятельности уже сидели у костров, дожидаясь машину, которая отвезет нас в деревню, а потом на станцию, а потом в Москву, а потом в новую жизнь, которая ждала нас, неизведанная и полузабытая, где надо было зарабатывать деньги, жить своим умом и не надеяться на Усачева, и для которой мы, ей-богу же, сделали порядочно и честно собирались сделать еще больше. О смерти мы знали кое-что, видели ее во всех видах. А что мы знали о жизни, бывшие десятиклассники, офицеры, сержанты и рядовые, бывшие москвичи? Мы знали только, что жизнь хороша и жить хорошо, а в нашей буче, боевой, кипучей, и того лучше. Одним словом, как писала девочка из рассказа В. Инбер, корова – это большое животное с четырьмя ногами по углам. Из коровы делают котлеты, а картошка растет отдельно.
– Сволочь… – сказал красноносый верзиле Усачеву, подонку в 1 м 85 см роста. – В стране голод, холод… В городах дети мерзнут… Так ты за народ болеешь?… С-сволочь!…
Он закашлялся и зашелся в кашле. Вот и вступили в мирную жизнь. Между прочим, я когда-то, давным-давно, в незапамятные времена, хотел стать художником и писать «а-ля прима». Мы забыли, что воинская команда – это не стадо, а коллектив. А у коллектива должна быть совесть.
Парнишка перестал кашлять, подошел к Усачеву, ударил его с размаху в грудь и упал. Усачев даже не шевельнулся. Он только выплюнул цигарку и шагнул к парнишке, который пытался встать, упираясь в наст голыми руками.
Ну, тут мы опомнились и кинулись на Усачева, чтобы хоть как-нибудь размочить невыносимое чувство позора. Ему дали подножку, сбили на землю, и тридцать человек пытались достать его кулаками. Потом Усачев уехал.
Еще сутки мы перетаскивали недобранные дрова. Потом сели в грузовик. На обратном пути нас болтало в машине и чуть не выбрасывало за борт на ухабах, потому что мы стояли каждый поврозь, сунув руки в рукава ватников.
Приближалась деревня с ее добротой к нашей молодости, с ее теплом, с ее поклонением нашей военной удали.
Глава 12. ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ.
Когда я вспоминаю о том времени, основное мое чувство – раздражение. Метался я очень. Все было непонятно, хотя цель у меня была – художество. Да не просто картинки, а великая живопись. Я еще не задумывался над тем, зачем вообще живопись. Это пришло много позднее, когда я спросил себя: а зачем их вообще писать, картинки-то? Этот вопрос передо мной еще не стоял. Задача была самая скромная – научиться писать, как великие мастера, люди, чьи картины висели в музеях. Я их тогда не делил ни на школы, ни на течения, ни на эпохи. Мне было все равно: Александр Иванов или Суриков, Леонардо или Ван-Гог. А если совсем честно, то мне нравились вообще все картины. Нужно только, чтобы они были. И еще чтобы они висели в музеях. Разумелось, что все картины в музеях написаны великими мастерами. А если еще честнее – мне нравилось все, что написано красками, даже кинорекламы.

Спрашивается, чего же метаться, если нравится любая живопись, ведь метания предполагают отсутствие ясности. Дело в том, что я обнаружил в себе странное качество – метаться, когда все хорошо, и твердо стоять на ногах, когда терять нечего. Может быть, с жиру бесился? Едва ли. Мне было не до жиру. Оказалось, что человеку, который очертя голову взялся за художество, подохнуть гораздо легче, чем выжить. Искусство всерьез – это десант. Но только на войне мы знали – либо мы все погибнем, либо отвоюем ту жизнь, при которой оставшиеся в живых поведут свой личный бой на радость всем остальным. На радость остальным. Не меньше. Генерал был прав. Я вел свой личный бой – и страха не испытывал и с жиру не бесился, а существование свое поддерживал тем, что по ночам реставрировал пластилином багетные рамки и покрывал их фальшивым золотом в техникуме хлебопечения у Землянки. И завхоз в полувоенной коверкотовой форме, цыкая зубом, говорил мне, что искусство требует жертв.
Когда я слышу эту великую формулу завхоза, состоящего при хлебопечении, мне всегда хочется спросить – почему? Почему искусство требует жертв? Почему искусство требует жертв именно от художника? Может быть, искусство требует жертв как раз от завхоза?
Метался я потому, что привык всегда быть в куче, а тут остался один. Привык получать задания, а теперь задания мне никто не давал. Метался потому, что жизнь захлестывала меня, а надо было искать свою тропку. Метался потому, что захлебывался впечатлениями, а для глубокой живописи нужно было пить их по каплям. Меня кидало к женщине и отталкивало от ее мелочности. Я дважды хотел кончать с собой и трижды жениться. Я хотел писать картины величиной с широкий экран, а писал натюрмортики – кувшин и две тарелки. Но было ни холста, ни красок, и купить их было не на что. Вспыхивали и гасли дни, луны валились в Москву-реку, оранжевое солнце взлетало и падало за крыши домов, и фиолетовые тени выскакивали из подворотен. И все это надо было писать только по памяти: ведь все улицы Москвы были почему-то секретными объектами. О Кремлевской площади среди храмов можно было только прочесть в книге «Московский Кремль» издания 1912 года. Я и сейчас еще радуюсь, когда вижу художника, пишущего Спасскую башню. Правда, фотографию башни даже в те годы можно было купить в любом киоске и писать с нее этюд. Короче говоря, мне во время войны доверяли государственные тайны, и никто еще во мне не обманулся на этот счет. А как только я демобилизовался, я почувствовал – надо поступать куда-то в художественное заведение, чтобы никто не подумал, будто я хожу по улицам Москвы, где я родился и за которую воевал, с целью написать по памяти пейзаж Большой Семеновской улицы.
Короче говоря, оторвался я однажды от завхоза, от золоченых багетов, от витрин в магазинах, которые я украшал декоративными панно, от выпуклых букв, которые выпиливал из фанеры и набивал на красный плюш стендов с фотографиями, огляделся по сторонам и вижу, что стою на улице Горького в помятой генеральской фуражке и вытертой по швам шинели, а в кармане у меня мятый рубль большого размера и малой покупательной способности, а вокруг течет гражданская река, занятая серьезными делами, и ей не до щепки, которая крутится в водоворотах и настывает у витрин с красками. А это не щепка, это вовсе человек.
Когда Растиньяк приехал в Париж, у него была задача – завоевать Париж. Это значит – добыть столько денег, чтобы хватило на прихоти. Так ведь это зависит от того, какие прихоти. Ну какие прихоти у Растиньяка? Дорогие вещи и дешевые женщины. Все это вписывается в одно слово – роскошь. Мура это, а не прихоти. Мне бы его заботы. На мои прихоти не напасешься никаких денег. Мне хотелось производить искусство в неограниченных количествах – всякое, не только живопись, мне нужно было писать огромные картины, которые некуда было вешать, и значит – надо было строить дворцы, да что там дворцы, целые кварталы дворцов, целые города дворцов, расписанных моими картинами. И разве только картины? А книги? Нужно, чтобы было неисчислимое количество книг, и все интересные и с картинками – так что не оторвешься. Значит, нужны были тысячи типографий и сто тысяч бумажных фабрик. А кино? Я очень любил смотреть кино, но только не такое, как на экране, а какое видишь, когда закрываешь глаза. Я бы выпускал сотни фильмов в год, а ведь один фильм стоит три миллиона по государственной цене. А сколько нужно денег, чтобы люди любили все, что я произведу, мечтали этим насладиться – нет таких денег. И наконец, сколько нужно денег, чтобы мне самому нравилось то, что я произведу? Нет таких денег. Младенец этот Растиньяк, жалкий провинциал.
Короче говоря, я узнал, что открылся Музей изобразительных искусств, у меня в кармане затрепетал рубль, и я оказался в толпе, которая протискивалась в двери музея на Волхонке.
Меня била дрожь. Я узнал запах музея и косым взглядом увидел белые гипсы в ассирийском зале.
Меня повернуло несколько раз и притиснуло к какой-то картине.
Ведь для того, чтобы разбиться, не обязательно падать с двадцатого этажа, можно поскользнуться на арбузной корке, правда?
Это была голова апостола, написанная художником Пьетро Новелли. Что о нем можно сказать? Когда я изучал историю искусств, фамилия этого художника мне не попадалась. Одно твердо – художник, даже если он написал одну картину, которая может переломить жизнь только одного человека, – гений. Приходит художник и приносит картину, а она как последний кристаллик соли в перенасыщенном растворе, как катализатор, и родится нечто новое, и отлетает старое. Попробуйте опровергнуть эту мысль.
Я смотрел на голову этого апостола, на темные тени под бровями, где только угадывались глаза, – даже не глаза, а взгляд, на могучую лепку лба – такая уверенность и спокойствие кисти, такое отчетливое представление о красоте, такая великая культура! Я пытался проглотить что-то и не мог, и понял, что это позор, что я плачу среди бела дня в толпе и мешаю экскурсоводу за моей спиной объяснять взрослым детям что-то насчет эпохи Возрождения. А я не мог уйти, потому что боялся – если обернусь, меня примут за контуженного и удалят из музея. А я и был контуженный. Меня контузила мечта, воплощенная кистью.
Ну ладно, что говорить. Я видал потом картины и не такие. «Сикстинскую мадонну» видал. Но эти картины видели все, а голову апостола Пьетро Новелли только я. Хотя она и сейчас висит в музее, и мимо нее тысячи людей спешат в буфет.
Ну ладно. Надо рассказать еще об одной картине, и тогда будет покончено с вопросом о том, почему я такой, а не какой-нибудь другой.
Что такое искусство? Зачем оно? Я не теоретик. Универсального ответа не знаю. Мне знакомый физик Аносов Алеша сказал, что энергия стремится к уменьшению потенции – так, кажется, по-научному. А следовательно, и творческая энергия. То есть творческий человек хочет разрядиться, ослабить внутреннее напряжение, а то его разнесет к чертям. А так как энергия не исчезает, то она переходит в создание, которое вызывает ответную вспышку. И идет, не кончается цепная реакция творчества.
И еще одно. Мало понять правильность мысли и поверить в нес, надо еще захотеть ей следовать. Захотеть. Значит, искусство – это еще и способ вызывать благие желания. Потому что в художестве даже изображение плохого – это тоска по хорошему. Если этого нет, или не видно, или не чувствуется – значит, не художественно, значит, констатация. А тот, кто изображал, мог быть кем угодно, только не художником. Если сказать по-старинному, то искусство – это средство пробуждать стремления к идеалу. Оно показывает этот идеал наглядно, соблазняет, зовет выбиться из омута, усиливает чувство жизни, велит жить и делать свою работу на шестерку.
Все наполнено ожиданием. В воздухе носится какое-то светлое «вот-вот». Кто может дать гарантию, что не художники его приблизят? Нет такой гарантии. Поэтому художника надо любить, братцы. Потому что, хотя плоды его работы самые неопределенные, они определяют расцвет общества. Потому что, когда любят художников, любят свои потенциальные возможности. Ведь детей любят именно поэтому. Потому что детская неприспособленность к жизни говорит только, что ребенок приспособлен для другой жизни, без волков. Ведь он же приспособлен для жизни в семье. И в нем, в ребенке, есть ежеминутный поиск и нежность. А дом без детей что за дом?! Это не цветущий сад, а камера хранения барахла на вокзале – тусклая лампочка среди бела дня, зарешеченные окна, куча чемоданов, и все чужие.
Этой осенью со мной произошел пустяковый случай. Но с него все началось. Я сидел в кафе-мороженом, а за длинным столом напротив – мальчики и девочки, смешные и почти взрослые, девятый класс, наверно. Их оказалось восемнадцать душ-это когда составили им столы в один стол, официантка спросила: «Сколько вас?» И даже какой-то черный, невыносимо элегантный, с брыластенькими щечками, который кушал свое мороженое, распустив галстук, – и тот передвинулся вместе со своим столом в сторону, чтобы они могли расположиться удобнее. И у всех взрослых стали томные глаза, и черный, брыластенький, невыносимо элегантный тоже смотрел на них темными глазами и тоже, как все, пытался выглядеть снисходительным.
«Браво, малыши», – подумал я. И сказал официантке:
– Большой курятник, правда?
– Послезавтра первое сентября, – ответила официантка.
– Мороженого съедят видимо-невидимо, -
сказал я.
Мальчик в ковбойке с матерчатыми погончиками поднялся и начал разливать вино в высокие бокалы. Я сразу понял, что разливает неверно – на всех не хватит. А как он будет выпутываться – этот, с матерчатыми погончиками? Они же все пропадут от смущения! И черный, брыластенький смотрит, но делает вид, что это для него детский сад, что он еще и не такие компании видел, и, если бы захотел, мог бы их всех как следует угостить, и что он в компанию к ним не идет. потому что утомлен жизнью, а не потому, что его не зовут.
Но тут им принесли третью бутылку полусладкого, и у меня отлегло. И деньги для ребят не вопрос. Складчина – великое дело. Сейчас им понесут подносы с мороженым – десяток названий, которые я не знаю, и все несъедобные – «Космос», «Ракета». «Юбилейное». А я знал только сливочное, фруктовое, шоколадное, но это все плохое мороженое. Единственное стоящее мороженое – это когда из жестяного бидона выскребают ложкой не паршивую пломбирную пасту, а с хрусталиками молочное мороженое и намазывают горкой на вафлю, с хрустом заправленную в формочку, и выталкивают ее, накрыв второй вафлей с выпуклыми именами – Костя, Нина. И потом идут и. облизывают мороженое по краям, поворачивая его и держа двумя пальцами за выпуклые вафли, и стараются идти по песочку в ногу в тени щелистого забора, над которой бежит тень макушки с петухом и тень макушки с бантом-пропеллером, а в кино «Сокол» показывают старый уже в то время звуковой фильм «Окраина» и первый цветной фильм «Кукарача».
«Кукарача» – это эпоха. Ля кукарача, ля кукарача…
А в общем кукарача – это просто таракан, и пора было уходить. Черный элегантный тоже поднялся, надел серый пиджак, висевший на спинке стула, и, оттопырив локти, встряхнул плечами.
«Сейчас подойдет, скотина», – подумал я. Точно. Подошел. Снисходительно наклонился вполоборота, чтобы видно было, какие у него богатые покупки, перевязанные магазинным шпагатом. Что-то снисходительно спросил у парнишки в свитере и шевельнул коленкой. Не произвел впечатления и шевельнул коленкой. А парнишка в свитере ничего не понял и улыбнулся, и элегантный сделал вид, будто он вовсе не ожидал, что его пригласят в компанию. Кивнул и пошел косо с кривой улыбкой, держа пакет за магазинную шпагатную петлю, и чуть не ткнулся носом в дверь.
«Какое счастье, что это не со мной!» – подумал я и разозлился на детей.
«Что, брыластенький? – подумал я. – Худо тебе? Оказывается, уже есть общество, где ты не будешь в центре внимания? А почему? А потому, что нечего тебе положить на бочку, кроме солидности и пакета с магазинным шпагатом. Погоди. – думал я, – еще не то будет. Привыкнув к маске солидности, за которой скрывается разочарование в своих силах, ты постепенно превратишь взоры свои искусственно томные в естественно потухшие…»
И тогда подумал я с сочувствием к брыластенькому: «Ну хорошо. Возраст-это возраст. И у всех восемнадцати душ будут лысинки и вялые щеки, а пока им кажется, что утро это на всю жизнь. Но неужели гармония и универсальность человеческая, то есть счастливое ощущение того, что все можешь, – ведь это и есть молодость, а не кошачий рев по ночам, – неужели эта универсальность может идти только вширь, а не вглубь? Неужели Леонардо привлекал внимание лишь множественностью своих дарований?
Нет, – подумал я. – Когда Леонардо уехал во Францию из ошалевшего от грабежей Рима, то во Франции даже бороды стали носить, потому что бороду носил Леонардо, и моду эту начал сам Франциск 1, великий пижон, проигравший французское Возрождение. Что мог предложить французским варварам старый флорентинец, кроме своей тоски по всеитальянской родине и кроме своей тоски о великих каналах, связывающих людей и государства, кроме своей смутной, затухающей славы? Видимо, было что-то в Леонардо, что заставляло относиться к этому старику со священным трепетом, и пенсия королевская и дарованный ему замок Клу были словно крик людской:
«Берн что нужно, но живи. Даже не делай ничего, но присутствуй. Мы же знаем, у тебя отнялась левая рука, великий левша, но присутствуй. Потому что электричество, магнитное поле вокруг тебя, притягивающее мальчишек и взрослых, говорит, что не солидность мы видим в тебе, а величие. И что биотоки, которые откроют только через пятьсот лет и о которых ты догадывался, говорят нам: „Ты-первый“. А брыластенький – это просто черный, элегантный, солидный таракан. Ля кукарача».
БАЛЛАДА ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ВОЗРАСТА
Не то весна,
Не то слепая осень.
Не то сквозняк,
Не то не повезло.
Я вспомнил вдруг
Что мне уж тидцать восемь.
Пора искать
Земное ремесло
Пора грузить
Пожитки на телегу,
Пора проститься
С песенкой лихой,
Пора ночлег
Давно считать ночлегом
И хлебом – хлеб,
А песню – шелухой.
Пора Эсхила
Путать с Эмпедоклом,
Пора Джульетту
Путать с Мазина.
Мне тыща лет,
Романтика подохла,
Но нет, она
Танцует у окна.
Ведь по ночам
Ревут аккордеоны,
И джаз играет
В заревах ракет,
И по очам
Девчонок удивленных
Бредет мечта
О звездном языке.
Чтобы земля,
Как сад благословенный,
Произвела
Людей, а не скотов,
Чтоб шар земной
Помчался по вселенной,
Пугая звезды
Запахом цветов.
Я стану петь,
Ведь я же пел веками.
Не в этом дело.
Некуда спешить.
Мне только год,
Вода проточит камень,
А песню спеть –
Не кубок осушить.
И тогда я ушел из этого кафе, и мысли у меня метались, как сухая листва на ветру. Я все думал: кто же я? Как тот брыластенький или, может быть, нет? И об ответственности художника думал.
«Нет, – подумал я, – пора делать большую приборку души. Пора выкидывать мусор. Но только не переиграть и не выкинуть главное».
И тогда я вспомнил и соло на корнете, и легкий табак, и акварель вспомнил, и сушеную дыню, и одуванчики, и большой десант – все вспомнил. И подумал, а ведь мы же вправду выиграли войну.
«Ничего, – подумал я. – Есть еще резервы, если есть ответственность перед жизнью и перед красотой, которая в ней разлита».
И тогда я понял, что все наполнено ожиданием золотого дождя.
У царя Аргоса Акрисия была дочь Даная, славившаяся своей неземной красотой. Акрисию было предсказано, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, Акрисий построил глубоко под землей из бронзы и камня покои и там заточил свою дочь Данаю, чтобы никто не видел ее и не полюбил. Но великий Зевс полюбил ее, проник в подземелье в виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия женой Зевса. И от этого брака родился у Данаи прелестный мальчик. Мать назвала его Персеем. И впоследствии добыл он голову Горгоны-медузы, от которой каменели враги, и крылатого коня Пегаса, позволившего ему побеждать смерть.
Братцы, мы все художники. Мы видели жизнь и видели смерть. Мы видели смерть. На обледенелом шоссе валялся, по-видимому, труп немца. «По-видимому», потому что почему в горячке прошли танки и превратили его в огромное пятно. Головной «форд» остановился, и командир приказал убрать это. Когда это оторвали от обледенелого шоссе, то у обочины встал на миг лист ледяной фанеры, сохранивший облик бегущего на Москву немца, и профиль кричал.
Братцы, мы же все – художники. Мы же написали огромную жизнь, и наша картина висит в Эрмитаже. Там, на постели, приподнявшись на локте, лежит обнаженная женщина. Солнце бьет наискосок, и золотое тело ее просвечивает. Она не так уж хороша сама по себе, эта царская дочь, но ее чуть вульгарное, как у самой жизни, лицо наполнено ожиданием. И старуха, у которой на лице написано, что она знает все, отдергивает тяжелый бархатный полог и впускает золотой дождь. Рембрандт наша фамилия.
Это было давно, может быть, во времена Атлантиды, а может, это еще произойдет, когда мы встретимся с жителями антимира. Но это сейчас и каждый день происходит в картине Эрмитажа и, следовательно, в жизни. Потому что художник (а мы все художники) придуман для того, чтобы прийти в жизнь золотым дождем, и старуха смерть вынуждена откинуть вишневый полог.
До свиданья, друг. До встречи на холсте. Ведь творчество – это всегда воспоминание о будущем.








