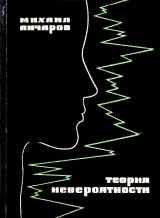
Текст книги "Теория невероятности. Золотой дождь"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Глава 9. ОДУВАНЧИКИ.
Мы обрушились с неба, как ангелы, и опускались, как одуванчики.
Некоторых из наших кончили в воздухе, и их намокающие парашюты несла медленная река, а все, кто остался жив, дотянули на стропах до весеннего кладбища.
Три «тигра» выскочили из-за ограды и вертелись на тесных дорожках кладбища, давя памятники.
Одного закидали противотанковыми, и он лопнул, выплеснув пламя, второй, проломив ограду, укатил в реку, третий бил термитными, и они увязали в мягкой весенней земле могил.
Вылез четвертый танк и фукнул из огнемета. Сиплое пламя дымно скользнуло среди цветущих могил, и остался только задумчивый белый ангел. Вы видели когда-нибудь обожженных огнеметом? Нет?
Автоматы выли, как суки в мороз. Сережа Ключарев придерживал рукой свисавший на щеку красный глаз, а правым, голубым, смотрел на вертевшуюся у его ног гранату-бутылку, которая через пять секунд должна была убить нас обоих, но он еще успел пинком сбить ее в воронку, и мы остались живы.
Ванюша Демичев, бывшая морская пехота, бил по немцам в упор и беззвучно пел любимую песню: «В бананово-лимонном Сипгапуре-пуре… когда у вас на сердце тишина… вы, брови темно-синие нахмуря… скучаете одна…» При его росте автомат его казался ручкой-самопиской, а на ляжке догорали маскировочные штаны.
Метались какие-то гражданские фигуры, мечтавшие отсидеться в склепах от проблем жизни. Работать было трудно.
Демичев изучил эту песню, когда мы две недели дохли се скуки перед выбросом десанта и слушали пластинки Вертинского, которые захватил с собой из Москвы Дима Сенявин, сын консульского работника в Шанхае.
Меня беспокоили темные гражданские люди, которые куда-то пытались уползти из хорошо налаженного хаоса и скользили среди воронок и могил, и мне даже чудился детский крик.
Меня прижимал к земле пулемет, хлеставший от подножия белого ангела, и это мешало мне командовать. Мы с Атабековым поползли, прикрывая лица лопатками, и меня кто-то, как в детстве, стеганул по заднице крапивой. К животу потекло что-то горячее. В две саперные лопатки мы покончили с пулеметчиком и развернули треногу в сторону ограды. Атабеков снял часы с протянутой вверх руки пулеметчика и стал бить короткими. Мы сверили время. Мы вполне могли продержаться пятнадцать минут. Нас оставалось еще достаточно. Народ все опытный, москвичи, культурные люди, свои в доску мальчики, ювелиры, и чужого оружия было завались.

Пулемет из-под ангела действовал как часы, и я мог работать в спокойной обстановке. Подошел Демичев и прилег рядом – в него за всю войну ни одна пуля не попала. Мы трудились что есть сил. В паузах я слышал над ухом свирепые слова Вертинского:
– И томно замирая… от криков попугая… как дикая магнолия в цвету… Демичев менял диск.
– Вы плачете, Иветта… что ваша песня спета… что это лето где-то унеслось в… – Демичев пел непечатное слово. Он был из Марьиной рощи, а там это всегда любили.
Они на нас полезли. Мы их не трогали, ведь так? И теперь мы пришли свести некоторые личные счеты. Демичев пел о бананово-лимонном Сингапуре, но даже ежу понятно, что это и была благородная ярость человека, ведущего священную войну с металлическими «тиграми», которые, в сущности, всегда оказываются в дураках, когда сталкиваются с человеком, хотя поначалу всегда кажется иначе.
Нас хотели достать из-за ограды, но им мешали два парашюта, висевшие, как шелковое белье, и задумчивый ангел. За оградой знали свое дело. У ангела на лице появилась щербатая уродливая улыбка и постепенно отваливались крылья. Потом лицо ангела стало похоже на череп, он зашатался на одной ноге, а отлетевшая ступня другой ударила Демичева в коленку.
Мы покидали за ограду «лимонки», и ребята стали просачиваться в проломы. Там все стихло, и стало слышно, как хрипят наши батареи. Дело шло к концу. К ангелу упала граната и убила Атабекова, а Демичева нет. Ангел зашатался от воздушного толчка и начал падать, и мы с Демичевым отскочили. А когда ангел упал, мне опять почудился детский крик.
– Посмотри, Ваня, – сказал я, потому что очень устал, зубы у меня лязгали, и я никак не мог разорвать индивидуальный пакет.
Ваня перекинул автомат, подошел к скелету ангела и отвалил его в сторону. Потом он вытащил из-под него малыша, совсем живого, только ножка повреждена каменной смертью, и такого маленького, что по одежде было не разобрать, какого он пола. Он не плакал, а только разевал рот, и были видны три молочных зуба, а на вязаном комбинезоне у него были гномы и грибы.
Дело, видимо, шло к концу. Мы отдали малыша в какой-то железнодорожный госпиталь, куда уже свозили ничейных немецких детей, найденных в развалинах, а сами двинулись искать начальство и еду.
Город был разгромлен не очень, только всюду горела бумага, воняло газом и ветер шелестел страницами толстых томов в заляпанных грязью переплетах. И в городе, на одном бывшем перекрестке, я встретил парня, с которым я был знаком миллион лет назад, когда жил летом на Украине в Санжарах, а рядом был лагерь для даровитых детей – тогда это было модно, – все они или писали стихи, или были артистами, а музыканты играли в запрещенные игры – баскетбол, волейбол, хандбол тайком, потому что им нельзя было портить пальцы. А я ходил к ним в лагерь и рисовал на них карикатуры в стенную газету и пижонил ручным ястребом, который с неба прилетал на мой свист и ел лягушек.
Мы вспомнили допотопные времена и молодость и пошли поискать выпить, но к цистерне спирта, которую атаковала пехота, подошла «тридцатьчетверка» и, развернув башню, пальнула в воздух. Пехота отступила, а цистерну укатили железнодорожники. Тогда парень открылся мне и шепотом сказал, что он нашел дом, где есть потрясающие репродукции картин со всех музеев Европы, целые альбомы: Веласкес, Брейгель, Босх. Я наорал на него за тупость и легкомыслие, и мы дунули с такой скоростью, что у меня опять пополз бинт.
И в этом доме я добыл цветную репродукцию «Портрета папы Иннокентия» Веласкеса и увидел, наконец, как написан красный шелк его рясы, и это было как чудо, потому что общий цвет рясы создавался не теми красками, какими полагается, а совсем другими, и, оказывается, я, мальчишка, угадал этот цвет, когда раньше вглядывался в черно-белое фото этой картины. И первый немец, на которого я глядел нормальными глазами, был старенький хозяин этой квартиры, который все трясся и совал нам в руки альбомы с репродукциями.
И я тогда понял, как получается фашизм. Сначала у человека длинными очередями из-за ограды отбивают крылья, потом делают его уродом, и лицо его становится похожим на череп, и тогда его только толкнуть – и он обрушивается на ребенка. И я понял навсегда, что памятники надо ставить только тем людям, которые спасают ребенка в каждом из нас, все равно – политическим деятелям, солдатам или художникам. Вот как, например, тому, задумчивому, который сказал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал».
Как– то этой весной, подходя к его памятнику, я услышал детский крик: «Мама, мама, гляди – одуванчики…» И вспомнил о парашютах.
БАЛЛАДА О ПАРАШЮТАХ
Парашюты рванулись,
Приняли вес.
Земля колыхнулась едва.
А внизу – дивизии
«Эдельвейс»
И «Мертвая голова».
Автоматы выли,
Как суки в мороз,
Пистолеты били в упор.
И мертвое солнце
На стропах берез
Мешало вести разговор.
И сказал господь:
– Эй, ключари,
Отворите ворота в сад.
Даю команду
От зари до зари
В рай пропускать десант.
И сказал господь:
– Это ж Гошка летит,
Благушинский атаман,
Череп пробит,
Парашют пробит,
В крови его автомат.
Он врагам отомстил
И лег у реки,
Уронив на камни висок.
И звезды гасли,
Как угольки,
И падали на песок.
Он грешниц любил,
А они его,
И грешником был он сам,
Но где ты святого
Найдешь одного,
Чтобы пошел в десант?
Так отдай же, Георгий,
Знамя свое,
Серебряные стремена.
Пока этот парень
Держит копье,
На свете стоит тишина.
И скачет лошадка, –
И стремя звенит,
И счет потерялся дням.
И мирное солнце
Топочет в зенит
Подковкою по камням.
Глава 10. БОЛЬШОЙ ДЕСАНТ
Английский ученый-марксист Джеме Льюис пишет: «Поэтому будем помнить о том, что среди огромного множества животных человек – единственное животное, которое сознает, чем он является». Я с ним совершенно согласен. Но с оговоркой. Человек не всегда помнит, чем он является. Я вот сужу по себе. Разве я всегда помнил, что я человек? А сколько раз я помнил только, что я животное. Ну, это обо мне. А вы, дорогой друг, вы каждый день помните, что вы человек?
Никогда еще люди так не ждали чего-то. В воздухе носится какое-то великое «вот-вот». Вот-вот в литературе появится герой, достойный подражания, вот-вот появится стих томительной силы, и не надо будет думать, нужна ли поэзия, вот-вот в науке появится основополагающее открытие, которое утихомирит тоску человека по человеку. А тоска человека по человеку не есть ли тоска человека по самому себе?
Что сберегает наша память? Как восстановить ощущение того, что произошло в тот день? А ведь это был день веры и день славы. Это был день, когда все люди думали одинаково и ни один не был похож на соседа. Это был день, когда люди не нуждались в подозрительности и во всей огромной Москве не было ни краж, ни ограблений. Это был день счастья, потому что все поняли: равенство – это разнообразие. Это был день, когда вдруг стало ясно, как должен выглядеть народ, потому что народ – это племя вождей и у каждого самого малого был царь в голове.
С годами нас будет все меньше – нас, которые видели этот день своими глазами. Так пусть каждый сохранит для людей хоть сколок этого великого дня. Сделать это трудно, потому что дни съедают память и тускнеют видения тех лет. Но сердце помнит, не забудет никогда. Вдруг ночью заколет, защемит сердце… и ты вспомнишь этот день. Это было в Москве.
Мы лежали на койках в офицерском общежитии. Тусклая лампочка освещала дневального. Я снова был в Москве. Офицер связи и адъютант командира дивизии, я привез сюда бумаги с печатями и добрые пожелания генерала не возвращаться. – Кончается война, это же ясно. Она кончается, и хоть верится в это с трудом, приближается мир. И тебе надо учиться, дурачок. Какой ты военный? Рисуешь ты здорово, а для военного у тебя кишка тонка.
– А для художника в самый раз моя кишка? – спрашиваю я.
– Для художника в самый раз.
«Удивительно не хочется умирать, когда тебе восемнадцать лет, – сказал Овод и добавил: – У вас на глазах слезы, синьора».
Мне почти двадцать два. Война кончается. Я остался жив, и даже раны мои, если не считать случая, когда меня подняло на воздух и шмякнуло на битое стекло и я две недели не разговаривал, были все ерундовые. Что же касается души и ее ранений, а это гораздо занятнее, то я видел приблизительно все, что видели все в эти годы, и испытал все, что испытали все, только, может быть, немножко острее. Потому что я художник и до сих пор верю в то, что это во мне есть. Следовательно, остался цел, и убедился в главном, и понял, что в жизни все перемешано, и хорошее и плохое стоят рядом, а также патетика и шарманка, еще неизвестно, когда что важнее» и строить жизнь без черновиков пока не удается, а беситься от глупости жизни, от ее бессмысленности и низости – это все равно, что негодовать на красочную грязь, которая остается на палитре и называется «фузой». Потому что и глупость и низость – это от смерти, а от жизни – одна красота, которая умней всех нас и сама знает, что к чему. Вот генерал ко мне все время плохо относился, разговаривал сквозь зубы, и я не вылезал из взысканий, а теперь он дает мне рекомендацию в кандидаты партии, и посылает в Москву, и велит не возвращаться. А что он смыслит в художестве, если велел перед отъездом сделать ему копию медведей в сосновом бору и замучил меня рассказами о каком-то Георгии Николаевиче, с которым он учился в академии и который мог посмотреть на человека, а потом так нарисовать его, что не отличишь.
Он закуривает две сигареты сразу. Он не собирается протянуть мне одну. Он просто курит две сигареты сразу. Вот он какой, мой генерал, начальник десанта. Не нам, мальчишкам, чета. Он имеет право на индивидуальные повадки – две сигареты во рту, двойная порция дыма – и это не рисовка, судьба ему отпустила две порции жизни. Переделки, в которых он побывал, можно увидеть только в страшном сне. Мы против него – мякоть. Он – из бессмертных, из асов, сверхчеловек… Стоп. Это уже попахивает. К сверхчеловекам я отношусь плохо.
– А какая ваша задача во время боя? – спрашиваю я.
– Что ты считаешь боем?
Вот так. О чем можно с ним разговаривать, если он даже языка нашего не понимает? Как марсианин.
– Война – это одно, – сказал он. – А бой – это совсем другое. Есть разница, а?
– Только количественная, – сказал я.
– Войну когда-нибудь отменят, – сказал он. – Война – глупость.
– Не представляю вас в канцелярии, – говорю я.
– Десанты не отменят.
– Я не о том. Война ведь кончается. Сами говорите.
– И я не о том. Десант будет всегда. Коммунизм – это равные возможности, а не стрижка под нулевку, поэтому бой никогда не исчезнет. Равенство – это разнообразие. Коммунизм – это не общее корыто с даровой едой, а общая взлетная полоса. Поэтому у порядочного человека жизнь – это десант. У каждого свой.
– А повар? – глупо спрашиваю я. „– Что повар?
– Ха, а если человек детей нянчит?
– Если воспитатель не Макаренко, он – хреновый воспитатель, если повар под конец жизни не составит книжку рецептов – это не повар. Все должно быть первый сорт. Вот как Молоховец.
Молоховец – это не та Молоховец, которая «Советы молодым хозяйкам». Это наш повар, которого генерал взял из-за знаменитой фамилии и заразил непомерным честолюбием. Молоховец кормил нас экспериментальными блюдами. Если эксперимент удавался и потери в десанте были небольшие, то ночью Молоховец записывал рецепт в трофейный альбом для стихов и плакал слезами восторга и непонятости. До войны он работал в «Европе», в «Лондоне», в «Бристоле», но это не географические названия, а названия ресторанов. У генерала все было первый сорт.
Однажды, в самом начале еще, когда мы козлами скакали в грузовики, генерал стоял поодаль, сложив руки на животе, поблескивая пенсне, – маленький, плотный, стриженный бобриком, решительный, как Наполеон, профессионал. В шестнадцать лет он командовал эскадроном, потому что была гражданская война и он был самым способным в эскадроне. Он дважды был генералом, потому что его дважды сажали в тюрьму и выпускали и возвращали награды, когда начиналась война и нужны были десанты. Он смотрел, как мы сигаем через борт, и у одного парня соскользнула нога с колеса «студебеккера».
– Раздолбай, – сказал генерал. – Убрать. И парня перевели в какую-то мирную часть, кажется, в полковую разведку, что ли.
Однажды мы с радисткой Клавдией Ивановной возвращались в часть. Это было еще в Польше. Сухая дорога, промытая дождями, круто петляла вниз среди оранжевых откосов. Послышался шум мотора, мчался вниз заляпанный маскировочными кляксами генеральский «додж-три четверти». Мы посторонились, вытянулись «во фронт» и ели глазами ветровое стекло, которое сверкало, как генеральское пенсне. Машина остановилась.
– В машину, – сказал генерал, перегибаясь от руля.
Я понял, что это относится к почтенной Клавдии Ивановне, так как генерал уважал старость, а ей было уже тридцать два, и в машине было одно место. Остальные занимали какие-то тюки, он сам у руля и его сын, восьмилетний мальчик, который жил при нем и из-за которого у него шла безнадежная позиционная война с Молоховцом. Потому что Молоховец утверждал, что есть специальные детские блюда, а генерал в это не верил. Но Молоховец побеждал и плакал по ночам над листами рецептов, писанных на веленевой бумаге с золотым обрезом.
– В машину, – сказал генерал, и мальчик вылез, уступив мне свое место.
Я уселся. Генерал, перегнувшись, захлопнул дверцу и опустил два стекла. Мальчик ухватился за перемычку между стеклами и пристроился снаружи. Генерал погнал машину по петляющей дороге. Оранжевые откосы помчались вверх и назад, травянистые обочины и разъезженные колеи то проваливались куда-то вниз, то взлетали до самых стекол, и тогда коленка мальчика бороздила грунт на уровне его подбородка. Мне надоел ледяной комок где-то в грудной клетке, там, где было сердце, а также расширенные глаза Клавдии Ивановны, слепо глядевшие вперед, и я положил свою руку на белые запястья мальчика, вцепившегося в перемычку. Но генерал, даже не покосившись, сказал:
– Отставить.
И я убрал руку.
Мальчик доехал так до самого часового под дощатым грибом. Когда часовой крикнул «Стой, кто идет?» и остановил машину, хотя прекрасно знал, кто идет, и именно поэтому крикнул мальчик соскочил на землю и пошел в часть, спрятав в карманы фиолетовые кисти рук.
Трудно сказать, на чем он там держался снаружи. Я даже не помню, есть ли у «доджа» подножки. Но когда газеты пишут о космонавтах, я все ожидаю увидеть фамилию этого мальчика. Вот как генерал понимал первый сорт.
Вот какой мой генерал! Это мой генерал. Это только кажется, что генералы выбирают себе подчиненных. На самом деле все наоборот.
– И запомни. В художестве я не разбираюсь… Впрочем, медведей в сосновом бору пора подарить Клавдии Ивановне, она любит природу… Но в жизни я смыслю. Нужно уметь все, что умеют остальные, и еще кое-что. Желаю тебе трудной жизни.
– Слушаюсь, – угрюмо сказал я. – Только я считаю, искусство – это красота.
– И я так считаю, – сказал генерал.
– Значит, радость.
– Она только потом радость, – сказал генерал. – Трудней красоты, как я понимаю, нет ничего. А если искусство не десант за красотой, то на черта оно нужно?
Без стука вошел Молоховец с горящим взором и принес мне термос с каким-то питательным пойлом.
– А если будет десант на Марс, возьмете меня художником? – спросил я.
– Если Молоховец одобрит – возьму, – сказал генерал.
Отшутился. Не понял. И я поехал на аэродром.
В самолете я попробовал из термоса марсианское пойло, отдышался и с трудом вспомнил, как называется эта штука, которую пили у себя на горке древнегреческие боги, – нектар она называется. Это я не понял. Генерал не отшутился, а посмеялся. Он умел все, что умеют все, и еще кое-что. А ведь я насчет Марса сказал просто так. Никто еще не знал тогда, что это так близко. Просто горечь разлуки душила меня, я расставался с человеком, которого узнал только сейчас, во время последнего и единственного настоящего разговора, и вот теперь я терял его, потому что людей так много, а мгновений нежности так мало.
Гудели моторы, облака скрывали обгорелую землю, я пил марсианский нектар, и мне казалось, что я начинаю догадываться, зачем нужны художники. Чтобы останавливать мгновения, которые прекрасны. Напрасно боялся этого старый Гете. Это его черт напугал. Мгновенье – это не мертвый камушек, а живое существо, лепесток. И я подумал, что надо копить их, эти мгновенья, копить неистово, изо всех сил, чтобы их стало столько же, сколько людей на земле – живых, погибших и еще не родившихся. Только в этом случае каждый порядочный десантник будет чувствовать себя более или менее сносно.
И вот теперь я лежал на койке в офицерском общежитии в Москве, и была ночь, но никто не спал, все только проваливались куда-то и поднимали головы от каждого шороха на темной стене Потом начинали тлеть цигарки, и снова все проваливались куда-то. Потом репродуктор на стене откашлялся. Пронесся гул по огромным комнатам, и все стихло. Два часа ночи. По всей планете прошел гул, и вся планета затихла. Диктор сказал:
– …Безоговорочная капитуляция… Что бы ни случилось потом, – в ночь с 8-го на 9 мая 1945, в два часа десять минут началась безоговорочная капитуляция ночи.
Подробности, скорей подробности, иначе никто не поверит, хотя это все было и, следовательно, есть.
Сначала это было помешательство. Все офицерское общежитие плясало на койках и на столах, раздавались сиплые крики и болтались белые завязки рубашек и кальсон.
Потом с треском и пылью рухнули сорванные шторы затемнения, и в распахнутые окна заглянул бледный рассвет.
Потом гремела радиола, и на утреннем асфальте плясали одинокие дневальные, а все остальные одичавшими ордами метались по городу.
Потом военные прятались в подъездах, а их ловили, как зайчиков, вытаскивали на улицы, и над всеми толпами взлетала в небо растерянная братва, гремя медалями.
Искали маскировку, добывали земные костюмы, потому что в этот день солдаты твердо ходили по небу, а когда опускались на землю, жили в состоянии невесомости.
Вечер приближался.
Чины и должности не имели значения. Я видел зажатый толпой черный лимузин и сжавшегося на заднем сиденье мерцающего золотом адмирала. Он привык к качке на воде и не хотел в воздух.
Я видел Красную площадь, открытые машины кинохроники и демонстрации, которые шли навстречу друг другу. Я слышал неистовый крик мальчишек:
– Иностранца поймали!…
И видел колонну младенцев четырнадцати-пятнадцати лет, которые тащили огромного иностранца. Тело его было где-то внизу, а взлетали только его ноги в лакированных бутсах, которые мальчишки пытались качать на ходу. Это, наверно, был Морган, или Рокфеллер, или Мэлон, или Дюпон – черт его знает, все равно. В этот день любой, кто хоть одну банку консервированных сосисок вложил в блюдо Молоховца, мог рассчитывать, чтобы его качнули мальчишки. Завтра! Завтра они вернутся к земным счетам. Сегодня фашизм рухнул. Слушай, Морган, Рокфеллер, Мэлон или Дюпон, неужели ты забыл, как тебя качали мальчишки и как впереди несли твою зеленую велюровую шляпу и «кодак»? Неужели ты забыл, как милиция сдерживала толпу у старого посольства на Манеже, – там, где сейчас «Интурист», – а в арке здания, построенного Желтовским по заказу посла Буллита, точь-в-точь по рисунку Палладию, неистовствовали тромбоны и помповые корнеты джаза американских моряков, а сверху вниз и снизу вверх, с балконов и на балконы, где толкалась вся гражданская и военная миссия союзников, летели фляги и папиросы. Эх, Морган, Рокфеллер, Мэлон или Дюпон!…
Я видел сетку прожекторов над площадями и тысячу орудий, изрыгавших пламя и превращавших небо в палитру. Мы все это видели. Скупые души скажут, что это салюты.
Я видел только одного военного, которого не качали. Это был пожилой человек. Герой Советского Союза, полковник в застиранной форме, который купил у мороженщины весь ее ящик с мороженым и спускался по улице Горького, надев лямку на красную шею. Он раздавал бесплатно встречным детям целлофановые плитки, и губы его плясали, а слезы стекали по щекам, по шее на грязный от эшелонной копоти подворотничок. Вот что такое мир, братцы!
Мы же люди, братцы, нас мало – людей. Всего каких-нибудь два с половиной миллиарда. Один несчастный земной шарик. Детский садик истории. Человек – это единственное животное, которое сознает, чем он является. Неужели, чтобы он это вспомнил, предварительно нужна война?








