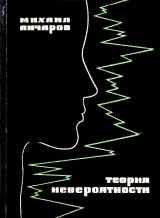
Текст книги "Теория невероятности. Золотой дождь"
Автор книги: Михаил Анчаров
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 13 страниц)
Ржановский, которого никто не называл Митричем, ухмыльнулся.
Тут дед увидел меня и заорал своему Вильгельму:
– Вильхельм! Вильхельм, иди сюда! Лешка пришел, переводить будем.
Мы сели за столик. Дедов искусствовед достал солидный журнал с лаково мерцающими фотографиями. Раскрыл на статье про деда. Я там запомнил одно место:
«Мы видим, как образ коня изменяется во времени. Он всегда порожден эпохой и всегда бунтует против нее. Но этот бунт поэтический. Это бунт мечты, которая не дает заснуть взрослым и пробуждает ото сна детей. Мечта – это первый звонок будущего. Счастливы люди, имеющие в своей среде фантазеров. Я позволю себе сравнение. Художник – это катализатор, ускоряющий химический процесс. Игрушка, если она искусство» – это тот кристаллик соли в перенасыщенном растворе, от которого сразу, мгновенно формируется душа ребенка.
Я позволю себе (может быть, несколько немотивированно, в первом приближении) разделить творчество Александра Васильевича Филиппова на пять основных периодов.
Первый период, который я предлагаю условно назвать «периодом отлетающей гривы», характеризуется…»
Дед наклонился ко мне.
– Лешка, – сказал он испуганно, – я всю жизнь делал одного и того же коня… Можешь ты это понять?
– Могу, – сказал я…
– …Стойте! – закричала Катя. – Стойте, не рассказывайте дальше! Я остановился.
– Что случилось?
– Ничего! – сказала она возбужденно. – Ничего! Только, ради бога, сидите здесь и никуда не ходите. Я сейчас вернусь…
Она исчезла.
Я остался один в пустом школьном дворе.
А ведь я не успел ей рассказать о главном. Я не успел ей рассказать о Бетельгейзе и о встрече с Памфилием и Костей да Винчи. Мы были трое бродяг.
Днем нас не отличишь от тысяч других людей, которые стройными рядами мчатся к месту своей службы или летят с оной к своим семи-две-надцатиэтажным хижинам. Увидев нас в потоке на эскалаторе, так и хотелось крикнуть нам:
«Эй, служивые!» И никто из прохожих не знал, что по вечерам и по ночам мы были бродягами, которые встретились у камня, стоящего на перепутье трех дорог, и разошлись в три стороны искать долю. Если еще учесть, что я подъехал к перепутью на деревянном коне, то сходство наше с витязями было почти полное.
Мы встретились однажды на переходе у метро «Площадь Революции», и каждый узнал другого потому, что у каждого в руках был номер старой «Вечерки», сложенной вчетверо, и у каждого красным карандашом была обведена одна и та же статья. Не сговариваясь, мы вылезли из метро и поднялись на крышу гостиницы «Москва». Мы уселись за столик в ресторане «Птичий полет» возле проволочной сетки, мешавшей нам разглядывать такой прекрасный вид, открывающийся нам с птичьего полета, и выпили шампанского за встречу. В старой «Вечерке» было напечатано сообщение о том, что где-то в Юго-Западной Африке отыскали скульптуру, сделанную из базальта – голова молодой женщины с широко открытыми глазами. И когда новейшими методами установили возраст скульптуры, то оказалось, что ей двенадцать тысяч лет.
Я не успел рассказать Кате, как на следующий день после встречи в университете дед позвонил мне по телефону и велел срочно приехать – дело есть. Я не приехал потому, что был занят – начиналась эра спутников, и некогда мне было праздновать международные успехи дедовых коней. А когда через несколько месяцев я вернулся с испытаний одной своей схемы, я дома под дверью нашел пакет со старой «Вечеркой» и с письмом деда, где было написано, что лицо этой скульптуры здорово похоже на лицо той женщины из дедовой сказки о простой красоте, которую он встретил в незапамятные времена ночью, в снегу, на старой Благуше.
Я немедленно поехал к деду. Полчаса звонил в его дверь, но напрасно. Потому что выглянувшие на трезвон соседи сказали мне, что дед уже месяц, как умер, и похоронен на Немецком кладбище. Могилу деда я разыскал и посадил у него в ногах бессмертники. Все.
Потом я встретился с Памфилием и Костей да Винчи. Эпоха была фантастическая, пробили первую дырку в космосе. Оказалось, что мы трое заняты одним и тем же: нам плохо жилось. Это потому, что нам не давала житья мысль насчет этой древней женщины. И поделиться об этом было не с кем, так любой сказал бы: «Нам бы ваши заботы!»
Конечно, это было похоже на заветную мальчишескую игру. Но не совсем.
У каждого из нас была своя версия, и рассказать о них было некому – сочли бы сумасшедшими. Костя да Винчи считал, что эта скульптура – обобщенный символ красоты, по капле разлитой в жизни, и тосковал из-за того, что живое подобие его невозможно ни теперь, ни тогда – двенадцать тысяч лет назад. И можно только опять и опять собирать красоту по каплям, чтобы создавать небывалое. Я считал, что это (прошу прощения) портрет женщины, прилетевшей из космоса двенадцать тысяч лет назад, и тосковал о том, что не увижу второго прилета. Почему я мог надеяться, что мне лично так повезет. А мне было о чем ее расспросить, даю вам честное слово мужчины и джентльмена. Памфилию же было хуже всех. Он считал, что это портрет женщины, умершей двенадцать тысяч лет назад. И если у меня и у Кости и оставалась биллионная доля вероятности дождаться встречи с прототипом, то у него не было никакой надежды. И даже если бы он встретил сейчас женщину, у которой повторились бы черты той древней, или дождался бы прилета из космоса, то это была бы не она, а ее далекий потомок, двойник. Памфилий же считал, что двойник в любви – это всегда самообман, это всегда Одиллия вместо Одетты, и это непременно скажется. Потому что никакой двойник не может заменить единственную возлюбленную. А он ее любил и не хотел подмены. Вот в чем штука.
Его можно было понять, Гошку Панфилова. Лицо этой женщины было похоже на лицо Аэлиты, как ее описал Алексей Толстой. И, узнав Памфилия как следует, я понял, что ему несдобровать. Я понял это особенно отчетливо, когда он меня спросил: откуда примерно могли бы прилететь пришельцы, если они прилетали двенадцать тысяч лет назад и вернутся снова, скажем, в шестидесятые годы двадцатого века, считая шесть тысяч лет пролета в один конец? И морда у него была совсем белая. Я прикинул и сказал: откуда-то из района звезды Бетельгейзе.
Катя все не возвращалась. Мне стало совсем тоскливо и тревожно. Мысль о Бетельгейзе вернула меня на землю. А на земле у меня дела были совсем плохи. В отличие от Памфилия и Кости, беспочвенных мечтателей, я человек практический. У меня сказано – сделано. Предположив, что прилет пришельцев – дело реальное, я занялся этим делом вплотную. Тем более что моя работа давала для этого все основания, и все успехи мои на этом пути только приветствовались бы. А до Бетельгейзе никому дела нет. Я занимаюсь проблемами прецизионности, есть такой термин. Прецизионность – это сверхвысокая точность. Например, электронная схема управления огромными радиотелескопами должна учитывать, кроме обычных колебаний самой установки, еще, скажем, колебания земли. Тогда ошибки наведения становятся минимальными. А они могут свести насмарку любую попытку послать сигнал в нужном направлении или получить таковой из космоса.
Короче. Восемь лет я бился над принципиально новым подходом к вопросу точности и сочинял немыслимые схемы. А так как схемы были немыслимые, то они опрокидывались от одного Митиного щелчка. Митя тоже не сидел сложа руки и совершенствовал свои приборы, которые наглядно доказывали, что мои схемы – маниловщина.
Катя все не шла, и я представил себе: вот я нахожу эту свою схему – и полная перемена всего! Что за положение получилось? Митя монтирует мою схему, бледный и не смеется. За это время мы сообразили, что надо работать вместе, мы сблизились, что-то прорвалось у него. А что ж? Я люблю, когда люди перешагивают в себе через мещанина. И даже в столовку мы ходим, взявшись за руки.
Окончили. Все провернули в невероятно короткий срок – в две недели. Работка была «та езде», как говорит Великий Электромонтер Сявый, которого, кстати, нам разыскал Костя. Будь здоров была работка! Через две недели первые пять схем стали пятью приборами. Они показывали немыслимую точность. Все было как во сне. Заводы выполнили заказы в сроки, близкие к прецизионным. Стрелки показывали такую невероятную степень точности, что все зажмуривались, когда они шли по шкале. Вся банда Степанова тире Мити работала как заводная. Установка приборов на объекте шла с такой легкостью, как будто не монтировали новые приборы, а подтягивали гирю на ходиках, или завязывали галстук, или встряхивали термометр, или смотрели по часам, который час, – ряд бытовых привычных вещей. И вот, проделав этот ряд бытовых вещей, я мчусь на свиданье. Я мчусь и бормочу:
«Случайность – это проявление и дополнение необходимости… Случайность-это проявление и дополнение необходимости». По-видимому, я только сейчас понял смысл этой формулы, после того как осознал, что только невероятное осуществимо.
Тут я остановился. Но позвольте! Если невероятное осуществимо, то, следовательно, осуществима и моя невероятная схема. А что, если отбросить все «следовательно» – всю промежуточную логику? Ведь если схема не работает, то потому, что она обросла этими «следовательно» из тысяч виденных мной схем, на которые я опираюсь, как на костыли… А что, если?…
Тут у меня заколотилось сердце. Мои карие бездонные (тьфу)… Отлетело вдруг пижонство, отлетело чудачество – защитный панцирь растерянности, так же как и доводы. Я ощущал только волнение, похожее на страх… Господи, слышал бы Митя эти термины!…
А что, если нарисовать схему такую, какая мне лично покажется красивой?!. Ведь я же доверяю своему ощущению, когда смотрю на эту незнакомую мне еще девушку, – я понимаю, что она прекрасна, мне не надо об этом никого спрашивать – и это делает ее недоступной для меня, ведь я же вижу, что лицо ее прекрасно, и мне не надо для этого никаких доводов… Ведь если бы я нарисовал ее лицо – любой бы сказал, что она прекрасна… Я просто рисовать не умею, я же пытался это сделать утром…
Я подскочил.
Перед моими глазами медленно проплыла великая схема, которую закрывало неумело нарисованное девичье лицо. И в рисунке все было ужасно, кроме выражения рта с загибающимися вверх уголками – усмешка жизни над недогадливостью людей. Две схемы, одна на другой, но в них было больше правды, чем во всех изображениях, которые я рисовал за всю свою жизнь.
Истина поправками не добывается. Истина – это скачок.
…Вот она, вероятность чуда, сделанная человеческой рукой!
Я понял. Произошло. Я опять человек. Жизнь продолжается, товарищи!
Я осторожно опустил руку в карман пиджака… Даже не руку, а кончики пальцев. И они у меня сразу заледенели. Карман был пуст. Блокнота в нем не оказалось.
Я почувствовал состояние, близкое к обмороку. Потерял. Украли! – вскрикнуло все во мне.
И тут же успокоился. Передо мной стояла Катя. Я тут же вспомнил, что блокнот с утренними записями я отдал Ржановскому, когда он меня погнал на Благушу.
– Катя, – говорю я, – идемте скорей. Я вас домой провожу.
– Подождите, – говорит Катя, и я не узнаю ее голоса, глухого, немного хриплого, взрослого голоса. – Одну секунду. Ваша фамилия Аносов? Алеша Аносов? Да, конечно, Аносов!
– Да, конечно, Аносов, – повторяю я.
– Вот, – говорит она и протягивает мне нечто, и я сразу узнаю это нечто.
Это деревянный конь.
Катя опускается на скамью, и кладет руки на колени, и сидит смирно.
– Откуда у вас эта игрушка? – говорю я.
Все начинает мчаться, как при ускоренной киносъемке.
– Катя, вы слышите!…
Видимо, рано я успокоился. Она не отвечает.
Я наклоняюсь к ней.
– Шура-певица, – говорит она, – это моя мама… Александра Николаевна.
– Что? – спрашиваю я, когда и так все ясно.
– Шура-певица – моя мама… Я родилась в тридцать девятом году, – говорит она. Тишина.
– Этого не может быть, – произношу я' наконец. – Вы внучка деда Филиппова? Правнучка…
– Да.
– Что же вы все время молчали? Вы же все знали! – почти кричу я.
– Я ничего не знала из прошлого… ничего, – говорит она с отчаянием.
Мы молча смотрим друг на друга. Я вытираю лоб. Жарко.
– Катенька, – говорю я и беру ее за руки. Она так волнуется, что не может смотреть на меня и отворачивает голову. Похоже, что сейчас решается наша судьба.
– Так не бывает, – говорит она, не глядя. Вдалеке показывается троллейбус.
– Сейчас… сейчас, – говорит Катя, вырывает руки и бежит к троллейбусу.
Троллейбус приближается. Перед самым его носом она поскользнулась.
– Осторожней! – кричу я и кидаюсь за ней вслед.
Катя выпрямилась и перебежала дорогу перед самым передним буфером.
Троллейбус проехал, шипя и позванивая. В окнах ругались кондуктор и водитель. Я перебежал улицу и увидел Катю, которая лежала на куче каких-то стружек возле молочного магазина. Я наклонился над ней.
– Вставайте, – сказал я, – вставайте. Я протянул ей руку, и она поднялась.
– Ой!… – сказала она испуганно и радостно и опустилась на стружки. – Не могу идти… Нога подвернулась. По правде. Честное слово.
Я наклонился, взял ее на руки и понес к скамье.
– Я загадала, – сказал Катя. – Если перебегу – значит у всех все сбудется. Не только у меня. Вы не думайте…
Я не думаю.
– Так не бывает, – говорю я.
– Теперь идите, – говорит она. – Мне тоже нужно идти. Нужно сделать кое-какие дела. Я теперь вас никогда не стану задерживать. Работа – первое дело. Мы ведь теперь не расстанемся, да?
Вдали показывается зеленый огонек. Я выбегаю на дорогу и останавливаю такси.
– В машину, – говорю я, отворяя дверцу. Катя садится в машину. Я вслед за ней.
– Что с нами будет? – спрашивает она.
– Не знаю, – отвечаю я и захлопываю дверцу.
Машина летит по пустой улице.
Глава 10. СХЕМА УЛЫБКИ.
Вкратце.
Я довез Катю до дому. Я помчался к Ржановскому. Я звонил в парадное, и мне отпер дверь сонный лифтер. Я звонил в квартиру Ржановского и сучил ногами от нетерпения. Никто не откликнулся, и меня выпроводил сонный лифтер. Я помчался к Косте и увидел, что в окнах горит свет. Я застал там теплую компанию, которая, как всегда, спорила черт те о чем. И в центре возвышался Митя, и я не удивился. Я перестал удивляться. Митя пришел мириться и выяснять отношения. Я пытался узнать, где Ржановский, но от меня отмахнулись. Я пошел звонить в институт, но из лаборатории никто, конечно, не отозвался, а телефона коменданта я не знал. Когда я безуспешно набирал в который раз номер лаборатории, я нарвался на встречный звонок. Але1 Але! Я понял, что это не лаборатория, а что это женский голос спрашивает Митю. Я вернулся и позвал его к телефону. Меня снедало лихорадочное оживление. Было два часа ночи. Я понял, что лучшее, что можно придумать, это заночевать у Кости. Вернулся Митя и обеспокоенно сообщил, что сейчас приедет его невеста. Он для нее дома оставил здешний телефон. Видимо, что-то случилось. Тут загорелся совершенно новый спор все о старом. Я не слушал. Я даже не думал ни о Кате, ни о схеме. Потому что я был счастлив. Потому что я знал твердо – достаточно сказать «Катя», и я сразу вспомню схему во всех деталях. Тут Митя начал орать невесть что и сказал о своей невесте что-то вроде того, что у него будет и романтика в норме, что он свою невесту нашел путем последовательного ряда опытов и размышлений и, следовательно, разумно и т. д. и что-то еще в этом роде (кажется). А я уже ничего не понимал, и только балдел, и слышал какие-то странные слова, похожие на бульканье – раз, мышл, оп. Я только понимал, что все не так.
– Я тоже нашел невесту, – сказал я.
– Да! – заорал он. – Но я нашел разумно, а ты случайно.
Случайность – проявление и дополнение необходимости, – прошептал я ехидно.
Потому, что я знал кое-что, чего он не знал. Я только не знал, что и он знал кое-что, чего я не знал.
За криками мы не расслышали звонка.
Кто– то вышел в переднюю и отворил входную дверь.
Вошла девушка.
– Вот моя невеста, – сказал Митя. Я пригляделся и узнал Катю.
…Тогда я засмеялся. Это был плохой смех. Я не мог остановиться.
Я увидел в зеркале свое лицо, и еще я увидел лица всех, когда я смеялся, и еще я увидел испуганные лица всех остальных и выбежал вон.
Оставляя за собой канонаду захлопывающихся дверей, я вызвал лифт. А сам поскакал по лестнице вниз, под гудение идущего мне навстречу лифта. Несколько пролетов я съехал на каблуках. Лифт проплыл вверх, и я, задрав голову ему вслед, догадался, что он едет погрузить меня и отвезти вниз, и не знает, меня-то там нет наверху, я уже давно мчусь вниз, съезжая, словно на коньках, на подошвах новых ботинок, которые называются древним словом индейцев и гимназистов – «мокасины».
И тут колени у меня подкосились, и последний пролет я съехал на заднице. Это было неимоверно смешно. Я и смеялся каким-то козлиным смехом и не мог остановиться. Я открыл в себе залежи юмора, просто пласты какие-то.
Я мчался по юмористическим улицам, кривобоким и клоунским улицам, заляпанным светом реклам. Очередь клоунских пингвинов на крыше большого здания вспыхивала идиотским синим светом и призывала покупать мороженое, есть мороженое, жрать мороженое, захлебываться растаявшей жижей и обсасывать размокший целлофан. А когда я увидел, что один пингвин не зажигается, не вспыхивает и в очереди пингвинов образовывается черный провал, как будто выбили зуб, я чуть не умер от хохота, однако не умер и чуть не упал, поскользнувшись на размокшем целлофане, размокшей обертке от мороженого, которую судьба кинула мне под ноги. Я устоял, выделывая антраша, и ввалился в метро, и меня пропустили, несмотря на веселье, и я поехал вниз, расставив руки и ноги, вцепившись в резиновые поручни, и навстречу мне, снизу, поднимался шутовской эскалатор метро, и ползли навстречу мне лица, лица, и каждое следующее было смешнее предыдущего – ни одного человеческого молодого лица, все старые замордованные обезьяны поднимались вверх. И все они были мне мучительно знакомы, и от хохота я не сразу вспомнил, на кого они были похожи, потом вспомнил: они были похожи на меня, это я сам ехал себе навстречу и с отвращением смотрел на себя хохочущего, потерявшего достоинство.
А потом была моя комната на улице Горького, которую нет нужды описывать потому, что она не представляет никакого интереса, и была ночь, белые бабочки метались у матового плафона под потолком. А за окном ночь и огни до горизонта, а внизу на площади, где в праздники танцуют под популярную музыку, сейчас было пусто, и машины мчались вверх по улице и вниз по улице, и справа – телеграф со светящимся земным шаром, а слева – бой часов с кремлевской башни.
А потом я иду к кровати и собираю рассыпанные фотографии с одеяла и кладу их в серый пакет, а пакет в раскрытый чемодан, рядом с целлофановым мешочком с орденами и связкою конвертов. Потом я ложусь на кровать одетый и беру газету под названием «Вечерняя Москва» и читаю, что:
«…в зоопарке на площадке молодняка подрастает новое поколение медвежат»,
«…сибирскому институту „Сибавтоматика“ требуются…»
Читаю иностранный юмор и не смеюсь.
Читаю про интересную находку – найден череп, и теперь ясно: человеку не пятьсот тысяч лет, а гораздо больше, и опять не смеюсь.
Я вижу в заголовке «Вокруг света» маленький, плохо отпечатанный, миниатюрный такой земной шарик, я чиркаю спичкой и закуриваю. Я поднимаю голову и смотрю, как у матового плафона кружатся ночные бабочки, а на потолке мечутся их огромные тени. Я включаю приемник и слышу, как по радио кто-то поет популярную песню: «Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». Потом я длинным дрожащим вздохом затягиваюсь папиросным дымом и плачу. Я оплакиваю Шурку-певицу, себя, и Катарину, и красавца мужчину, и весь наш класс, и Юру Коробова, и Борю Дудника, и Юру Егорова, и Сашу Мыльникова, и Надю Гордиенко, которая умерла от штыкового ранения в живот, и это совершенно невозможно себе представить, что нашелся на свете человек, который мог ударить ее в живот штыком. А потом я начинаю совсем доходить и гашу свет, и тогда я вижу звезды, и тогда я оплакиваю Анюту и Толича, потому что не знаю, что с ними будет, и оплакиваю Катю потому, что знаю, что с ней будет, и оплакиваю Вивьен Ли и ее партнера за то, что они не встретились и пропала любовь, одной любовью меньше на земле, и оплакиваю картину «Мост Ватерлоо» за то, что кинокартины идут несколько недель и потом уходят навсегда, и следующие поколения не знают, отчего плакали предыдущие поколения, и теряется мостик, и каждый раз надо начинать снова и искать новую тропку. Последним я оплакиваю Вильяма Сарояна, который придумал Вексли Джексона, который придумал оплакивать всех, кого он любил, а любил он всех, а я не могу любить всех, так как я не могу любить фашистов, хоть режь меня на куски, а Сароян не знает, что где-то в Москве плачет не очень молодой уже человек, который в этот момент, когда у него лопнула, словно шарик голубой, придуманная за один день любовь, вспомнил хорошего человечного писателя, когда отбирал себе книжки в дальнюю дорогу, который почему-то живет черт его знает как далеко, хотя все хорошие люди должны жить под боком, иначе разрывается сердце и чтобы можно было сказать: «Хэлло, Вильям, я не знаю английского, но моя приятельница Катя знает английский, а мой сослуживец Газиев знает армянский, и они переведут все, что хочешь сказать, а остальное я пойму по глазам, потому что мне сорок лет, и уже изобрели телепатию, и Москва – это не название гостиницы для туристов, а мой родной дом, и у себя дома я все понимаю, кроме себя • самого. И вот теперь я плачу от своей страшной вины перед всеми, кого я оплакиваю, оттого, что не успел сделать ничего фундаментального, что бы помогло понять человеку, на что он способен, если он очень постарается думать о других людях с добрым расположением».
Я перестал плакать, когда заметил, что мне понравилось это дело. Вытер сопли и вышел на улицу. Я чувствовал себя разгромленным полководцем. Мне надо было собрать свои разбитые отряды и отвести их на теплые квартиры и зимовать с ними до самой смерти. Просто закончилась моя невероятная любовь, которая продолжалась несколько часов. Если не считать девочки Катарины, о которой я уже не знаю теперь, была она или нет, или это сон страшный, который приснился мне в детстве и который я помню всю мою жизнь, то в эти несколько часов началась и закончилась моя первая и последняя настоящая любовь, которая толкнула меня на открытие моей дурацкой невероятной схемы, позволяющей общаться с другими галактиками, но не помогающей при разговоре с соседом. Мне не повезло. Мне совсем страшно не повезло, товарищи. Попробуй разобраться, кто в этом виноват. Я сам прежде всего.
Я посидел на скамеечке и пошел себе помаленьку. Я шел пешком, чтобы убить время. Я рассчитывал прийти, когда начнут открывать двери. Я все начисто забыл. Сказалась перегрузка этих суток. Прохлестать в памяти всю свою жизнь, прийти к открытию и рухнуть – это не шутка. Я шел просто так, на всякий случай. Смешно было надеяться на повторение такого подъема. Судьба прихлопнула меня, как муху. Ни к черту не годилась такая судьба. Ветер был довольно сильный. От ветра качались фонари на плохо натянутых проводах. Улица была похожа на плохо настроенную балалайку, и на стенах спящих домов взлетали и опускались арки теней. Я шел сквозь строй заночевавших у парка темных троллейбусов, освещаемых взлетающими фонарями. Троллейбусы так и заснули на улице, закинув за голову тощие руки. Все спало от усталости, кроме меня и фонарей. Даже ворота троллейбусного парка заснули, и в них торчал въехавший наполовину троллейбус. Ворота так и заснули с куском во рту.
Когда я подходил к институту, уже светало. Среди огородов возвышался, словно огромный ящик, наш институт, мерцающий стеклами. Да он и есть ящик. Почтовый ящик номер такой-то. Ящик, набитый всякой премудростью до такой степени, что некоторые называют его электронным мозгом. Электронный мозг так же похож на настоящий, как сквозняк из подворотни на ветер в поле. Ветер в поле был ровный и сильный. Туго натянутые провода на столбах гудели, и с них косо падали капли. Мокрые галки сидели на изоляторах. Я смотрел на провода и мурлыкал песню Памфилия:
Тихо капает вода:
Кап– кап. Намокают провода:
Кап– кап.
За окном моим беда,
Завывают провода.
За окном моим беда.
Кап– кап.
Капли бьются о стекло:
Кап– кап.
Все стекло заволокло:
Кап– кап.
Тихо, тихо утекло.
Счастья моего тепло.
Тихо, тихо утекло.
Кап– кап.
День проходит без следа.
Кап– кап.
Ночь проходит – не беда.
Кап– кап.
Между пальцами года
Просочились – вот беда.
Между пальцами года -
Кап– кап.
Все окна моего благословенного ящика были слепыми, кроме единственного, в котором горел свет. Это было окно моей лаборантки. Какую можно вывести мораль из того, что со мной случилось? А ведь мораль – это нечто универсальное. Я оказался невероятным дураком.
Я это понял еще раз, когда вошел в лабораторию. Ржановский и Великий Электромонтер Сявый копошились в развороченном стенде. Они не обратили на меня никакого внимания. На подоконнике я увидел свой блокнот. Слава богу, хоть не потерялся.
Я взял его и побоялся открыть.
– Владимир Дмитриевич, я, может быть, нашел невероятное решение, – сказал я бесцветным голосом.
– Не мешай, – сказал Ржановский, не оборачиваясь.
За окном в туманной дымке, словно бомбардировщики, летали галки.
Мне рассказывали, что когда бомбардировщик идет на взлет, он беззащитен. Маневрировать на малой скорости невозможно – врежешься в землю. И будто бы даже статистика показывает, что наибольшее количество самолетов, сбитых противником, приходится на этот момент полета без маневров.
Судьба со мной поступила гнусно. Она ударила по душе, поднявшейся в свой первый полет, и в тот момент, когда она шла без маневров.
Оправдания судьбе не было. Такие судьбы надо списывать в тираж.
Теперь я окончательно понял, что надо уйти.
– Ну… начали, – испуганно сказал Сявый. – А, Владимир Дмитриевич?
– Давай, давай, – ответил Ржановский. Все было как вчера утром. Так же, словно лифт, загудел трансформатор. Так же начали тлеть контрольные лампы, и заметался зеленый шнур в трехшлейфовом осциллографе. Все было так же. Только стрелка на выходе, большая фосфоресцирующая стрелка спокойно, без дрожи прошла заветную черту и остановилась только тогда, когда уперлась в самый конец шкалы, показывая немыслимую, невероятную точность.
– Опоздал… – сипло сказал я. – Как всегда. Поздравляю вас, товарищи. Меня всего трясло.
– Дура! – закричал Ржановский. – Дура мамина? Это же твоя схема! Твоя! Где блокнот?!
– Вот… – сказал я, протягивая блокнот. Ржановский взял блокнот и открыл.
– Неплохо нарисовано, правда? – спросил Ржановский у Сявого.
И тот кивнул. Поверх радиосхемы виднелась усмешка Кати.
– Что нарисовано? – тупо спросил я. По морде у Сявого текли слезы.
– Случайность – это проявление и дополнение необходимости, – бормотал я, когда Ржановский вез меня по Благуше.
Человек взрослеет по-настоящему, когда его первая самостоятельная работа оказывается осуществленной другими людьми. Я ехал в большой машине Ржановского, и было спокойное утро, обещавшее день трезвых забот.
«Сказка есть, дьявол вас забери! – пело у меня в душе. – Есть сказка, будьте вы прокляты, хапуги, карьеристы, энтузиасты на секунду! Есть вспышки красоты и жизни, которые ломают ребра вашим скороспелым выводам, за которыми прячется зависть от трусости и равнодушие от эгоизма! Есть светлый мир с его причинами и следствиями, и не верю в угрюмую статистику, которая прогрессивна для частных технических задач и негодна как мировоззрение. Потому что свобода – это осознанная необходимость, а какая свобода в мире тупой вероятности? Человек – это не осел между стогами сена. Он, томимый ощущением закона, высшего, чем простые „да“ и „нет“, мучаясь, ошибаясь, вглядываясь в мир и прислушиваясь к своим тяготениям, свободно проявляет свою волю и сам отыскивает свою цель, и цель его не охапка сена, она тоже уточняется по мере продвижения вперед».
Когда я вылез у ворот своего дома и машина Ржановского укатила по переулку, я вошел во двор и сразу увидел Катю.
Она сидела, строго выпрямившись, и глядела на меня, и ветер трепал полы ее пальтишка, из которого она выросла.
– Поцелуй меня, – сказала она.
Я поцеловал ее, и мы столкнулись носами.
– Что ты бормочешь? – спросила она строго.
– Ничего.
– Мне показалось что-то вроде «случайности».
– Это показалось.
Она взяла меня за рукав и повела на улицу.
Шли люди.
Я почему– то вспомнил песню Памфилия, где ненаучно утверждалось, что спутник – это сердце поэта, залетающее чересчур далеко, но всегда возвращающееся:
Пусть звездные вопли стихают вдали,
Друзья, наплевать нам на это!
Летит вкруг Земли в метеорной пыли
Веселое сердце поэта.
Друзья мои, пейте земное вино!
Не плачьте, друзья, не скорбите.
Я к вам постучусь в ночное окно,
К земной возвращаясь орбите.
Шли люди. Привычные спутники друг друга. И никто уже не удивлялся, что вообще существуют спутники. Еще бы! Шла последняя треть двадцатого века.
– Поцелуй меня.
– При всех? – спросил я с интересом.
– Ага.
Мы опять столкнулись носами, но она удобно повернула голову, приоткрыла рот, и тут я поцеловал ее по-настоящему. Теория невероятности подтверждалась во всех деталях. Приближался конец второго тысячелетия нашей эры. Никто из прохожих, правда, ничего не знал о Бетельгейзе, но уже пора было посылать человека на Луну, посмотреть там, как и что. И проверить, нет ли какой закономерной связи между влюбленными и Луной, между совестью и выдержкой, между революционерами и детьми, между физиками и лириками, между личным гороскопом и коллективными усилиями благородных и чистых помыслами.
Так я научно нашел свою невесту, а Митя научно потерял свою. А ведь он собирался жениться именно на Кате.
Вот ведь какая штука!











