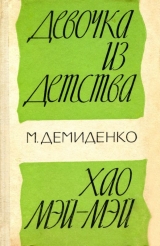
Текст книги "Девочка из детства. Хао Мэй-Мэй"
Автор книги: Михаил Демиденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 13 страниц)
10
РОБЕРТ БАУЭР ИЗ ШТАТА ПЕНСИЛЬВАНИЯ:
– Вы знаете, что многие американцы не верят в такие зверства!
– Мне трудно представить, что люди не знают этого. Ведь наши солдаты возвращаются в Штаты. Я убежден, что 75 процентов из них могли бы рассказать о трагичных вещах. Они не хотят об этом говорить… Один из солдат, замешанных в деле Сонгми, не рассказывал о нем, думая, что все и без того об этом знают, все в курсе происшедшего… Я тоже думал, что об этом знает каждый.
Один из кораблей Германской Демократической Республики назван «Фриц Беен». Как ни странно, я вспомнил об этом, сидя в зале старого аэропорта в Минеральных Водах. Фриц Беен был ефрейтором морского батальона, посланного воевать под Ленинград. Ефрейтор и его двое товарищей были расстреляны под Таллином 6 января 1944 года по приказу адмирала Деница, наследника Гитлера, ныне почетного пенсионера ФРГ.
Приказ генерала Деница многословен:
«За измену райху, за коммунистическую пропаганду, за создание подпольной коммунистической группы, за разложение армии, за связь с партизанами, за измену фюреру, за передачу секретных данных русскому командованию…»
Перед залпом взвода Фриц Беен крикнул:
– Да здравствует Германия! Да здравствует коммунизм!
Не могли фашисты уничтожить, запугать всех в Германии. И чем больше проходит времени, тем больше мы узнаем фактов беспримерного мужества немецких товарищей. Трудно представить, какой верой в правоту нужно обладать, чтобы не стать винтиком четко налаженной гитлеровской машины и вступить в единоборство с ней и победить ее. Фриц Беен пронес через казармы, муштру любовь к человеку, и ничто не сломило его – ни угар националистической пропаганды, ни слежки, ни доносы, ни аресты. К сожалению, точно не известно, как он искал и нашел связи с русским Сопротивлением. Фриц Беен служил в морском батальоне, на самом краю Ленинградской области в Усть-Луге. Любой русский мог заподозрить провокацию, или насторожиться, или просто испугаться. Вера в людей была залогом откровения, которая помогла немецкому ефрейтору найти дорогу к русским партизанам.
Беен организовал группу в восемь человек, и через Финский залив в осажденный Ленинград отправлялись медикаменты, которые тогда ценились на вес золота, но более ценными были разведывательные сведения, которые русское командование получало регулярно. Трудно подсчитать, скольким ленинградцам спасли жизнь немецкие антифашисты. И за это троих расстреляли, остальных, за отсутствием улик, угнали в штрафные батальоны. Фашисты хотели убить на века жалость к людям, вот почему те, кто хотел остаться гуманистом, непременно вступали в смертельную схватку с фашизмом.
На кого же опирались фашисты? Кого они хотели сделать кирпичиками фундамента тысячелетнего райха? И что нес фашизм человеку?
За деревянным барьером шестеро. Дает показания Божко. К процессу он готовился двадцать три года. Он понимал, что рано или поздно придется отвечать. Докопаются, найдут, от народа немыслимо спрятаться. Он, казалось, предусмотрел все, продумал каждое слово, каждый жест, подготовил алиби. Держался уверенно, внешний вид был подтянутым – сидел в опрятном костюме, чисто выбритый, подчеркивая, что не имеет ничего общего с полицаями, что был он просто писарем комендатуры. Я нашел в деле его стихи, которые он пописывал. О темной ночи, роковой любви… Характеристика с места последней работы. На работе Божко вел себя дисциплинированно, был членом месткома, редактором стенной газеты. И семьей обзавелся… с дальним прицелом. Его жена рассказывала:
– Одиннадцать лет прожила. Котенка выкинут – он принесет в дом. Я не верила, что он убийца. Не могла поверить. Я думала, что навет или недоразумение… Люди, очевидцы, рассказали здесь, на суде… А я ему верила. Все одиннадцать лет.
За четыре дня процесса волосы ее стали седыми.
– Как я мог убивать коммунистов или патриотов, – говорил Божко из-за барьера, – или людей еврейской национальности? Ведь жена-то у меня – еврейка.
И фраза открыла то, что он хотел спрятать. И после этой фразы женщина поняла, что ее обманывали одиннадцать лет.
Как рос Жора Божко?
Отец Божко был из кулаков. В конце двадцатых годов приехал в город. Семья – два сына, жены не было. Жорка рос скрытным. Те, кто знал его до оккупации, рассказывали, что он умел подкусить, ударить, вроде бы в шутку, по самому больному. С радостью, с насмешкой рассказывал о чужом горе, но был весьма чувствителен к собственным неудачам. Рос самолюбивым. Умел спровоцировать драку мальчишек, а сам оставался в стороне. Потом высмеивал ребят, которых втравил в драку. В школе громко говорил о воскресниках, но когда товарищи выходили на воскресник, у него оказывались уважительные причины, по которым Жорка не приходил на разгрузку дров.
Мелочи? Может быть.
Но мне стало понятно, почему он точно оправдывался, когда пошел работать в комендатуру. И понятно, почему, предав советского парашютиста Чирткова, не вошел во двор с гестаповцами, спрятался за плетнем.
Свидетельница Мария Ильинична Слепченко рассказывала:
– Восемь лет жил Жорка с нами дверь в дверь. Мой сын учился с ним в одном классе, потом Жорка бросил школу, сын школу окончил, поступил в институт. 7 января взяли моего мальчика. Еще несколько дней, и наши бы пришли. Я бегала в комендатуру, принесла, что у меня осталось ценного, купила минуту свидания с сыном. Он замученный. Ногу волочил… И успел шепнуть, что выдал его Божко, – сын был секретарем комсомольской организации в школе.
И сразу раздается голос:
– Поясню – свидетельница показывает неправильно.
– Как же неправильно? – теряется женщина.
Удивительно, когда люди сталкиваются с патологическими явлениями, они мыслят, если можно так выразиться, мирными категориями: удивляются, если бывший полицай отрицает участие в истязании арестованных, пытаются стыдить, взывают к совести. Люди остаются людьми, и, может, поэтому они не воспринимают бездны падения фашистов.
– Ты бесстыжий, – продолжает женщина, глотая слезы. – Ты же в дверь вошел и сказал: «Кончилось ваше время!». За что его мучили? Потом, когда пришли наши, я нашла сына убитым… Я теплой водой отогревала ему пяточки, вставляла пяточки на место, чтобы похоронить… Сколько он боли перенес!
Ей становится плохо: она, наверное, тысячи раз переживает ту боль, которую перенес ее сын двадцать три года назад. Мать! Муки сына по сей день были ее муками.
– Она меня с кем-то путает, – говорит спокойно Божко. – В ноябре меня не было в Минеральных Водах, – продолжает Божко. – Я был выслан в лагерь для перемещенных лиц. Немцы мне не доверяли. За патриотические высказывания меня судили и увезли в Освенцим. Вот номер.
Он быстро засучивает рукав рубашки и показывает выколотый тушью на руке номер – 124678.
В зале тишина… Слово «Освенцим» завораживает.
– Кто может подтвердить, что вы были в Освенциме?
– Кто! – Божко продолжает стоять с засученным рукавом, держа руку на отлете, точно у него кровоточит рана.
– Кого бы вы хотели пригласить как свидетеля?
Божко усмехается: неужели не ясно, что он прошел лагерь уничтожения, откуда люди не возвращаются.
– В лагере было подполье, – продолжает обвинитель, и чувствуется, что он пытается помочь Божко оправдаться. – Остались в живых участники Сопротивления. Вы же сами утверждали, что про ваши подвиги написал в книге писатель Лебедев, бывший узник Освенцима.
– Да, это так, – кивает Божко. – Я спасал людей, носил картошку в бараки, на годовщину Октябрьской революции украл у эсэсовцев кролика. Мне обязаны жизнью Иванов, Герой Советского Союза Ситнов… Он показал золотую звездочку, которую чудом сумел пронести в лагерь.
– А писатель Лебедев смог бы подтвердить то, что вы говорите?
– Конечно. Но, к сожалению, его уже нет в живых. Он умер. Освенцим был не санаторием.
– Ладно, – отвечают ему, – постараемся навести справки, постараемся найти, может быть он жив.
И писателя Лебедева нашли. Он был в лагере смерти с декабря 1942 года по август 1944 года, свыше двадцати месяцев. И чудом остался жив, хотя это чудо совершили не святые, о которых рассказывал когда-то Петр Михайлович Меньшиков.
Через что прошли Лебедев и его товарищи, пожалуй, не смогут рассказать даже они сами. Они остались живы лишь потому, что каждый день готовы были отдать жизнь ради спасения других. И умирали тысячами каждый день, и поэтому немногие из них остались живыми.
– Узнаете ли вы кого-нибудь из этих шестерых, может кто-нибудь был с вами в лагере? – спрашивают Лебедева.
Свидетель подходит к деревянному барьеру, пристально вглядывается, затем говорит глухо:
– Нет, никого не знаю.
– Он меня не узнал, – доносится голос Божко. – Я – Витька Москвич.
– Видно, подсудимый читал мою книжку «Солдаты малой войны», – говорит писатель. – В ней я писал о Витьке по кличке Москвич. Их было трое – инженер Смирнов, летчик Иванов и Косоротов. Четвертого в нашем лагере не было. Всех Витек я знаю, и не я один. А кто держал с вами связь?
– Я действовал на собственный риск, – заявляет Божко и косится на бывшего начальника полиции.
– Разрешите задать несколько вопросов? – спрашивает Лебедев.
Происходит короткий разговор, малопонятный для посторонних. Где ривер? Направо, налево? Где штаб? Где вышки? Где публичный дом? Карантин? Куда нашивали винкель? Кто был в каком бараке капо? Кто блоковым?
Божко путается, переспрашивает.
– Божко был в Освенциме, – размышляет свидетель. – Но он странно знает лагерь. Карантин знает, внешнюю охрану, а внутреннее расположение, где жили мы, смертники, что-то путает. Очевидно, внутри лагеря он не был.
– Я забыл! – восклицает Божко. – Давно это было…
– Это не забывают, – отвечает свидетель. – Невозможно забыть, по сей день снится. В лагере был порядок– эшелоны, которые приходили ночью, шли прямо в газовые камеры. Те, что приходили днем, отправлялись на селекцию. Отбирали слабых, стариков, детей… Их вели в газовые камеры, остальных на обработку. В начале эффект-камера. Ставили к стенам и избивали железными ломами. Били два часа… Кто упал – смерть. Раздевались прямо на снегу. Свое прячешь в бумажный мешочек, входишь в блок. Начинается санитарная обработка. Стригли, остальную растительность палили паяльной лампой. Потом ставят номер, фотографируют. Без номера не выйдешь из директ-камеры. Гонят в ледяной душ. Тело кровоточит… Разве забудешь? Кого вы знали из подполья?
Божко называет несколько фамилий.
– Лично знали?
– Да!
Лебедев достает из портфеля журнал, открывает страницу, закрывает ладонью надписи под фотографиями, показывает Божко.
– Никого не знаю…
– А из этих?
– Этого знаю! Точно! Знаю! Сейчас вспомню…
Он вспоминает и бледнеет.
– Начальник политотдела Освенцима, – говорит Лебедев.
– Но я был в Освенциме. – Божко глотает слюну. – Я работал в пивнице. Я носил красный винкель. Был в самом центральном. Станлагере. Был на карантине, а до этого работал в пивнице, перебирал картофель. Я носил товарищам картофель, спасал от голодной смерти.
– Выносили картофель? – не выдерживает свидетель.
– Да, один…
– Это верная смерть.
– У нас был форарбайтер, он уходил… Можно было приготовить картошку. Я выносил урюк, когда шли на обед. Я даже украл у эсэсовцев кролика и принес в блок…
– Что он говорит! – Лебедев закрывает ладонями лицо. – За три картофелины офицер вставлял в рот задержанному пистолет и стрелял. Если блоковый обнаруживал в колодках стельку из соломы, насмерть забивал заключенного. Каждая картофелина была событием. Мы, например, проверяли человека, можно его привлечь в Сопротивление или нет, – поручали донести миску баланды до больного товарища. Если доносил, верили, съел – смерть ему, чтобы не выдал других. Иначе не могли, мы были поставлены в чудовищные условия. А он выносил урюк!! Целого кролика! Почему вы работали в пивнице?
– Я болел, – отвечает Божко. – Мне сделали тайную операцию.
– Сказка, – говорит Лебедев устало. – Каждый вечер в больнице проводилась селекция. Знаете, что такое селекция? А ему сделали операцию… Из больницы никто не уходил, в нее боялись попасть, потому что это верная смерть. Попасть туда значило попасть в газовую камеру.
– А в каком году начали колоть номера? – вдруг переходит в атаку Божко. – Разрешите спросить его?
– Разрешаем…
– С сорок второго года, – отвечает Лебедев, – после первого побега русских. Двадцать человек убежали. И комендант лагеря Гесс приказал колоть номера. Вначале одним русским, потом всем.
– Правильно! Вот мой номер, – Божко опять задирает рукав и показывает номер.
– Разрешите посмотреть?
– Посмотрите, – разрешает председатель суда.
– Странный номер. Где его вам накололи?
– В больнице.
– В больнице? В больнице никогда не кололи. И не могли колоть. Когда вы прибыли в лагерь?
– Я попал в Освенцим в начале мая сорок третьего года, потом меня за побег перевели в Бун, потом отправили эшелоном в Матхаузен.
– Вы говорите чудовищную ложь!
– Я говорю правду!
– Когда вам поставили номер?
– …В июле…
– В международной организации узников Освенцима существует точная картотека номеров, – говорит Лебедев. – Гесс приказал делать наколки. За уклонение – немедленная смерть. Акции начались в мае. У вас номер 124 тысячи… Этот номер шел раньше апреля, не говоря уж о мае. И вы были без номера? Да комендант лагеря Гесс возмутился бы, услышав такое. Как вас кололи?
– Колол поляк… Взял такой треугольник, намазал тушью, наколол, потом доколол иголкой…
– Не видели вы, как колют. Наколки делались специальным набором. Секунды. Эту наколку вам сделали не в Освенциме. Вот они какие были на самом деле.
Свидетель снимает пиджак, тоже закатывает рукав рубашки, показывает свой номер.
– Возьмите экспертизу, – требует обвинитель. – У одного и другого. Сколько потребуется времени?
– Завтра будет готова.
– Хорошо, подождем до завтра.
Через сутки читался акт экспертизы:
«Акт экспертизы № 7 от 8 февраля 1965 года. Эксперт– Попов. Акт на результат экспертизы наколок:
у Божко —124 678.
У Лебедева – 88 349.
Произведенным исследованием установлено – у Божко номер шестизначный на левой руке 50 мм от локтевого сустава 40х60 мм, ширина 4 мм (дальше шло детальное описание каждой цифры); установлено, что все цифры у Божко находятся на разных интервалах, и не все на одном уровне, а также различна их ширина (дальше опять идет тщательное описание каждой цифры). Номерные знаки разной величины, разной плотности и густоты красок (описание всех цифр).
Вывод: у Божко номер нанесен кустарным способом. У Лебедева – равномерная густая окраска, идентичность размеров, высоты, интервалов. (Идет тщательное описание каждой цифры.)
Вывод: у Лебедева номер нанесен механическим способом.»
Вопрос: сколько времени требуется, чтобы нанести все цифры на руку Божко?
Ответ: не менее 40–50 минут.
Вопрос: неужели в Освенциме тратили на каждую наколку 40–50 минут?
(Реплика бывшего начальника полиции Минеральных Вод Завадского:
– Ну и ловкач! Какую легенду сочинил!)
Ответ:
– На наколку тратили секунды. За час обрабатывали тысячи людей.
Свидетель задумался, потом начал вспоминать.
– К нам в лагерь приходили эшелоны с предателями. Фашисты выжали из них все, больше они им не требовались. Полицаев отправляли прямо в газовые камеры, даже если эшелон приходил днем. Эта судьба ждала их всех. Да, кстати, один из старших офицеров был переведен в Освенцим отсюда, с Северного Кавказа. Говорят, он привез с собой несколько особенно проверенных провокаторов. Провокаторы выискивали в карантине комиссаров, командиров, выдавали побеги. Во внутреннем лагере работали провокаторы из заключенных…
11
ЧАК ОУЭН ИЗ ШТАТА НЕБРАСКА:
– Чему вас учили?
– Как мучить пленных.
– Например?
– Например, как с пленного снимать обувь и бить его по пяткам. Но но сравнению с прочими методами этот просто гуманен.
– Каким методам пыток вы обучались еще! Приведите конкретные примеры.
– Нам говорили, что мы можем использовать электрические приборы. Мы должны были, например, подключать электроды к половым органам пленных.
– Каким образом демонстрировалась вам техника пыток!
– Нам показывали рисунки, на которых было точно воспроизведено, что нужно делать…
– Офицер рисовал схемы пыток на доске!
– Нет, рисунки были отпечатаны типографским способом в виде таблиц.
– Чему вас обучали еще!
– Как вырывать у человека ногти.
– Какой инструмент рекомендовался для этой цели!
– Плоскогубцы, которыми пользуются обычно радиотехники.
– Кто учил вас этому!
– Унтер-офицер.
– Какие еще средства применялись для пыток!
– Бамбуковые палки. Существует целый ряд приемов, как следует ими пользоваться.
– Достаточно будет одного примера.
– Их забивают в уши.
– Вам показывали все эти приемы на пленных!
– Да. Однажды они привели парня и били его по пяткам, потом ему приказали лечь животом на землю и колотили по спине прикладом…
– Вы получали какие-нибудь особые указания на тот счет, как нужно пытать женщин!
– Да.
– Какие именно!
– Все они были садистскими. Мне не хотелось бы говорить об этом. Что даст, если я расскажу о них! Я все время стараюсь не вспоминать о том, как пытали женщин, пытаюсь забыть это.
– Я спрашиваю потому, что намерен получить об этом по возможности исчерпывающие информации. Вы слышали, как сказал президент Никсон, что Сонгми – это единственный случай, а американские солдаты великодушны и человеколюбивы. Если сейчас американская морская пехота осваивает пытки для вьетнамцев, разве об этом нужно молчать! Как вы считаете!
– Да, конечно, нас обучают пыткам, но наши парни не хотят ничего знать и не задумываются над этим. Если есть хотя бы незначительная возможность, что мои показания принесут какую-нибудь пользу, я буду рассказывать.
– Как рекомендовали вам пытать пленных женщин!
– Нам говорили, что мы можем насиловать пленных девушек сколько угодно.
– Что еще!
– Нам показывали, как надо вскрывать фосфорные бомбы и затем наносить фосфор на особо чувствительные части тела. Это вызывает ожоги и сильные боли.
– Какие участки тела рекомендуются в первую очередь!
– Глаза, половые органы.
– Вас обучали пыткам с использованием вертолетов!
– Да… Они долго потешались, рассказывая, как во Вьетнаме одного пленного привязали за руки и ноги к двум разным вертолетам. Машины взлетели, и пленного разорвало пополам.
– Кто рассказывал вам об этом!
– Один из моих педагогов. Унтер-офицер.
– Он видел это собственными глазами!
– Он говорил, что принимал в этом участие.
– Вы много знаете о пытках с использованием вертолетов!
– Нас наставляли опытные специалисты. Мы усвоили довольно много разных способов пыток с вертолетами.
Мы проснулись с Арой в сарае. Спали на старом одеяле и ватнике. Спать на шелухе утомительно – она принимает форму тела и как бы застывает, поэтому когда ты переворачиваешься на другой бок, приходится долго ворочаться, пока образуются новые вмятины и выступы.
Первое, о чем я подумал, когда проснулся: «Что сегодня буду есть?» Это была аксиома о двух параллельных, из которой вырастало сложное здание моей Эвклидовой геометрии – борьбы за жизнь при оккупантах. К сожалению, мои параллельные пересекались где-то в пространстве – я ничего не мог придумать, разве только опять наломать дощечек и притаиться, как кот у мышиной норы, возле таганка, на котором тетя Луша варит бурду-похлебку. Ара соображал объемнее.
– Пойдем на Машук, – сказал он. – За церковь. Нарубим дровишек несколько вязанок, перетащим на кладбище, спрячем у могилы, в логове, а потом ты понесешь их на базар, забьешь. Я на базар не пойду. Утихнет с «дядей», тогда выползу. За дрова цену дадут.
Мы раздобыли где-то топоры, веревки и пошли на кладбище. Выскользнули из города незамеченными. Пошли по склону горы, метров на пятьдесят выше дороги. Здесь бесчисленными поколениями курортников была выбита тропка. Мы любовались лесом. Солнце только поднималось, пряталось за скалы, точно играло в прятки, и нам вместо одного восхода дарило сколько душе угодно. Мы обогнули Машук, склон пошел более отлогим, а лес более густым и цепким. Здесь хозяйничал орешник, а под ветками смеялся рубинами-сережками барбарис, насупился терновник и подмигивала дикая алыча. Северный склон Машука не пропах пряным запахом кипарисов, здесь лес напоминал среднюю полосу России. Отсюда дрова были самые хорошие.
Мы нашли сухую ольху, срубили, потом искромсали, как селедку. Получилось три вязанки.
– Одну оставим, – командовал Ара. – Две снесем, спрячем, вернемся – сушника наломаем. Разов пять сходим– гроши будут. Дня на три грошей хватит. И в «Глорию» сходим, там идет фильм «Ева».
– А куда Коротких будут выселять? – спросил я.
– Упекут куда-нибудь… Вообще-то, я бы не поехал.
– Я тоже…
– Замучают по дороге.
– И тут замучают.
– Чего они за дом держатся? Уходить надо. Это тетя Соня все. Она честная, хочет все по правде. Двенадцатого августа была регистрация в комендатуре. Она утром уже сходила, как на избирательный участок.
– Не пошла бы – ее Болонка выдала бы.
– Я не про то… Уходить надо было или у знакомых спрятаться.
– А документы? Где их возьмешь? И на что жить?
На работу устраиваться без документов – арестуют.
Куда им деваться? Эвакуироваться с нашими не смогли.
– Кто захотел, тот ушел…
– А чего ты остался?
– Куда с бабкой, да и мать болеет… Да и всем не убежать. Земля-то круглая – бежишь, бежишь – опять на старом месте.
Он не докончил фразы, мы бросили вязанки и спрятались за камни.
По шоссе ехала крытая грузовая машина. Мы затаились. У заднего борта сидели солдаты с карабинами. Машина прогудела, и когда она скрылась за поворотом, мы схватили вязанки и перебежали дорогу.
– Стой! – вдруг остановился Ара. – Куда она пошла? Слушай!
Звук мотора не удалялся. Он пошел вправо, к месту дуэли Лермонтова и Мартынова. На месте дуэли стоял обелиск. Если по дороге, то от города километра четыре до обелиска, если по тропке – то с полтора километра. Тропку-то и выбили курортники – каждый из них считал долгом побывать на месте смерти поэта.
– Зачем они туда поехали? – размышлял Ара. – Может, памятник хотят украсть? Очко, нас не заметили. Сразу в партизаны записали бы. Пошли.
Около кладбищенской ограды мы чуть не нарвались на полицаев. Они полулежали в тени забора.
– Не завидуй! – доносился пьяный голос. – На самогонку я и без них достану.
– А, не один черт! – хрипел второй полицай. – Подумаешь, день-два страшно, конечно, зато потом на всю жизнь обеспечен.
– Слышь, паек-то увеличат? Ведь стараешься, жизни не жалеешь!.. – рьяно разглагольствовал первый. – Неужели не могут сливочного масла полкила дать? У меня ж дитя.
– Я те что толкую? Два дня поработал на рву, золота принесешь на всю жизнь. Масло покупай – не хочу, – бубнил второй.
– Может, поросенка зарезать? – раздумывал первый.
– Подержи до холодов… Будут и у нас консервировать– не теряйся, тогда своего не упускай.
Мы перелезли через ограду, спрятали дрова и опять заторопились в лес. Шоссе перебежали без приключений.
И вдруг снизу донеслось пение. Нестройное, слов не разобрать, но мелодия была знакомая – пели «Интернационал». Мы слушали и не верили – не может быть такого! Запел бы кто-то на улице – убили бы на месте.
Мы переглянулись… И, как зачарованные, начали спускаться с тропки. Пение становилось громче. И мы уже различали слова:
«Это есть наш последний…»
Мы катились вниз, прыгали от дерева к дереву, и камни катились впереди, выдавая нас, а мы не думали, что камни выдают, что это опасно. Мы спешили, как ночные бабочки на свет. Ударил залп и подкосил песню. И мы тоже упали… И еще несколько сантиметров ползли вниз по прошлогодней листве, пока не уперлись лбами в кривые стволы деревьев.
А камни бежали вниз, и каждый камень сталкивал еще несколько камней!
– Бежим! – крикнул Ара. Развернувшись ужом, он карабкался вверх от камня к камню, от дерева к дереву. Когда мы вползли на тропу, внизу застрекотали автоматы и пули завизжали, отскакивая от горы, – стреляли наобум Лазаря, но по нашему следу.
Мы бежали по тропе.
Внизу загудел мотор грузовика.
– Обойдут! – крикнул Ара.
– Надо бежать в глубь леса, – сказал я.
– Они услышат, быстрее! Выедут на дорогу и отсекут. Они свидетелей не любят.
Мы выскочили на шоссе, машина выехала из-за поворота. Мы метнулись к ограде, перескочили ее. Сзади раздалось несколько выстрелов – это полицаи. Мы на четвереньках поползли по единственному, чуть заметному проходу, под старую грушу. Распластались на земле и дышали как загнанные овцы.
– Гранату бы, – сказал я. – Была бы граната, мы бы катанули ее с горы.
Но гранаты у нас не было. Оружие у нас появилось позднее, в конце октября.
5 сентября мы пошли на базар, несколько ниже, ближе к центру от толкучки. Две вязанки дров не спасли от финансового краха. Аре тоже позарез требовались деньги– дома лежали больная мать и бабушка. Арест «дяди» был очень некстати.
– Хоть что-нибудь про запас бы имел! – злился я на друга. – Какой же ты коммерсант! Голодранец!
– Откуда я знал, что его схватят, – оправдывался Ара. – И зря думаешь, что он мне проценты от выручки давал. Он своего не отдаст, копейки мне перепадали. За жадность его, наверное, и сгребли. Не поделился с каким-нибудь гестаповцем.
– А чего панику поднимал, что и тебя сгребут?
– Во дает! – Ара остановился. – Кто знает, кого они завтра или через час схватят? Не приходили, не спрашивали, значит, им пока не до меня. На всякий случай прятался. Панику… Сам ты паника. Говорят, что Женьку подстрелили, она без разрешения ушла из коммунистического гетто. Может, врут…
Чего-чего, а слухов было множество. Поговаривали, что сам Гитлер собирается или уже приехал в Пятигорск. Рассказывали о партизанах за Кисловодском, вроде там целая армия прячется, никто толком ничего не знал, поэтому и мы радовались всякому слуху или пугались: «Сталинград взяли, Берлин разбомбили… Будут все население выселять из Пятигорска, чтоб немцев поселить. А говорят, Геббельса кондрашка хватила…»
Подстрелить нашу Женьку, дочку полкового комиссара, вполне могли. Я ее так и не видел с весны. Не представлял, как она выглядит остриженная наголо. А если подстрелили… Чего же, дурочка, под пулю лезла, что не научилась прятаться, разве с нами не лазила по горам, по заборам? Вчера нас тоже могли полицаи снять, как воробышков. Надо соображать, в крайнем случае камень бросить в другую сторону, и пока разберутся – ты прорвался, и концы в воду. Все-таки странно человек устроен. Прошлой осенью я залез в чужой сад яблок нарвать – душа трепыхалась, боялся, что обнаружат, а тут со смертью в жмурки играли, и было такое ощущение, что вроде всю жизнь в тебя стреляли. Не крапивой выдерут, а убьют. И было наплевать на это, на смерть, потому что жизнь потеряла цену. Все тогда имело иную цену…
Мы шли по базару. Базар светлый, веселый, праздничный. Я любил ходить на базар, да и сейчас люблю. Могу торговаться за килограмм печенки, не потому, что мне непременно хочется купить ее на двугривенный дешевле, мне интересно торговаться. Шутки-прибаутки, и тебе расскажут, откуда приехали, и что нового там, откуда приехали… Бабушка тоже любила подобные разговоры. На базаре-то она принципиально ничего не покупала – считала, что этим поощряет частный сектор, который исторически обречен на вымирание.
Осенние базары сорок второго года в Пятигорске были злыми… Особенно беспощадным был базар пятого сентября. Вечером выселяли евреев… И люди, через друзей, соседей продавали все, что можно было продать. В этот день цены были фантастические, причем бумажки в ход не шли, меняли туфли, часы, отрезы, шубы на продукты. Еще почему-то требовали зонтики. Обыкновенные зонтики, чтоб прятаться от солнца на платформах – прошел слух, что переселенцев повезут на открытых железнодорожных платформах. Несколько марок, которые остались у нас вчера от продажи дров, ничего не стоили. С обеда начали менять продукты лишь на золото и серебро. За круг домашней колбасы – неизвестно, из какого мяса она была сделана, – отсчитывали дюжину серебряных столовых ложек. Мед, сало, мука отдавались за золотые монеты царской чеканки. Впервые я видел рыженькие пятерки и десятки с Николашкой вместо решки. И откуда столько золотых монет взялось? Шла не торговля, шла обдираловка. Рвали друг друга. Сумасшедшие! Крик, как будто кто-то кого-то избивает ногами, как будто кого-то толпа истязает. Перекошенные морды барыг, остекленелые глаза женщин, чей-то плач, выстрелы, мат, ржанье лошадей, запряженных в телеги, устланные соломой. Никто никому не доверял, и каждый боялся каждого. Ара хищно повел носом и нырнул в толпу.
Потом толпа его выплюнула. Под глазом у Ары голубел фингал.
– Кто тебя?
– А! – махнул рукой Ара. – Во дела! Что ж делать! Был бы хоть кусок сала. Раздобыл вот… для начала.
Он показал серебряную пепельницу.
– Откуда у тебя? – искренне удивился я.
– Откуда? – Ара засмеялся. – Пентюх! Эх, кусок бы сала. Сейчас дороже золота. Чего смотришь? Давай крутись, если подыхать не хочешь. С дровами… Три вязанки принесешь, пять раз могут убить. Пошли, ушами не хлопай, сыпь за мной. Будешь на подхвате.
Я посмотрел на остатки тира… Вздохнул. Тир дяди Анастаса сгорел; говорят, он его поджег, – Анастасу приказали снять мишени, изображающие буржуев и фашистов, повесить мишени наших вождей. Дядя Анастас куда-то скрылся, а ночью сгорел тир…
– Трус! – подзадоривал меня Ара. – Идешь или сдрейфил?
Я догадывался, чего он хочет. Все переменилось. Нужно было идти и украсть что-нибудь. Не важно что. Переступить через невидимую черту, воспользоваться тем, что какая-то женщина зазевалась, и увести кошелку с продуктами, которые она буквально с боем раздобыла, отдала последнее… А дома ее ждут дети, старики… Нет! Я не мог сделать подобное. Не мог! Не потому, что был трус, а потому, что не мог предать что-то очень принципиальное, хотя в то время и плохо представлял, что означает это слово. Предать то, что было выращено с нежностью во мне школой, бабушкой, Советской властью, – все это, вся моя прежняя жизнь, откуда я вышел и которой я по сути дела продолжал жить, все те нормы поведения и отношения к людям, которые я иногда в какой-то мере нарушал в нашей жизни, теперь для меня были святыней, и предать их – значило бы, что меня победили. На моих глазах происходил зверский обман, который при фашистах назывался привычным словом «базар». Шел грабеж. Наглый, примитивный. Уже здесь, на базаре, между возов, фактически убивали людей. Не стреляли еще в открытую, не заталкивали еще в душегубки, это произойдет через двадцать часов, но убивать уже убивали – отнимали у них то, что они хранили всю жизнь как самое дорогое, самое заветное, что передавалось из поколения в поколение – от деда внуку, от прабабки правнучке… Отсюда люди уходили без прошлого..








