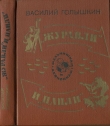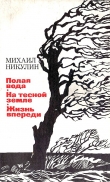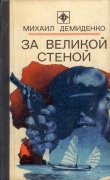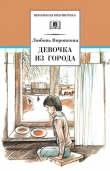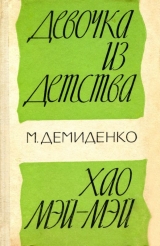
Текст книги "Девочка из детства. Хао Мэй-Мэй"
Автор книги: Михаил Демиденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
– Больше знаешь – больше друзей, – добавил дедушка.
– Тоже мне открыл истину, – сказал Левкин отец. – Поверьте мне, вам когда-нибудь это очень пригодится. Очень! Научили бы моего оболтуса чему-нибудь. Левка, ты слышишь?
– Отстань от ребенка, – вмешалась тетя Фаня. – Ты вечно его дрессируешь, вечно недоволен.
– Ты глупа, Фаня, – сказал Левкин отец.
– Я глупа?! – удивилась она и замолчала секунды на две. – Я глупа? Ты можешь оскорблять меня при детях? Ты все можешь. Ты можешь вогнать меня в гроб, а своего сына оставить без пальто. Посмотри, посмотри, какие вещи привозят своим детям настоящие родители! – И она стала щупать мой английский костюмчик.
Я рассказал вам о своем детстве, чтобы вы поняли, почему я вступил на аэродроме в разговор с китайскими товарищами, почему мне вдруг захотелось поговорить с ними, отвести душу, вспомнить Владивосток и то время, когда я ходил в школу на Второй речке.
6
Неожиданно прибыл дежурный по полетам Федоров и с места в карьер потребовал перевести целую речь.
– Скажи им, Веня, – попросил он, – что вылета до вечера не будет. Облачность в Казани – девять баллов. Переведи!
Я открыл рот, постоял с открытым ртом… Все на меня смотрят, ждут, что я скажу, а я ничего не говорю, потому что не имею понятия, как будет «девять баллов облачности» по-китайски.
– Что ж ты? – волнуется Федоров. – То трепался без умолку, а когда нужно, молчишь как рыба.
– Да вот… – отвечаю, – сообразить нужно.
Пассажиры наперебой стали мне помогать, точно я без них не понимал, что требуется сказать.
Я с тоской гляжу на медпункт, переводчику вторую бутыль с нашатырным спиртом несут, нет переводчика, хоть плачь.
И я начал импровизировать.
– Эта… – показал я на самолет в окне, – до самого вечера будет стоять, на месте стоять. Долго стоять. На поезде далеко. Даже не представляете, как далеко… Двое суток ехать, вот как далеко. Страшно далеко!
– Поняли? – нервничает Федоров.
– Не сбивайте с мысли. Поймут, – пообещал я и продолжаю: – А это, – я показал на облака, – там… Низко… Много…
– Большая облачность! – пришли на помощь китайские товарищи.
– Большая! – обрадовался я. – Облачность большая!.. Очень большая… Вы даже представить себе не можете, какая большая облачность… Слишком большая!..
– Чего полчаса объясняешь? – заволновался Федоров.
– Метеосводку, – говорю.
Китайские товарищи посовещались между собой, закивали головами:
– Понятно, Минбай!
Больше всего удивился я сам, что они меня все-таки поняли.
– Веня, ты гений! – говорит товарищ Федоров.—Мы тебя обязательно отметим в приказе. Только переведи еще… Скажи, что сейчас пусть они пойдут в ресторан, покушают. Ну и потом… Мы машину раздобудем, город покажем. Созвонимся с «Уралмашем», пусть поглядят на нашего красавца. У них тоже скоро такие заводы будут. Мы поможем! Весь советский народ поможет. Им легче будет, чем нам, потому что у них есть мы, а нам ведь никто не помогал… Они будут идти по проторенному пути, не повторят наших ошибок, так что им будет легче. Переведи, пожалуйста.
Пассажиры тоже твердят:
– Им легче. У них мы. У нас такого помощника не было… Им легче.
Начал я это переводить. Полчаса переводил. Ну, то, что мы их в ресторан приглашаем, – это они, конечно, сразу поняли, а вот как насчет всего остального, что я им пытался втолковать, – это уж не знаю… Кажется, не очень. Китайцев повели в ресторан, я было направился к своему БЗ, где сидел и нервничал Васька.
– Ты куда, Веня? – схватил меня за рукав мертвой хваткой Федоров.
– На дежурство. Я на дежурстве.
– Мы тебя заменим, – пообещал Федоров. – Иди с ними.
Пошли, значит, мы в ресторан, в главное здание. Пообедали на славу. После этого пришли три машины. Сели мы и поехали в город осматривать достопримечательности.
Начали с памятников. Конечно, я их первым делом повел к памятнику Свердлову. Странно, но они не знали, кто был Свердлов. Я рассказал. Рассказал все, что знал про Якова Михайловича, про уральских большевиков-революционеров. И еще добавил про знакомого мне лично партизана революции – про дядю Ди-му, которого по-настоящему звали Дин Фу-тан.
Потом поехали на центральную площадь к памятнику Карлу Марксу. Но тут китайские товарищи сказали, что им не стоит рассказывать, потому что про Карла Маркса они сами все хорошо знают.
Что ж, дело ихнее. А то бы я мог рассказать: вдруг они чего забыли или что-то не так поняли?
7
Очень странно устроена человеческая память.
Я учил в школе с четвертого класса немецкий язык. Окончил девять классов, поступил в вечерний авиационный техникум. Работал, учился. В техникуме продолжал изучать немецкий. У меня, в общем, была четверка, вполне приличная отметка. Но немецкий давался мне с великим трудом. Я его в полном смысле слова «долбил»: не люблю ничего делать недобросовестно. А китайский… Вот уж много времени прошло, и я, оказывается, его помнил, сегодня точно какая-то волна накатила, подхватила меня, и я почувствовал себя на ее гребне. Речь у меня лилась без задержки. Вот так иногда бывает с человеком, который любит петь. На работе – нельзя, дома соседи – неудобно, и вдруг как-то, оказавшись один в лесу, он запоет, и одна песня льется за другой.
Так и я.
Через каждый час я звонил в аэропорт: дали погоду или нет? Потом вел китайских товарищей дальше по городу. Встречали нас всюду приветливо. А потом «погоду дали», и улетели товарищи по назначению.
А в моей жизни эта встреча оказалась поворотным пунктом.
Во-первых, Федоров сдержал слово. К Октябрьскому празднику мне объявили благодарность в приказе.
Прошло еще некоторое время, и вдруг меня вызывают в отдел кадров.
– Вася, замени, схожу к Димиванычу! – попросил я друга.
Димиваныч – это мы так для удобства сокращенно называли начальника отдела кадров Дмитрия Ивановича.
Прихожу в главное здание, стучусь в дверь. Вошел.
Димиваныч сидит за столом.
– Садись, садись! – говорит он бодро. – Знаешь, зачем вызвал?
– Не догадываюсь, – отвечаю.
– Решили мы тебя, Остаченко, послать работать в Китай. Решили доверить тебе… Поедешь помогать китайским братьям создавать собственную гражданскую авиацию, а то там англичане пока наживаются на наших братьях. Ответственное поручение!
Он еще что-то говорил, а у меня все поплыло перед глазами от радости.
Кого не обрадует большое доверие, ответственное поручение! Чем больше ответственность, тем больше радуется человек – я так понимаю радость.
И потом: я ведь с детства мечтал о пулемете. Чтобы вместе с дядей Ди-мой, которого звали Дин Фу-тан, помочь китайским рабочим разгромить всех врагов и построить новую жизнь. И вот теперь я вдруг поеду в Китай без всякого пулемета и буду помогать нашим братьям.
«Моя машинка бьет!» – вспомнил я поговорку дяди Ди-мы.
– Завидую тебе, Веня! – сказал Димиваныч. – Сам бы поехал, да не знаю языка. Надо им помочь. Кто же им поможет, как не мы? Понял?
Пожали мы друг другу руки, и я выбежал из кабинета. Я еле конца смены дождался, поймал такси – и домой.
Да, необходимо рассказать, как я оказался в Свердловске. Приехали мы сюда после войны. Дело в том, что мой дядька Тарас Тарасович Конь погиб в сорок пятом при освобождении Маньчжурии от японских захватчиков. Нашла его пуля самурая. Сложил он свою лихую голову под Цицикаром, высмотрел его какой-то смертник, камикадзе, были они у японцев не только в воздухе или на торпедах, но и на суше, вроде «кукушек» стреляли по командирам. Конь пошел освобождать китайцев в звании подполковника, в должности командира артполка.
Тетя Маруся сильно горевала, плакала, убивалась, чуть зрение не потеряла. Батьку списали на сушу по старости. Думали мы, прикидывали. Продали свою половину домика и тронулись на родную Украину, где я сроду не бывал. Но, видать, не судьба… Не доехали.
Расхворались старики в поезде – его в шутку называли «пятьсот веселый». После победы над Японией войска с востока перебрасывались на запад, к тому же валил поток демобилизованных, бывших эвакуированных… Полтора месяца мы путешествовали и застряли на середине пути, на Уральском хребте.
В общем, скоро сказка сказывается, но не скоро дело делается. Прошло еще пять месяцев, и вот осенью пятьдесят второго года проводили меня родичи в длительную командировку – отбыл я в страну своей детской мечты.
8
Переезд границы – штука впечатляющая, даже если конечная станция на родной земле всего-навсего деревянный дом с двумя огромными залами… В одном зале стояли скамейки, похожие на садовые, на них сидели пассажиры, во втором на длинных столах лежали чемоданы, а вокруг ходили таможенники, люди весьма серьезные.
После осмотра пассажиры сели в поезд, он тронулся, у светофора с подножек вагонов соскочили пограничники.
– Все!
– Свершилось!
– Где она? Где она?
– Вон!
– Нет, рановато, не доехали.
– Поздно, проехали…
Лично я этой самой границы почему-то не заметил. Кругом была все та же степь, ковыль, небо…
Поезд подошел к станции. На ней красовались иероглифы «Маньчжурия».
Все! Россия – там, Китай – здесь. Он для меня стал реальностью, а Россия – воспоминанием.
В тамбуре какие-то ребята, одетые в одинаковые гражданские костюмы, дружно запели: «Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна», кто-то вскрикнул: «Эх, ма!», кто-то отошел от окна, достал из кармана бумажник, из бумажника фотографию и долго глядел на нее.
На станции было полно китайцев. Все куда-то торопились. Все в синем. У всех на лицах марлевые повязки, как у хирургов во время операции…
Но это был еще не сам Китай. Он начинался дальше, за тысячи километров, за Великой стеной, за Шаньхай-гуанем. В то время, о котором я рассказываю, поезда ходили только через Читу – Пограничную на Харбин – Тяньцзин – Пекин. Это теперь они могут жать напрямик через Улан-Батор. В то время дорогу через Монголию лишь строили.
По первому заходу я так и не попал в Срединное государство, застрял в Маньчжурии (северо-восток), в Мукдене, на аэродроме около Дунлина – огромного парка, служившего когда-то местом захоронения бывших завоевателей Китая, императоров маньчжурской династии Цин.
Только через два года, в канун праздника весны, меня неожиданно перевели из Мукдена на крайний северо-запад, так сказать, бросили с одного конца Великой стены на другой – пять дней пути на поезде.
И я очутился за этой стеной, на земле ханей, то есть земле истинных китайцев.
В Мукдене я обжился. Шэньян, как называли Мукден китайские товарищи, считался после Харбина вторым городом, где хорошо было работать. Вопрос заключался не только в самой работе – не надо так узко понимать, – работа, она везде одинаковая, везде ее надо выполнять на совесть, раз ты взялся за нее. В Мукдене находилась большая группа советских специалистов, целый городок железнодорожников ЮКВЖД. У железнодорожников был свой клуб, где демонстрировались советские фильмы, был плавательный бассейн и две волейбольные команды, которые без конца оспаривали первенство друг у друга.
И еще в Мукдене было очень приветливое советское консульство. В консульстве часто устраивались вечера отдыха.
В общем, жить можно было.
Ведь самая большая трудность работы за кордоном не климат, не национальные обычаи страны. Самое тяжелое– тоска по родине. И днем и ночью сосет под ложечкой. Начинает казаться, что вот никогда уж больше не попробуешь ржаного хлеба… Что надо везти за границу– так это ржаные сухари.
Тоска по родине – очень сильное чувство. Был у нас один случай. В саду консульства сидел парнишка и малевал на ватмане цветущую сакуру (вишня – по-японски). Пытался он писать под Ци Бай-ши.[5]5
Ци Бай-ши (1860–1957) – выдающийся китайский художник и общественный деятель, удостоенный в 1955 году Международной премии мира. В начале так называемой «культурной революции» хунвэйбины разрушили могилу Ци Бай-ши. Его картины, воспевавшие родную природу, стремление людей к свободе, счастью, к миру, объявлены не соответствующими «идеям Мао Цзэ-дуна» и запрещены маоистами.
[Закрыть] И ничего у него, понятно, не получалось.
Про Ци Бай-ши такую историю рассказывали. Пришел к нему важный англичанин, просит художника, чтоб тот нарисовал утку в камышах. Ци Бай-ши говорит: «Хао!» – берет кисточку и одним взмахом рисует картину.
«Так дело не пойдет! – кричит англичанин. – Вы одну минуту рисовали».
Тогда художник берет крикуна за рукав, ведет в запасники… Там на полках лежат свитки. И на каждом свитке нарисована утка и камыш.
«Так вот, – говорит крикуну знаменитый художник. – Прежде чем научиться рисовать утку за одну минуту, я пятьдесят лет отрабатывал рисунок».
Нашему парнишке вообще лет двадцать пять от роду. Куда ему до Ци Бай-ши! Но сакура у него получилась. Если посмотреть, можно было догадаться, что это дерево, а не женщина с веером… За его работой наблюдали человек двадцать. Мы стояли, сложа руки на животе, то поднимали глаза на вишню, то опускали свои взоры на ватман. Мы согласились, что парнишка – ничего, не лишен дарования.
Среди нас был некий товарищ Петров, эдакий подвижной человечек. Так вот, Петров почему-то сопел громче всех, елозил, и когда вишня была готова, он побагровел и вдруг высказался:
– Чего мне японскую вишню рисуешь? Не делом занимаешься. Ты мне нарисуй наше русское яблоко! Вот тогда я тебе скажу спасибо. Ерундой, понимаешь, занимается!
Бывает и такая тоска по родным местам, но говорю-то я про другое, про сокровенное, настоящее…
В Мукдене остались друзья. Чего-чего, а друзьями меня судьба не обделила. Взять хотя бы подшефных китайских хлопцев, которых я обучал тонкостям ГСМ. Они величали меня «гэгэ» (старшим братом), хотя многие по возрасту были значительно старше.
Учились они на совесть. Ко мне относились прямо-таки с нежностью. Чтобы сделать мне приятное, выучили на русском языке «Катюшу».
Это было, когда на наш аэродром перегнали МИГ-15, новенькие машины. Когда и где научили китайских парней летать на реактивных истребителях, не скажу, так как не знаю. Я числился в СКОГА (советско-китайское общество гражданской авиации), вроде нашего Аэрофлота. Я отвечал за топливо винтомоторных пассажирских самолетов. Часть моих учеников забрали в военную авиацию на обслуживание МИГов, по этому поводу устроили прощальный ужин. Съездили на «газике» в город, к «Чурину». Была такая солидная фирма русского купца. Богатая. Советский Союз подарил ее КНР. Купили пива, сластей, колбасы… Дома приготовили рис, пампушки. Устроили проводы. И вот, когда сели за стол, хлопцы запели «Катюшу»…
Теперь представьте себе плато, покрытое слоем серого лёсса толщиной в несколько сот метров. И на этом плато узкую, извилистую щель. Щель промыла река, названная Желтой, по цвету воды. В этой щели лежит город, куда я попал, распрощавшись с Мукденом.
Лежит город километра на два, на три выше уровня моря. Сам он довольно симпатичный. В центре, разумеется, старая крепость, есть бывшая резиденция бывшего правителя. Обязательно – Торговая улица. Городской парк. Среди деревьев там и сям торчат остроконечные крыши пагод бывшего буддийского монастыря.
Была ранняя весна, и в парке еще не появились навесы из дерюжек. Под такими навесами любители вечерних закатов не спеша пьют чай или лимонад в бутылках из-под кока-колы, задумчиво курят сигареты и слушают нежную игру на хуцине какого-нибудь участника художественной самодеятельности.
В узком одноэтажном здании мне выделили комнату, в которую я поставил клетку с волнистыми попугаями. Вручили мне ключи от бензохранилищ, объяснили еще ряд обязанностей, которые я должен выполнять по совместительству. После этого меня повели в столовую, познакомили с поваром Ваном и остальными товарищами. Фамилия старшего нашей группы была Гаврилов, его заместителя – Поддубный.
Как я уже сказал, на новое место я прибыл в канун китайского Нового года.
Вы не знаете, что такое китайский Новый год, или праздник весны? Представьте себе страну в основном горную, с населением в шестьсот с лишним миллионов человек. И вот на каждую душу населения выделяется в среднем по сто хлопушек и барабану. В один прекрасный день, а именно в весеннее новолуние, все начинают жечь хлопушки и бить в свои барабаны. Получается очень веселый праздник. Называется он Чунцзе[6]6
Ныне этот праздник отменен маоистами.
[Закрыть]. Если вы этого не видели, вам трудно представить, до чего же это здорово!
Три дня никто не работает, все выходят на улицы, и начинается карнавал. По улицам движутся танцующие колонны. Трясут головами львов с гривами всех цветов радуги. Мчится извивающийся дракон. Он хочет проглотить солнце. Дракон дрожит от вожделения, теснит людей к стенам домов, разевает пасть… А солнце убегает, улетает, и никогда дракону не проглотить солнца, как злу не победить добра. Никогда! Солнце рвется в небо, чтобы светить людям, чтоб сделать их счастливыми и радостными. В этом символ жизни, символ движения, символ любви. Иначе, если дракон смог бы проглотить солнце, то был бы мрак, смерть, никогда бы не было «завтра», а «вчера» стало бы «сегодня».
Мне очень хотелось посмотреть на праздничные шествия, но жили мы в двух-трех километрах от города, так что я мог лишь слушать издали веселые рыки барабанов и любоваться издалека разрывами хлопушек.
С некоторых пор ходить в город поодиночке нам не разрешалось. Так распорядились местные власти. Если нам приспичивало куда-нибудь ехать, то собирали солидную группу, сажали в автобус и везли скопом. Объясняли нам подобное тем, что так нас легче охранять. Да и ехать в город было бесполезно: слишком много было на улицах народу, автобусу не пробиться сквозь толчею. Что за праздник, если ты сидишь в автобусе!
Неожиданно пожаловали гости – группа активистов Общества китайско-советской дружбы. Возглавляла группу товарищ Цзянь Фу, высокая, худощавая женщина. Ей было лет сорок, но выглядела она значительно старше, ее лоб рассекал шрам.
Родилась она в Циндао, когда-то отданном на откуп кайзеровской Германии. Циндао расположен на холмах и очень напоминает какой-либо заштатный городишко Южной Германии: садики, чистые улицы, на крышах домов, конечно, красная черепица. Семья Цзяней была зажиточной. Цзянь Фу крестилась в кирхе, ей дали христианское имя Марта.
Лет восемнадцати Цзянь познакомилась с революционером, ушла из дому, принимала участие в революционной работе среди кули Тяньцзина, вступила в компартию, попала вместе с мужем в руки чанкайшистской разведки. Мужа и ребенка замучили, она каким-то чудом спаслась.
Сейчас она занимала, несколько должностей и, кажется, была избрана в Собрание народных представителей– верховный орган КНР.
Удивительно энергичная женщина. Она была тяжело больным человеком, но она презирала боль и недуги. Она мечтала поехать в Советский Союз на учебу, самостоятельно изучала русский язык, поэтому, пользуясь малейшей возможностью, пыталась говорить по-русски.
С ней пришли молодые парни – рабочие. Они очень гордились эмблемами общества на шапках и одновременно стеснялись.
Встреча произошла скомкано: видно, ребята торопились в клуб на концерт самодеятельности или на карнавал.
– Понимаю, – сказала мне Цзянь Фу, – в такой день хочется быть дома. У вас танцуют на ходулях?
Даже она, крещенная в немецкой кирхе, не знала, что праздник весны (Чунцзе) – чисто китайский праздник, что празднуется он лишь в Китае.
– Конечно, – ответил я и, чтоб ее не обидеть, добавил – На ходулях у нас в Свердловске любят танцевать, особенно хорошо получается на асфальте. Сколько ртов в вашей семье? – задал я вопрос, чтоб как-то сменить тему разговора.
– У меня нет семьи, – ответила она. – Мой муж был большим революционером, он отдал жизнь за революцию, и я посвятила жизнь его делу. Вот мои дети. – Она показала на молодых рабочих, которые по-прежнему продолжали стесняться.
Мы договорились с Цзянь Фу, что вскоре обязательно состоится встреча советских специалистов с китайскими рабочими, на которой мы расскажем о Советском Союзе. О нашей жизни, обычаях, победах.
Они ушли. Я совсем загрустил. Вышел на летное поле, прислушиваясь к звукам в городе.
При въезде на аэродром стояли двое китайских часовых: чтоб никто из населения не мог проникнуть на территорию. Я постоял около них, поздравил с праздником, пожелал им «Фацай, фацай!» («Будьте здоровы, живите богато»). Они спросили, сколько времени. Им скоро сменяться, в казарме их ждал праздничный ужин.
Я прошел дальше. Миновал взлетную полосу, проверил сигнализацию. Долго ковырялся в реле красных и зеленых светофоров. Нашел замыкание, исправил.
Затем я двинулся вдоль глинобитного забора. В одном месте забор был размыт дождями и осыпался. Его давно надо было отремонтировать: ведь через дыру на территорию проникали черные волосатые свиньи местных жителей. Свиньи в основном сами добывали себе пищу. Они рыли аэродромные поля в поисках всяких отбросов. Из-за них, неровен час, могла произойти катастрофа.
Я перелез через стену и пошел по тропинке, которая вела к берегу реки. Там начинались фанзы.
Я шел один. Я просто забыл, что со мной обязательно должен был идти кто-нибудь из китайских товарищей, который охранял бы меня на тот случай, если бы, не дай бог, на меня вдруг вздумали напасть «тэу» (шпионы с Тайваня).
Мне было грустно. Очень хотелось посидеть на кане у кого-нибудь в фанзе. Как когда-то я сиживал у Дин Фу-танов. Поговорить о том о сем, послушать сказку, отведать закусок, выпить крепкого зеленого чая или горячего ханшина.
Над головой прыгали звезды, была темная, сочная ночь. Чувствовалось – скоро весна.
Я шел и рассуждал сам с собой. Обо всем. А значит, и о любви.
Почему-то все мои рассуждения в последнее время сводились к этому. Наверное, потому, что я считал себя в душе безнадежно испорченным человеком. Я все никак не мог научиться владеть собой.
«Было бы мне шестьдесят, – с грустью думал я. – Как бы все было просто, как бы все было хорошо! Болело бы мое сердце только об одних производственных проблемах. И не терзал бы я себя!»
До чего же трудно жить, когда тебе не шестьдесят лет!