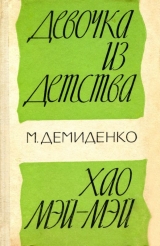
Текст книги "Девочка из детства. Хао Мэй-Мэй"
Автор книги: Михаил Демиденко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
3
РИЧАРД ДОУ ИЗ ШТАТА АЙДАХО:
– Вы участвовали в операциях, когда убивали невинных!
– Да. В частности, в одной деревне к северу от наших позиций. Мы получили донесение, что там появились вьетконговские солдаты. Нам поручили произвести разведку. Мы отправились в деревню и допросили старосту. Он симпатизировал вьетконговцам и предложил нам покинуть деревню. Мы ушли, но потом вернулись с подкреплением и сровняли деревню с землей.
– Каким образом!
– Напалм, обстрел из минометов и тяжелых орудий, танки – словом, тотальное наступление на маленькую деревушку.
– Сколько жителей было в ней до нападения!
– Приблизительно четыреста.
– А сколько осталось в живых!
– Один.
– Кого убивали в первую очередь!
– Всех. Женщин, детей, буйволов, кур, коз – всех…
Объявили перерыв. Зал опустел.
Я остался в зале. С разрешения прокурора, читал тома с показаниями свидетелей, смотрел фотографии, знакомился с материалами обвинения. Внизу, на открытое место между рядами откидных кресел и сценой, выдвинули широкий стол для игры в пинг-понг. Краска на нем облупилась, и по краям фанеры, которая служила крышкой стола, темнели круглые пятна. От алюминиевых мисочек, точнее – от пищи, оброненной на стол. Из-за барьера вышли обвиняемые, прогулялись перед сценой, размяли ноги. Шестеро. Божко, Науменко, Габ, Гришан, Тарасов, Завадский. Я вглядывался в их лица… Обыкновенные лица, заурядные.
Науменко дневалил. Разложил на столе ложки, хлеб, расставил алюминиевые миски. Потом попросился у конвойного в туалет – вымыть руки перед едой. Когда вернулся, вежливо спросил, что дадут на второе. Ел с аппетитом, вкусно ел, наслаждался пищей.
Два месяца назад Науменко ушел на пенсию. Сослуживцы проводили его с честью. И никто из них не подозревал, что коренастый, еще довольно крепкий мужик двадцать три года назад был инструктором в оккупационной полиции, – он проверял политическую благонадежность полицаев.
Напрасно думают, что предатели сотрудничали с немцами из страха. Были такие, как Науменко, которые работали на фашистов не за страх, а за совесть. Фашисты не зря доверили Науменко идеологическую обработку полицаев, они увидели в нем не помощника, а единомышленника.
Я наблюдал, как он ест. Выражение лица у Науменко было такое, точно зрение вдруг переместилось на кончик языка, а слух ушел в глотку. И если бы кто попытался отнять у него миску с макаронами, он бы вцепился в обидчика зубами, как пес.
Рядом сидел Тарасов. Узкий лоб, широкие, массивные челюсти. Внешне он чем-то напоминал Науменко, но был намного примитивнее. Это было животное, сработанное из мускулов и нервов, которые могли принимать лишь физические раздражения – холод, боль. Такие воспринимают мир как дождевой червяк – на ощупь и на вкус. Ел он жадно, громко чавкал, глотая пищу большими, непрожеванными кусками. Ложку намертво держал в кулаке. Он не обращал внимания на соседей. Угрюмо смотрел на солонку. Челюсти двигались равномерно и, казалось, жили самостоятельно. Дали бы гайки, и он также сокрушил бы их в два взмаха, как ложку макарон.
Он и защищался на суде примитивно – отрицал. Сто тридцать свидетелей обличили его в особых зверствах. Например, очевидцы рассказывали такой факт:
«Пятого сентября 1942 года к противотанковому рву пригнали две тысячи человек. Людей заталкивали в душегубку. Набили до предела, закрыли дверь, машина отошла. Девочка лет пяти в этой суматохе потеряла мать.
Она бегала и кричала: „Мама! Мама!“ Подошел Тарасов. В хромовых сапогах. Повесил автомат на спину. Он что-то жевал… Взял девочку на руки, сказал: „Сейчас найдешь свою маму“. Потом крикнул шоферу: „Ганс! Давай назад! Давай сюда“. Шофер-эсэсовец подал машину задним ходом. Тарасов открыл дверь. В щель сумел протиснуться полузадохнувшийся мужчина. Его схватили, прикладами забили назад. Тарасов сказал: „Иди к маме!“ И забросил девочку в душегубку. И отошел. Снял автомат, продолжая что-то жевать».
Очень любопытно ел Божко, бывший писарь оккупационной полиции. Ел он осторожно, не спеша, каждую ложку борща обнюхивал, точно раздумывая – не опасно ли будет проглотить, а вдруг в этой ложке окажется яд, от которого через полчаса начнутся судороги по всему телу. Его руки были холеными, нервными. В одной руке он держал ложку, другой крутил прядь у виска. И пальцы шевелились, как черви.
Божко сидел на самом краю стола и украдкой бросал взгляды на выход из зала. Движения у него были мягкими, вкрадчивыми, и только пальцы выдавали его волнение. Это был осмотрительный человек.
– Сегодня расстреливают коммунистов, – говорил он соседям во время оккупации, – завтра начнут стрелять евреев, а потом примутся за нас. Вот почему я и поступил в полицию. Но сам я никого стрелять не буду, – твердил он, как бы извиняясь.
Конечно, Божко рассказывал сказки. Фашистская государственная и военная машина четко отрегулирована, и таких «хитрецов», как Божко, перештамповывала мигом, и тысячами. Круговая порука, всеобщее участие в преступлениях и заинтересованность в грабеже культивировались под неусыпным контролем.
Никто не будет стрелять…
В конце 1942 года немцам стало известно, что в районе горы Змейка прячется советский десант, сброшенный с самолета. Район горы был окружен фашистами. Начался бой. Многие ребята полегли, нескольких схватили ранеными, ушел лишь один – Чиртков Иван.
Начался розыск. Техника вылавливания врагов третьего рейха была отработана. На поимку одного человека высылалось до роты. Но Чиртков как сквозь землю канул. Выследил десантника Божко – Чиртков решил заглянуть на минутку к жене, справиться, как живет семья, живы ли дети.
Глубокой ночью Божко привел фашистов к хате соседа. Сам во двор не вошел, спрятался за плетнем, со стороны наблюдал, как скрутили руки за спину советскому парашютисту. Божко считал себя предусмотрительным человеком.
– Я служил только писарем, – твердил он.
Но люди видели, как он прятался за плетнем, выглядывал из подсолнухов. А бывшие сослуживцы по полиции рассказывали и другое:
– Чего дурака валяет! Брал он автомат и стрелял. И шнапса ему за это выдавали двойную порцию. Попробовал бы уклониться!
– Да я бы его сам расстрелял, – сказал с обидой Науменко, точно его упрекнули в нерадивости по службе.
Подсудимые обедали. И было очень интересно наблюдать за ними. Не потому, что у меня был какой-то болезненный интерес к убийцам, просто во время еды они раскрывались.
Любопытнее всех ел Завадский, бывший начальник полиции Минеральных Вод. Он бросал в себя несколько ложек, потом вдруг замирал, оглядывал сидящих за столом и говорил:
– Ну что, подонки, попались? Макаронам рады… Эх, дерьмо еды.
Он ел как-то нервно, точно делал короткие перебежки под пулеметным огнем. Но съел все, даже попросил добавки. Тощий, высокий, с лицом профессионального хулигана, если такая профессия существует. Когда-то его исключили из школы за тихие успехи в учебе и шумное поведение в классе. Он связался с воришками, очень любил командовать… Поймать мальчишку и чинить над ним суд и расправу. Когда-то Горький сказал: «От хулигана до фашиста один шаг». И Женька Завадский сделал этот шаг.
Его слабостью была страсть к публичным выступлениям. Во время оккупации, перед тем как отправить людей на смерть или на издевательские, жуткие работы, он непременно полчаса распространялся о долге каждого перед новым порядком, о международном положении, о том, что теперь он большой начальник, а остальные мразь. Даже на процессе говорил долго, громко, но когда оставался один, сникал, плакал, становился слизью. Ему требовались зрители, обязательно зрители.
– Что вы видели в жизни? – например, сказал он во время следствия следователю. – Ничего не видели. Зато я… Хоть немного, но поцарствовал. Что хотел, то имел. Домой возами привозил барахла. Захотел окорок – воз окороков. Захотел выпить – сто бутылок самогонки. Захотел бабу…
Ho он умалчивал, что лечился при немцах от сифилиса.
Они ели. Жрали. Я помню, как с приходом фашистов сразу стало голодно. У меня со словом «фашизм» прежде всего связано ощущение голода.
Фашизм – это голод не только на хлеб, но и на мысли, на человеческие чувства, на жизнь…
4
ДЖИММИ РОБЕРТСОН ИЗ ВАШИНГТОНА:
– Митчел был здоровенным парнем, хорошим солдатом, но он, очевидно, совсем свихнулся и всегда таскал при себе остро отточенный топор. Топор был как бритва. Он подкрадывался с ним к своей жертве и наносил удар. Он не брал вьетконговцев в плен, а отрубал им головы и таскал эти трофеи с собой в рюкзаке. Митчел служил в 1-й дивизии. За определенное количество убитых врагов там давали трехдневный отпуск, но для этого требовалось предъявить их уши. Митчел приносил головы…
– Вы действительно видели у него головы!
– Однажды я сидел в палатке, как вдруг вошел Митчел. Он всегда как-то странно смеялся и говорил вещи вроде того, что «прихватил еще парочку косоглазых». Он присел ко мне на койку и открыл рюкзак: три головы выкатились на мою кровать. Я вскрикнул, но он только посмеялся надо мной.
Буквально на второй день после прихода немцев, из Кочубеевки в Германию отправили первый эшелон со скотом. Племенных колхозных быков грузили в товарные вагоны. Вагоны чисто вымыли, пол застелили свежим сеном. Бугаи покорно входили в вагоны, казалось, они сознавали, что попали в плен. Немецкие солдаты что-то весело кричали друг другу, по-хозяйски оглаживали животных, бегали к водопроводной колонке с ведрами, поили быков впрок. Солдатам нравились сильные, сытые животные. Видно, солдаты понимали толк в крестьянском деле. Телят брали на руки и вносили в вагоны. Коров загоняли хворостинками, но прежде чем загнать в вагоны, корову доили. Тете Марусе приказали идти на станцию. Доярок не хватало, и несколько солдат, сбросив серые кителя, тоже сдаивали в ведра молоко. К станции подкатил эшелон с танками. Танки высились над платформами. Танкисты хватали ведра с молоком, пили через край, белые жирные струйки бежали по их волосатым, загорелым животам.
Метрах в трехстах на солнцепеке сидела группа русских военнопленных. В изорванных, окровавленных гимнастерках. Ребята облизывали пересохшие губы. Кто-то не выдержал и крикнул: «Пить!»
Хата, где меня приютили, стояла на отшибе. Колька взял два ведра, пошел к колодцу, достал воды, подцепил ведра коромыслом и понес, чуть-чуть согнувшись, к пленным красноармейцам. Он умело нес воду, ни одна капля не упала на землю.
Охранник заорал на него. Колька остановился. Фашист подошел и вылил воду.
Колька молча повернулся и пошел к колодцу… И опять воду вылил на землю охранник. Колька, нагнув голову, точно собираясь драться, пошел третий раз за водой. Пленные видели это. Люди стали подниматься с земли. Они стояли, наши ребята, истерзанные боем, в серых от пыли бинтах, с пятнами черной, высохшей на солнце крови. Почему-то алая кровь, когда высыхает, становится черной. Мы глядели со страхом через распахнутое окно на Кольку. У тети Маруси было четверо детей – Колька, Мишка, Райка и пятилетняя Марица. Колька был самым заядлым.
Охранник уступил… Может быть, он понял, что его действия вызовут протест среди пленных, или что-то человеческое шевельнулось в его сердце, скорее всего его обескуражили настойчивость и упрямство русского мальчишки.
Пленные подхватили ведра с водой, каждый делал несколько глотков и передавал ведро товарищу.
– Дяденьки! Дяденьки! – кричал Колька. – Я еще принесу! Всем хватит!
Но прибежал унтер-офицер, солдаты заорали…
К эшелону со скотом прицепили два вагона. Я не подозревал, что в телятник можно набить столько народу! Когда задвигали дверь, она двигалась с трудом, потому что ее тормозили людские тела.
На земле лежали клочки сена, лепешки навоза. Женщины, рыдая, махали вслед поезду. Мишка, Райка и Марица выскочили из хаты, сверкая пятками, припустили к железной дороге. Я остался с хате – у меня болела нога и я ходил, опираясь на самодельный костыль.
Я так ничего героического и не совершил, на фронт не попал. Солдат из меня не получился. Командир роты обнаружил меня на второй день и хотел высадить. Братва уговорила подбросить меня до Ростова. Но до Ростова мы не доехали: под Кавказской точно упали с неба самолеты. Летели они с юга, видно отбомбили нефтяные прииски в Грозном. Они шли на бреющем, «лапотники», и поливали вагоны из пулеметов. Матросы прыгали ка ходу из теплушек, поезд остановился. С постов ПВО на крышах вагонов били «максимы», поставленные на козлы. Меня затащил под вагон мичман, затолкал под сцепления, толстые стальные чушки. Со звоном ударили пули, одна отскочила от рельса и попала в меня. На этом и кончилась моя карьера солдата морской пехоты. Потом я попал на станцию. Со станции меня унесла на руках женщина. Это была тетя Маруся.
– Куда ж тебя, окаянного, несет, – причитала она. – Мать-то небось глаза проплакала… И куда же тебя несет, скаженный. Такой же стервец Колька мой, два раза убегал из дому, спасибо добрым людям, милиции – завернули. Тебя же убить могли. Болит нога? Ничего, вылечим.
Так я попал в хату, что стояла на отшибе. Колька, Мишка, Райка и Марица признали меня. Пуля прошла навылет, но перебила мышцу, поэтому я долго не мог ходить. Потом пришли немцы. Ночью. С зажженными фарами.
Немцы… Они без конца ели. Постреляли кур, гусей. Колька рвался во двор, но мать ударила наотмашь.
– Сиди, дурак, а то и нас изведут, как птицу. У Кузнеченко бабку пристрелили. Масла не дала. Говорили тебе, учись! Теперь захочешь в школу, да не пойдешь. Школу фриц занял. Офицеры. Кончилась твоя учеба.
Школу было видно из окна. Четырехэтажное каменное здание. Вокруг школы поставили проволочные заграждения, ходили часовые.
Однажды Колька куда-то исчез. Оккупантов он не признавал, а строгие приказы, которые кончались словом «расстрел», срывал с заборов и столбов.
– Сынок! – умоляла его тетя Маруся. – Хочешь, на колени встану… Из-за тебя сестренок погубят… Соображай немного. Не думай, что меньше тебя их ненавижу. Ведь по-умному надо делать. Куда голову суешь? Зазря голову сложишь. Для чего ж я тебя растила? Батька вернется с войны – что скажу ему? Не уберегла. Из-за озорства погибнешь.
Колька отмалчивался, склонив голову, что-то обдумывал. Мишка, Райка и пятилетняя Марица подчинялись ему беспрекословно. Когда пропал Колька, мать била их, умоляла сказать, где Колька, но они молчали, не сказали, куда запропастился старший брат.
Колька пришел под утро. Тетя Маруся села к нему на кровать, гладила его по голове.
– Мама, не бойся, – отозвался Колька. – Я в степь ходил.
Днем мы ушли в сарай. Райка наблюдала в щель за домом, чтобы мать не застала врасплох. Колька достал тол. Желтый брусок, похожий на затвердевшее масло.
– Динамит, – сказал он важно.
– Во бы фрицев рвануть, – прошептал с восторгом Мишка и понюхал брусок. Я тоже взял брусок, прикинул на руке – граммов двести. Не верилось, что желтое вещество может взорвать мост или танк.
– Запал нужен, – пояснил Колька. – И шнур бикфордов. Я знаю… Сигаретой прижечь – как даст.
Он раздобыл где-то запал и шнур. Ночью пробрался под проволокой к школе. Конечно, взорвать ее не смог, и смешно было бы пытаться взорвать школу брусочком в двести граммов. Колька лежал почти до утра около туалета. И когда туда зашел офицер, поджег шнур и бросил шашку в выгребную яму.
Рвануло знатно. Офицер остался жив. Он выскочил из-под обвалившихся досок и заорал благим матом. Залаяли автоматы часовых. Вся станица проснулась. Колька удрал, его не увидели, но впопыхах оставил кепку. Немцы утром нашли ее и догадались, что покушение на офицера совершил подросток.
Тетя Маруся прибежала от соседей в слезах, достала из-под хвороста запрятанный кусок сала, отрезала половину, завернула в тряпку и протянула мне.
– Уходи! – сказала она. – Тебе надо быстро уйти.
– Почему он должен уйти? – подал голос Колька. Остальные ребятишки стояли вокруг и с недоумением смотрели на мать.
– Немцы схватили хлопцев, – ответила тетя Маруся. – Ищут, кто в нужник бомбу бросил. Он чужой… И покажут на него. Ты чужой здесь. С матросами приехал. Чтоб спасти своих, люди на тебя покажут. Уходи, спасайся.
– Он не виноват, – сказал Колька.
– Что ж, не знаю, что ли? – ответила тетя Маруся и села за стол, опустила руки. – Ты, Колька, нашкодил. Дознаются кто. Бьют ребят, в школе бьют. Решайте, дознаются– тебя, Колька, повесят как партизана, нас постреляют, а тебя, – кивнула она в мою сторону, – все равно схватят. Чтоб отбрехаться, на тебе отыграются.
– Ладно, – сказал я, – раз надо… Куда ж идти?
– У тебя в Ростове родня.
– Нет, бабушка в Пятигорске живет. Туда не доберешься.
– Давай на бахче спрячу, – предложил Колька, – в шалаше. Поживешь, потом видно будет.
Собирался я в путь недолго. Сунул шмат сала за пазуху, несколько вареных картошек рассовал по карманам, взял костыль. Хотя на дворе было жарко, я взял пальто.
– Решайте сами, – печально сказала тетя Маруся. – Не сердись. Поищут, поищут и успокоятся. И хлопцев из школы отпустят… Скажут, что ты бросил бомбу и убег, но если ты, – она погрозила пальцем Кольке, – еще раз нашкодишь… Ты ж взрослый, дубина. Обвалял немца в дерьме, толку-то никакого нет. Глупость одна.
– Посмотрим, – проворчал в ответ Колька.
Я оглядел хату… Фотографии на стенах. Кое-где белые квадратики – это тетя Маруся сняла и спрятала фотографии мужа, где он стоит в красноармейской форме. Она понимала, что нужно затеряться среди других семей, иначе не дождаться своих, иначе не спасти детей, иначе по-глупому, без пользы потеряешь жизнь. Сильная, красивая и мудрая женщина, мать, у которой на руках четверо неугомонных ребятишек, не корила Кольку за его партизанщину, она только хотела объяснить, что нет смысла подставлять сдуру голову под паровоз, который несется навстречу по рельсам.
Нет, я не сердился на тетю Марусю, и не было чувства обиды. Я ощущал грусть. Я еще не привык к частой перемене мест, к запаху железной дороги, я не знал еще тогда самую трудную задачу всех бродяг – проблему ночлега. Это вопрос всех вопросов! Даже летом бывают холодные ночи, выдаются и дождливые. Когда ливень сечет, как розги, на тебе нет сухого места, руки, ноги коченеют, и ты ненавидишь весь мир, который сидит в тепле, под крышей, и пьет чай. В такие ночи человек без крова дичает, а зимой… Зимой умирает, даже если и продолжает жить.
Она была права. Конечно, кто-нибудь, чтобы спасти своего хлопца, указал бы на меня. Я чужой… И оставаться здесь не было смысла. Прятаться в каком-то шалаше… Колька шел рядом и развивал мысль – найдем в степи оружие, пулемет, миномет – пригодятся.
Не буду прятаться в шалаше, долго в шалашике не проживешь. Надо пробираться в Пятигорск, к бабушке. Как она там? Она ведь член партии, и какая-нибудь продажная тварь укажет на нее. Я теперь знал, что такие бывают. А может, она ушла из города?
Нет, она осталась. И тому причиной был я. Она будет ждать меня. Я впервые ощутил ответственность за поступки, когда даже благие желания зачастую оборачиваются горем для близких. Когда мы приносим боль посторонним, мы извиняемся, чувствуем себя виновными, а самых близких, любимых мы мучаем и не замечаем этого.
Прятаться на бахче нет смысла. Я сказал об этом Кольке.
– Куда пойдешь? – затараторил он. – Гляди, немец прет на юг. Эшелон за эшелоном. Пассажирские поезда не ходят. Да у тебя денег нема на билет.
– А, поеду, – сказал я, хотя смутно представлял, как можно проехать к фронту, теперь уже уходящему.
Мы вышли к станции. На переезде стоял состав. Он пропускал цистерны с бензином. Бензин везли на север, к Сталинграду. Мы пошли с Колькой вдоль состава. Трава высохла и трещала под ногами. Над степью колебалось марево. Мы делали вид, что смотрим туда, в степь, а сами буквально ощупывали глазами каждый вагон и платформу. Странно, состав не охранялся. Лишь на задней площадке сидели два солдата железнодорожной охраны и мирно курили трубки. Они не обратили на нас внимания.
Я облюбовал две платформы. На них стояли наши, русские тракторы. Несколько старых, с круглыми колесами, и на колесах шипы. И пахнуло привычным, и захотелось взобраться на платформу, погладить тракторы.
«Ой вы кони, вы кони стальные!» Я метнулся к составу, влез на платформу и нырнул под трактор. Я боялся, что те двое, в конце состава, заметят, но обошлось. Прогрохотали цистерны с бензином, состав дрогнул и пошел… Жалко, с Колькой не простился.
Поезд мчался по голой степи. Мне стало радостно. Скоро я буду дома, вернусь к бабушке. Явь окажется дурным сном. В первом классе у меня болели уши, но стоило бабушке взять мою голову в свои руки, как боль притуплялась и я засыпал. Она у меня была сильная и добрая, моя баба Поля. Поезд шел к Минеральным Водам. Железнодорожная ветка здесь одна.
Я забрался в кабину гусеничного ЧТЗ, передвинул рычаги. Сиденье было упругим, я лег на него. И заснул. Наверное, от пережитых волнений. Нервы требовали отдыха. И как я заснул? Конечно, нужно было бы забраться под трактор, притаиться, я чересчур осмелел.
Я проснулся оттого, что кто-то больно сунул под ребро. Я вскочил… И первое, что увидел – конец ствола карабина и мушку на нем. На меня смотрела маленькая дырочка в вороненом стволе. Мы глядели друг другу в глаза – я и смерть. Я не мог оторвать взгляда от дырочки в стволе, из которой вырвется огонь и ты окажешься в небытии.
– Хенде хох! Руки вверх!
Я сообразил, что эти слова относятся ко мне. Поезд стоял. У семафора. Кругом была та же степь. Я слез с сиденья, стянул пальто.
Передо мной стоял странный дядька. В кожаных штанишках с помочами, как у пятилетнего ребенка, на голове шляпа с серым пером. Чудила какой-то! На ногах чулки не чулки, вроде длинных носков до колен, обувка– как бутсы у футболистов. Он был толстый и смешной, и только карабин, которым он целился, делал его страшным.
– Кто ты есть? Партизанен? – спросил чудила.
– Я партизан? – закричал я в свою очередь. – А ты кто такой? Чего дерешься? Придурок!
– Их бин бауер, – сказал дядька и опустил карабин. – Я есть крестьянин. Ты есть русский партизан.
– Иди-ка ты… – сказал я и захныкал, потирая бок. – Ударил. Не стыдно?
– Ты глупый мальчик, – продолжал дядька. – Ты спал на мой трактор. Май наме Август Мария Хён.
– Мария? – не поверил я и засмеялся.
– Я германский колонист, – почти без акцента сказал чудила и опять вскинул карабин. – Я тебя буду пиф-паф. Я учил русский язык. Ты вор и лодырь. Вас из дас «придурок»?
Я поглядел в его глаза и почувствовал, что он не шутит. Он хлопнет, как ворону, которая села на огород клевать рассаду.
– Вас из дас «придурок»? – грозно переспросил чудила.
– Ну, это… строгий человек, хороший хозяин, – сказал я.
Поезд стоит у семафора, мы с чудилой стоим на платформе, – а что, если прыгнуть через борт и дать лататы? Сразу в степь бежать опасно – отличная мишень. Броситься вдоль состава? На задней площадке солдаты железнодорожной службы. Они разбираться не будут, тоже шмальнут.
– Строгий человек… строгий, – повторил Хён. Поставил карабин к ноге, вынул из кармана русско-немецкий словарь, порылся в нем.
– О, это карашо! Ты правильно сказал – строгий хозяин, – изрек самодовольно чудила. – Ты будешь меня величать господин Хён. Ферштейн? Я – господин Хён.
Он еще долго распространялся на смешанном немецко-русском языке. Потом Хён знаками приказал слезть с платформы и залезть в прицепленный сзади товарный вагон, забитый сельскохозяйственными машинами. Видно, на переезде Хён был в вагоне. Воспользовавшись остановкой, он решил проверить тракторы и обнаружил «зайца».
Выпуклость под рубашкой привлекла его внимание. Он потребовал показать, что у меня за пазухой.
– Сало! – радостно закричал он. – Зер гут! Ты есть хороший мальчик!
Без зазрения совести он отнял сало, положил на ящик из-под снарядов. В вагоне была идеальная чистота. Вдоль стен висели плакаты на немецком языке и портрет Гитлера. Стояла кровать под красным байковым одеялом. Бак с водой. Бак когда-то принадлежал или русской больнице, или общественной организации – кружка намертво была прихвачена цепью к ручке бака. А у самого выхода, прилаженный брезентовыми петлями к стене, чтоб не стучал и не болтался, торчал миномет.
– Сейчас будем обедать, – произнес торжественно Хён.
Я начал догадываться, с кем меня свела судьба. Господин Хён был первой ласточкой, своего рода разведчик, только не на «дикий» Запад, а на «дикий» Восток: он ехал заселять земли Кубани. В армию его не взяли – в первую мировую войну он отравился газами на юге Италии. Он был крестьянин, но недостаточно зажиточный, чтобы не соблазниться перспективой стать помещиком в далекой России. Ехал пока один, без жены, сопровождал сельскохозяйственную технику, которую безвозмездно и бесплатно подарил райх.
– О, фюрер – большой придурок, – торжественно заявил Хён.
Я чуть было не засмеялся от неожиданности, но вспомнил, что толстяк судит о значении слова по моему объяснению, и сдержался. Но, видимо, Хён что-то почувствовал, и спросил настороженно:
– Я говорит неправильно?
– Правильно, правильно! Большой придурок, самый большой!
Мне не хотелось ссориться – в вагоне я ехал как у Христа за пазухой. Старику скучно одному, и России, безусловно, он боялся, – карабин придавал ему храбрость. Старик был рад случайному попутчику.
– Обедать! – сказал Хён и отрезал толстый ломоть сала. – Это мне… Тебе, кушай! Я добрый! О, сало русский очень карашо!
Он искренне считал себя добрым и щедрым.
– Где ты взял?
Я показал на сеялки и молотилки.
– Капитал! – отвечал он с восторгом. – Мой фатерлянд дал! У нас нет в райхе бедных. Ферштейн? Национал-социализм. У нас все, – он выхватил словарь, – богатый, все богатый. Россия… нихт.
– Сказал бы тебе, – проворчал я. – Это все мое, понял? – и показал на степь. – Это твое нихт!
– Ду ист шёнстон, глупый, – заржал Хён. Он трясся, и из его глаз покатились слезы. Он схватился за живот руками и вдруг закашлялся, позеленел… Долго не мог отдышаться, сплевывал в открытую дверь теплушки.
– Глупый мальчик, – сказал он. – Это есть райх. Это есть Великая Германия. Это есть я… Твое? Найн! Ты не умеешь арбайтен. Ты ферштейн, не бауер, тебе нужен придурок… Очень большой придурок. Тогда будет хорошо работать! И ты будешь любить девочка. Играть гармошка. И каждый день есть булка.
Чистый вагон… В нем ехал колонизатор… И перед глазами встали два вагона, которые прицепили к эшелону со скотом. Двери не закрывались, потому что мешали тела. Ребята стояли стеной, и охранники забивали их прикладами. Хён… Он ехал счастливый и напуганный. Он заигрывал потому, что я ему был нужен, потому что без меня он был слеп и глух в странной России, куда его все-таки привела жадность. Хозяин… А каким он будет через год, через два, если закрепится, обживется на нашей земле?








