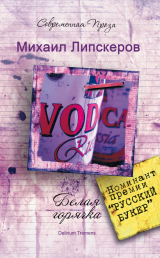
Текст книги "Белая горячка. Delirium Tremens"
Автор книги: Михаил Липскеров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
А когда проснулись, наступило время обеда. Давали суп вермишелевый вегетарианский, курицу с рисом и компот. Все было вполне съедобно. (Кстати, курицу с рисом давали через день, так что Мэн сделал вывод, что санаторное отделение было непосредственно подключено к какой-то подмосковной птицефабрике.)
После обеда Мэна позвали на собеседование с Добродушным. Мэн добросовестно изложил Добродушному извилистый путь прихода к алкоголизму, не забыв упомянуть, что действия человека наполовину состоят из генотипа и наполовину фенотипа. То есть от наследственности и внешних обстоятельств. Которые, к несчастью, сложились не в пользу Мэна. Короче говоря, смесь имманентного и трансцендентного и привели Мэна к его нынешнему печальному состоянию. А в конце добавил для убедительности:
– Водка проклятая довела. Несчастный я человек. И что делать, не знаю. За что наказываешь, Господи? – и пустил неискреннюю слезу.
– Очень вы, алкоголики, любите жалеть себя. Все виноваты, а вы чисты. Так?
– А как же? Болезнь, она и есть болезнь. Неизлечимая.
– Это да. А скажите, вообще не пить вы не можете?
– Как так, как так? – возмутился Мэн. – А как без водки справиться с суровыми мерзостями бытия?
– А вот тут мы вам поможем. Соответствующие лекарства подберем. Физиотерапия, правильное питание, прогулки на свежем воздухе, благотворное влияние семьи. У вас, насколько мне известно, трое детей и пятеро внуков. Есть работа. Вы уважаемый человек. Чего вам еще надо? Вам вообще незачем пить.
Мэн смахнул свою неискреннюю слезу и гордо выпрямился:
– Без алкоголя я теряю одну из степеней свободы! И это мне, как Человеку, очень обидно.
– А с алкоголем вы свободны?.. Вы же целиком зависите от него. И грош цена вашей свободе. Вы – раб. Причем по доброй воле. С каких лет вы пьете?
– С тринадцати.
– Так вот, при вашей кажущейся свободе вы – раб уже более пятидесяти лет. И не чей-либо, а чего-либо. Водку в вас насильно не вливали?
– Вроде нет, – не сразу припомнил Мэн.
– Вот так вот… – подытожил Добродушный. – Вы – сам себе раб. И нечего рассуждать о генотипе и фенотипе, имманентности и трансцендентности. Вы просто оказались слабым человеком. Как, впрочем, и многие сильные люди. Но тут я уж ничего не могу поделать. Подлечить мы вас подлечим, а там… Все зависит от вас. – И он отпустил Мэна.
Мэн побрел в курилку. Контингент курящих оказался принципиально другим, нежели в других отделениях дурдома. Во-первых, на курящих не было фланелевых пижам, из-под которых выглядывало белое солдатское белье. Все были одеты либо в тренировочные костюмы самых разных расцветок и фирм, либо в джинсы и футболки. У одного, джентльмена лет пятидесяти, была майка университета города Беркли 62-го года. Во-вторых, сама курилка была отделена от уборной. В ней стояли столы с пепельницами, широкие скамьи со спинками. Так что курить можно было со всем возможным комфортом. Лица у всех были интеллигентные и не обнаруживали видимых следов алкоголизма. Вымазанный зеленкой Мэн, хотя на нем и были «Ливайсы» и майка с портретом Леонардо да Винчи, выглядел зеленой вороной. Тем не менее он раскланялся и, чтобы произвести благоприятное впечатление, сказал:
– Здравствуйте, господа!
И тут он понял, что действительно находится в санаторном отделении. Никто из присутствоваших не счел это обращение за издевательство, а, наоборот, ответили Мэну вежливым кивком головы. А Берклианец даже дал словесный ответ:
– Приветствуем вас, сэр. Какими судьбами?
– Вообще-то, я не по этому делу, – застеснялся Мэн.
– В первый день мы все здесь не по этому делу. Но ничего, здесь стесняться нечего и некому. Через…
На этих словах в курилку вошли двое бланшированных ученых соседей Мэна по палате.
– О! – обрадовался Берклианец. – Профессора! Сколько лет, сколько зим!
– Если быть точным, – обрадовался Берклианцу Блондин, – два лета.
– Точнее, два лета и один месяц, – буркнул Брюнет.
– И конечно, не по этому делу?
– Ну, в общем… – отвел взгляд Блондин.
– В общем, ну… – отвел взгляд в другую сторону Брюнет.
– Вот видите, – обратился Берклианец к Мэну, – вот уже в третий раз мы здесь встречаемся, а они все – не по этому делу. Восхитительное постоянство. В том числе и бланши у каждого под одним и тем же глазом. А у вас, простите, травмы какого происхождения?
Мэн чуть было не ощерился, но, натолкнувшись на благожелательный взгляд Берклианца, со всей прямотой ответил:
– Столкнулся с реальной действительностью в виде дверцы книжного шкафа.
Берклианец удовлетворенно кивнул, а куривший невдалеке Углубленный в себя человек, не принимавший участие в предыдущей беседе, встрепенулся:
– Извините за вторжение в частную жизнь, а какие книги стояли за стеклом?
Мэн стал вспоминать:
– Значит, в том месте, куда я шарахнулся в стекло правым плечом, стоял Лосский. «Бог и мировое зло». Носом я попал в «Сто лет одиночества», лбом – между Бродским и Дао Дэ Цзин, а потом всей мордой ткнулся в восьмитомник Чехова.
От окна оторвался Босоголовый человек с нежными чертами лица и вцепился в Мэна:
– Вот-вот, ну разве это не пародия?
– Что именно? – попытался робко уточнить Мэн.
– А вот это: «Мы увидим небо в алмазах», «Труд, только труд», «Я хочу стать птицей»… А?
– Ну, я не знаю… – стушевался Мэн, – весь мир ставит…
– Мир сошел с ума! – взорвался Босоголовый. – А Чехов издевается над ним.
Мэн не счел возможным для себя спорить с Босоголовым, потому что никогда не задумывался о природе чеховских пьес. А Босоголовый выскочил из курилки, оставив Мэна в глубокой задумчивости.
– Не обращайте на него внимания, – сказал Берклианец, – у него раз в два года наступают алкогольные обострения на почве Чехова. Артист. Большой. Мастерская Мэтра. Все чеховские роли переиграл: от Вершинина до Лопахина. Весь мир объездил. С чеховскими пьесами. И все пытается понять, что он играет. А потом не выдерживает собственного непонимания и запивает.
– И как он выходит из этого состояния?
– Год снимается в сериалах, приходит в себя, а потом снова начинает играть Чехова и еще через год опять запивает. И так уже десять лет.
В курилку опять вошел Босоголовый и нервно закурил в окно. А потом ловко кинул окурок в пепельницу и вопросил окружение:
– И как мне теперь быть? Невозможно так мучиться. Каждые два года – запой, каждые два года – развод, пятеро детей растут без отца. И все из-за Чехова.
Окружение молчало. Босоголовый заметался по курилке.
– Черт знает что! Любит одного, спит с другим, первый стреляется, другой спит с другой, попутно, походя, подстрелив первую. Купец платит за вишневый сад значительно больше того, что он стоит. Милые люди гробят себя, чтобы прокормить старого университетского пижона, и благодарны ему за то, что он снисходит до их кормежки. И самой большой сволочью оказываются интеллигентные люди. Ну как тут не запить интеллигентному человеку?
Все по-прежнему молчали. На их памяти этот вопрос возникал не впервые. Причем большинство считало запой раз в два года вполне приемлемым. Мэн тоже не считал такую периодичность большой проблемой, о чем и не преминул высказаться. И получил обескураживающий ответ:
– А до Чехова я пил, как все люди.
«Так, – подумал Мэн, – теперь Чехов виноват». Как-то у русского человека всегда находится кто-то виноватый. Чем бы он ни занимался, в чем бы он ни прокалывался, какую бы пакость ни сочинял, сколько бы жизней ни перепортил, всегда виноват кто-то другой. Вот и вся загадочность русской души на самом деле. Вот он, Мэн – еврей, а потому никогда никого не винил в своем алкоголизме. Ну разве что некоторые мелочи. Социалку, Первую Жену, Советскую власть. Постсоветскую власть. Отсутствие денег. Наличие денег. Несоответствие Желаемого и Действительного. Соответствие Желаемого с Действительным, когда просто невозможно не напиться от счастья. Горе. Радость. Ни то ни се, когда, чтобы добиться либо горя, либо радости, просто необходимо принять на грудь. И конечно же, проблемы с Чеховым. А в остальном за собственный алкоголизм Мэн целиком и полностью брал ответственность на себя и только на себя. Очередная разница в русском и еврейском менталитете.
И вдруг с ужасом понял, что эти слова, за исключением собственной ответственности, думает не он, а говорит Берклианец. И обращается он с этими словами к Мэну, поясняя причины русского алкоголизма и не понимая, почему запивает еврей Мэн.
– Все потому же, – вздохнул Мэн. – Только у меня не Чехов, а Шекспир. – И встретив не шибко понимающие взгляды, невразумительно пояснил: – Все никак не могу понять, быть или не быть.
И вдруг Босоголовый бросился на шею Мэна:
– Благодарю вас, мой родной! Вы меня спасли! Шекспир, и только Шекспир. У него, по крайней мере, все в конце концов помирают и перестают мучиться. И гори синим пламенем Антон Павлович Чехов. – И Босоголовый вылетел из курилки. (Через три дня его выписали, а еще через три года он прославился в шекспировских ролях – от Отелло до черепа Йорика. И с тех пор выпивал весьма умеренно, как в дочеховские времена. Так Мэн впервые доказал, что алкоголизм излечим.)
Потом в курилку вошли три юных интеллигента с пивными бутылками «Хайникен». Мэн удивился. Пиво в антиалкогольном отделении?.. Но, как пояснил Мэну Берклианец, юные интеллигенты страдали пивным алкоголизмом, происходили из весьма обеспеченных семей, учились в МГИМО, и пивной алкоголизм мог повредить их будущей карьере в дипломатии или шоу-бизнесе. Поэтому их за хорошие башли и определили в это санаторное отделение, а чтобы сделать лечение психологически приемлемым, пивные бутылки оставили, заменив пиво в них на кофе. Один из них сел на подоконник и стал мило беседовать со скопившимися под окном молодыми дамами. Мат струился буйными потоками сверху и снизу. Как это и принято среди интеллигенции. Сначала Мэн, долгое время избегающий сквернословия, не мог понять, о чем идет речь, но понемногу родовая память возвращалась к нему, и он понял, что речь идет о предстоящем половом сношении юных интеллигентов с молодыми дамами ближе к вечеру.
«Всюду жизнь», – подумал Мэн и, затосковав, вышел из курилки.
Он вошел в свою палату и лег на кровать. Через некоторое время в палату вернулись высокоученые сокамерники и улеглись по обе стороны Мэна. (На свои кровати.)
На душе Мэна было паскудно. Посталкогольная депрессия вступала в свои права, отвоевывая в сознании, подсознании и индивидуальном бессознательном все новые территории. И постепенно она полностью загрузила Мэна и стала выливаться наружу, окружая его кольцом беспросветной клубящейся серости, через которую было невозможно пробиться, да и не было на то ни малейшего желания, ни сил. Мэн не пошел на ужин, не пошел курить после неужина, не стал есть раздаваемый на ночь просроченный йогурт. Он репетировал собственные похороны.
Похороны Мэна
Мэн лежал в элегантном гробу на некотором возвышении в большом ритуальном зале морга Боткинской больницы. Приближалось время гражданской панихиды. Перед этим Мэна отпели в церкви Ильи Обыденного. Все было торжественно и чинно, так что Мэн получил некоторое удовольствие. А теперь вот настало время панихиды. Мэн приподнялся в гробу, чтобы посмотреть, много ли народу пришло проститься с ним. И удовлетворенно откинулся на подушечку. Народу было человек сто двадцать. Нормально. По рангу. Он не был ни Заслуженным, ни Народным. А впрочем, если бы он ими был, его панихидили бы не здесь, а в конференц-зале Союза кинематографистов в случае Заслуженного, или в фойе Большого зала в случае Народного. Да и венков было бы поболе. Добавились бы официальные. А так всего два: от семьи и от благодарного народа России.
«Сейчас, – думал Мэн, – ритуальная чувиха предложит кому-нибудь сказать прощальные слова. Интересно, кто будет вести панихиду? В таких случаях очень много зависит от конферансье. Сможет ли он собрать публику, как следует продать очередного выступающего, чтобы похороны имели успех? А, все в порядке». У его изголовья встал шоумен, хорошо зарекомендовавший себя на презентациях фильмов, ресторанов, юбилейных вечеров, также непревзойденный тамада. Старшему он, должно быть, влетел в копеечку. Шоумен, как бы услышав посмертные мысли Мэна, наклонился к его изголовью и, сохраняя на лице профессиональную улыбку, прошептал почти не шевеля губами:
– Как ты мог подумать, Мэн? Чистая халява. По зову сердца. – И, повернувшись к собравшимся, уже профессионально начал: – Добрый день, дамы и господа. Сегодня мы прощаемся с нашим другом, товарищем, отцом, мужем и любовником.
Шоумен сделал паузу, и во время ее три женщины разных возрастов по очереди хлопнулись в обморок.
«Вторая, – подумал Мэн, – ни при чем». Ее он не мог припомнить ни в каком качестве. Тут же выяснилось, что она перепутала ритуальные залы. Ее вынесли по нужному адресу, и Шоумен продолжил:
– Покойный много сделал и многое не сделал. И неизвестно, за что ему будут благодарны потомки, – и опять сделал паузу. Собравшиеся осмыслили сказанное, и послышались сдавленные смешки. – Он много внимания уделял молодым художникам.
Еще две молодые мультипликаторши хлопнулись в обморок. А одну стошнило.
«Чего это она? – удивился Мэн. – Я же был в презервативе… К тому же прошло двадцать пять лет».
И в это время Шоумен предоставил слово Великому.
– Невозможно себе представить Мэна мертвым. Он всегда был такой живой. Живее всех живых. Его юмор всегда поддерживал нас, когда нам было плохо. Когда уже казалось, что хуже быть не может. Но после его шуток оказывалось, что может. И вот его нет среди нас. Но мы всегда будем вспоминать его незлым, тихим словом. Долгие годы он казался мне довольно-таки тупым и ограниченным человеком, с таким же тупым и ограниченным площадным юмором. И только к концу его жизни я понял, что это мне не только казалось. Таким он был на самом деле. Абсолютно цельным в своей доведенной до совершенства тупой деятельности… За что и был любим широкими кругами малолетних граждан нашей затраханной страны.
Мэн лежал и не мог понять, хорошо ли о нем говорит Великий или очень хорошо. Но все равно было приятно. А Великий, между тем, продолжал:
– И вот он умер, ни хера не оставив взамен себя семье и детям. Ибо до последних дней был сущим бессребреником. Все, что он зарабатывал непосильным трудом на ниве мультипликации, непосильным трудом пропивалось в ближайшие дни с близкими ему людьми. А также хрен знает с кем.
«Ну, это он уже чересчур, – подумал Мэн. – Я всегда выпивал только с близкими людьми. Потому что стоит с кем-нибудь выпить, как он тут же становится близким».
– Все это говорит о том, что Мэн был очень широким человеком.
– Широк русский человек, – раздалось из толпы похоронщиков, – не мешало бы сузить.
– Верно, – подтвердил мысль Великий. – Как истинно русский человек еврейской национальности, он был широк в мыслях, действиях и поступках.
– В действиях и поступках – это тавтология, – приподнявшись, поправил Великого Мэн.
– Вот видите, – радостно подхватил Великий, – даже сейчас, когда он умер, он продолжает оставаться с нами. С его друзьями, детьми, соратниками и соратницами.
На последнем слове одна из соратниц бросилась на гроб со словами:
– Миленький ты мой, возьми меня с собой! И в том краю далеком я буду тебе женой.
– Милая моя, – ответил ей Мэн, – взял бы я тебя, но в том краю далеком нет ни жен, ни мужей. Евангелие от Матфея. Так что отвали и не разрушай торжественности минуты.
Соратницу отвалили, а Великий поспешил закончить речь:
– Он создал совершенно новый стиль русской народной сказки. Как-то Александр Сергеевич Пушкин сказал о них Алексею Максимовичу Горькому: «Что за прелесть эти сказки. Каждая из них – поэма». Ну что же, Мэн, прощай. Мы допишем то, что ты не дописал, допьем то, что ты не допил, доспим тех, кого ты не доспал, – и ушел в толпу.
– Следующим номером нашей программы, – продолжил работу Шоумен, – выступит Художник, с которым Мэн сделал пять фильмов и двадцать четыре рекламных ролика. Это один из оставшихся в России четырех битлов советской карикатуры. Ринго Старр живет в Америке. Джон Леннон и Джордж Харрисон отсутствуют по уважительной причине.
– Что это за уважительная причина? – спросил кто-то из любопытных.
– Поверьте мне на слово, – проникновенно сказал Шоумен, – они сейчас готовятся к встрече Мэна, – и картинно откинул в сторону правую руку.
Присутствующие продумали сказанное Шоуменом, посмаковали и уважительно похлопали. А к изголовью вышел Художник. Мэн слегка затосковал. Он много раз общался с Художником и знал его страсть к длинным красивым тостам. Он произносил их в застолье, в сауне, в паузах в работе. Однажды он скинулся с какими-то двумя гражданами СССР на бутылку и стал говорить тост на стройплощадке. Граждане СССР набили ему морду, отбили почки, но не отбили охоту к произнесению тостов. Он бы мог даже сойти за грузина, но был безнадежно русским. Из самой глубины России из глухой туруханской деревни… Туруханской… Мать твою!!!
– Умер мой хороший дружочек. Никто больше не расскажет анекдотов. Никто больше не найдет причины, почему я не ночевал дома. Никто больше не утешит меня после неожиданного фиаско во время ночевки вне дома. Никто, кроме него, не мог доходчиво объяснить разницу между двадцатью годами и шестьюдесятью. «В двадцать лет, – говорил он, – семь пистонов за ночь, а в шестьдесят – один за семь ночей». Теперь придется с этим завязать.
И удрученный Художник замолчал, впервые в жизни не завершив тоста. Мэн, не терпевший незавершенки, приподнялся из гроба и что-то прошептал Художнику. Художник благодарно кивнул головой, отвернулся от всех, снял штаны, что-то проделал и торжественно повернулся к толпе. Все ахнули. Метафора «завязал» получила реальное воплощение. Шоумен зааплодировал, два раза вызвал Художника на поклон и предоставил слово Поэту. Мэн затосковал, так как не шибко уважал поэзию Поэта. Но когда Поэт начал, Мэн просветлел:
– Погиб наш Мэн, невольник дури.
Пал, оклеветанный судьбой.
С вином в груди и жаждой бури.
Поникнув гордой головой.
Поэт запнулся, полузадушенный собственными рыданьями. Мэн поднялся и закончил:
– Увы, к чему теперь рыданья,
Чужих похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданий…
– Да никто и не собирается оправдываться, – раздался голос из толпы. – Умер так умер. И не порть нам церемонию. Хоть раз в жизни будь человеком!
Но Мэн не был бы Мэном, если бы не парировал:
– В какой жизни, мудила? Я умер. И останусь человеком в смерти. – И опрокинулся навзничь.
И все вспомнили Мэна в жизни. Хорошо вспомнили. Мэн перевернулся в гробу.
– Наш концерт окончен! – провозгласил Шоумен и пригласил всех желающих проститься с Мэном.
Прощание несколько затянулось. Так как Мэн счел необходимым каждому сказать по паре слов, пожать руку, а некоторых поцеловать окоченевшими губами. А потом он умер, чрезвычайно довольный процедурой.
* * *
Мэн вернулся с собственных похорон в палату. Блондин и Брюнет слегка похрапывали. Мэн лежал без сна. Голова его наливалась тяжестью, во рту собиралась тягучая вязкая слюна. Он с трудом встал с кровати, взял сигареты и тяжело пошел в курилку. Там он закурил и пошел в туалет, чтобы сплюнуть эту слюну, которая не давала дыму проникнуть в нос, пищевод, легкие… Он наклонился над унитазом и упал на спину. Глаза его закатились, челюсти сжались, а руки и ноги задергались в судорожном припадке. Он отключился. В голове не было ничего. Но постепенно что-то начало проявляться, глаза вернулись на место, челюсти разжались, оставив на кафеле сортира два вставных зуба, а руки и ноги обмякли. Над ним склонилась Медсестра. Она вынула шприц из вены и поднесла к губам Мэна стакан воды. Мэн выпил.
– Ну вот, Мэн, вы уже довольно сильно шагнули за край. Еще один такой припадок, и вы получите отек мозга и превратитесь в овощ.
– Хотелось бы в помидор… – сказал, чтобы что-нибудь сказать, Мэн.
– Там не дают выбора. А потом вы вряд ли отличите самочувствие Помидора от Красного репчатого лука.
– Наверное, ты права. Никогда не задумывался о самоидентификации огородных культур. А который сейчас час?
– Приблизительно полтретьего ночи, – ответила Медсестра, посмотрев в окно.
– Понятно… И позволь спросить, что ты делаешь полтретьего ночи в сортире санаторного, чужого, отделения?
Медсестра слегка отвернулась, потом встала с колен, подняла Мэна и отвела его в палату. Уложив его на кровать, она поцеловала его в лоб. От нее шел какой-то почти неуловимый запах. Мэн попытался зафиксировать его в памяти, но ничего не получилось. А пока он вспоминал, Медсестра исчезла. Мэн нащупал на тумбочке сигареты, вынул одну и, шатаясь, пошел в курилку.
«Ни фига себе, – думал Мэн, – хорошенькие разговоры пойдут: Мэн помер от судорожного припадка в сортире дурдома. В состоянии Помидора… Как жил, так и закончил… Сам виноват…»
В таком состоянии Мэн представил себе другие собственные похороны.
Другие похороны
В морге дурдома в деревянном ящике лежал Помидор. Кожа его была сморщена, с белыми прожилками плесени, и чтобы как-то его освежить, на бока были нанесены румяна. Помидор лежал спокойно, обрывочно вспоминая свою отнюдь не платоническую любовь с юной Редиской. Любовь эта была безысходной, так как любой повар вам скажет, что Помидор и Редиска не сочетаются в одном салате. Уж лучше бы Мэн влюбился в Огурца. Тогда бы между ними мог образоваться союз, допускаемый в толерантных к однополым бракам огородах. Но Помидор был помидором традиционной сексуальной ориенатации и не собирался ее менять в угоду всемирной толерантности. Поэтому он вспоминал юную Редиску. Но недолго. В морг вошла Жена Помидора. Она присела на скамеечку рядом с гробом Помидора и ласково провела по нарумяненному Помидору. Он почувствал к ней благодарность и вину одновременно. Благодарность за то, что пришла, и вину за то, что на ветке он висел выше ее и заслонял ей солнце. Он был самым большим помидором на ветке и поэтому часто заслонял солнце другим помидорам. Но кто-то почему-то не срывал его, а срывал другие помидоры. Помидор чувствовал свою избранность и вовсю пил солнечные лучи и соки, предназначенные для его Жены. Так продолжалось до осени. Помидор, раздувшийся до неприличия от сознания собственной значимости, ожидал жизни вечной, но в начале октября лопнул прямо на ветке, упившись последними солнечными лучами. Бока его покрылись гнилью и его отправили на помойку, откуда он неведомыми путями попал в морг дурдома. И рядом с ним сидела его Жена, скрюченной артритом рукой гладила Мэна по нарумяненной щеке. В морг вошли Младший и Старший со служительницей морга.
– Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? – спросила она.
Все промолчали. Потом Старший перекрестился, а Младший – нет, так как был атеистом.
Потом катафалк отвез гроб с Мэном в Николо-Архангельский крематорий, где и был сожжен. Урну с прахом Мэна забрать забыли, и через год прах был высыпан на свалку увядших венков и прочего крематорского мусора, а урну загнали другим клиентам.
* * *
Вот такой вот вариант собственных похорон и проиграл Мэн, сидя в ночной курилке санаторного отделения самого знаменитого в России дурдома. Было тоскливо. Потом он вернулся в палату, лег и заснул.
* * *
В 4 часа ночи Мэн проснулся, секунд двадцать осмыслял свое положение в ночи. Он оглянулся. Лежал он не в палате, а в каком-то шатре. Не было ни Блондина, ни Брюнета. Было слегка душновато. Из-за приоткрытого от жары полога шатра к Мэну протянулась музыка, которую он никогда не слышал ни по одной из известных ему попсовых радиостанций. Музыка сопровождалась словами на каком-то странном языке, идентифицировать который Мэн не смог.
– Элохим, о элохим! («М» во втором «элохим» звучит протяжно, с закрытым ртом, 3 сек.)
Шину дай, дер сиг гедайте (грозно-задумчиво. Предвестие чего-то).
Их вил шебет ур сог (набирает силу).
А гудон, мирсашут обанес (угроза нарастает).
Эхтон, швигуден йор (мощь, сила. Примерно 1200 ватт, 56,5 килограммометра).
Бигун ту гер, орван ту гест!
Механдер вагунейзер шут!
Лейбеле мир гезан марах!
Штубезел волкер айн белух!
(Вот вам всем, суки! Отдохнете!)
Некоторое время Мэн прислушивался к музыке, выглянул наружу. Вокруг спали такие же шатры, и с неба смотрели незнакомые звезды. (Впрочем, и раньше звезды были для Мэна незнакомы.) Мэн посмотрел на себя и увидел, что его рука медленно, но верно покрывается густым черным волосом. Тонкие интеллигентские пальцы на глазах разбухают, на ладонях твердеют мозоли. Мэн оглядел себя, чтобы посмотреть, как реагирует тело на странноватое поведение рук, и обнаружил в нем весьма существенные изменения. Вместо старого дряблого чувака обнаружился косматый самец с грозными буграми мышц. Это новое состояние тела понравилось Мэну. Особенно его восхитил его собственный член. Таких членов Мэн не встречал даже у негров в порнографических фильмах. Член наливался, разбухал, твердел и превращался в один из столпов, на которых держится Вселенная. А в груди Мэна начало клокотать что-то темное и непереносимо гордое.
– Элохим, о Элохим!.. – взревел Мэн. Звук был мощный, грубый, с первобытной хрипотой. – Шину дай, дер сиг гедайте… – пел дальше Мэн.
Мэн вернулся в шатер. Там он вдруг увидел лежащую обнаженную Медсестру. Она тихо смотрела на Мэна.
Мэн заговорил на древнееврейском:
– О, ты прекрасна, возлюбленная моя! Глаза твои, бля, голубиные под кудрями твоими, волосы твои, бля, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Зубы твои, бля, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни…
Мэн передохнул, показал Медсестре свой коллекционный член и спросил на иврите: «Видала?..» Та помотала головой. Мэн возлег к ней на ложе и уловил так долго ускользавший от него знакомый запах.
– Как зовут тебя, возлюбленная моя?
– Файка, – ответила Медсестра, – проститутка из твоего далекого прошлого. Которую ты впервые в своей жизни поцеловал. И которую ты впервые поцеловал в ее жизни. И я этого никогда не забывала. Поэтому и приходила к тебе, когда ты находился между нашими мирами. Чтобы удержаться в своем.
– А где твой мир? – спросил Мэн.
– В тебе, – ответила Медсестра и потянулась к Мэну. – Меня убили в пятьдесят третьем, во время похорон Сталина. Сначала мусорской конь ударил копытом в грудь, а потом по мне прошло несколько тысяч ног. От меня ничего не осталось. Но я вернулась к тебе. Люби меня, Мэн. Ведь меня никто никогда не любил. Кроме тебя…
Мэн вдохнул запах пудры «Кармен» и познал Медсестру как первую в своей жизни женщину.
И призрел Господь на Медсестру, как сказал, и сделал Господь Медсестре, как говорил. Зачала Медсестра и родила Мэну сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Мэн имя сыну своему, родившемуся от него, которого родила ему Медсестра, Исаак, сокращенно Младший…
А потом Мэн по наущению Господа изгнал из дома в пустыню Первую Жену свою с сыном своим Измаилом, сокращенно Старший, от которого потом пошли арабы. Очевидно, что именно вследствие этого события арабы и возненавидели евреев. Хотя, по идее, все свои претензии они должны предъявлять Богу, ибо именно Бог, а не Мэн, виноват в том, что арабы много тысячелетий вынуждены были шастать по пустыне. Так что, ребята из Хамаса, все вопросы к Богу, который, как вам должно быть известно, един и для евреев, и для арабов.
Но это так… размышления по поводу. К данному повествованию они не имеют никакого отношения.
А с Мэном до поры до времени все было нормально. Пас стада, растил сына Исаака, сокращенно Младшего, вспоминал сына Измаила, сокращенно Старшего. И все было хорошо, пока Бог не стал искушать Мэна. То есть потребовал доказательств Мэновской любви к Богу.
– Значит, так, – сказал Бог Мэну, – возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака…
– Сокращенно Младшего, – вставил Мэн.
– Сокращенно Младшего, – согласился Бог, – и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе.
– Господи, – укоризненно сказал он, – тебе же арамейским языком было сказано: «Не вводи нас во искушение», а ты что творишь?
– Все, что можно, я уже сотворил. А делать что-то надо. Вот я и искушаю. А потом тем, кто искусился, отмщаю. Такая у меня на ближайшую вечность работа. Так что давай, чеши. Или ты меня не любишь? А? Любишь – не любишь, любишь – не любишь… Тьфу ты, язычество какое-то… Ну!..
Мэну сильно похужело, но как богопослушный еврей он в компании оседланного осла, двух отроков, сына Исаака, сокращенно Младшего, и дров для всесожжения потащился в землю Мориа.
Палило солнце, Мэн постегивал осла, осел взбрыкивал и елозил под связкой дров, отроки лениво обсуждали сексуальные достоинства осла, Исаак, сокращенно Младший, думал… А черт его знает, о чем думал Исаак, сокращенно Младший. Мэн об этом не знал. Очевидно, потому, что не мог проникнуть в мысли сына. В конце концов, он – Мэн, не Бог, и мысли других людей, в том числе и его сына, ему недоступны. Во всяком случае, Исаак, сокращенно Младший, шел рядом с отцом, сосредоточенно глядя под ноги, чтобы невзначай не раздавить твердой пяткой какую-либо легкомысленную ящерицу.
Наконец Мэн с компанией прибыли в землю Мориа.
– Господи! – возопил Мэн. – Где эта гора, где я должен замочить Исаака, сокращенно Младшего, тебе в жертву?
В словах отца Исааку, сокращенно Младшему, почудилась некоторая угроза, и он попытался ускользнуть. Но Мэн удержал его железной отцовской рукой и опять возопил к Господу на предмет указания нужной горы. И опять Бог промолчал, и опять Исаак попытался слинять. И опять Мэн удержал Исаака, и в третий раз нетерпеливо воззвал к Господу с тем же вопросом. Наверху послышалась какая-то возня.
– Кто это? – позевывая, спросил Бог.
– Это я, Мэн, Господи, – ответил Мэн, потом откашлялся и заорал дурным голосом: – Куды идти-то скажешь, хозяин?.. На какой горе Младшим, то ись Исааком, жертвовать?
– А, это ты, Мэн, извини, я задумался. Ты пришел или нет?..
– Дык! – всплеснул руками Мэн. – Как же мы могем не приттить-то? Чать вы приказали, Господи. А мы уж вас так любим, так любим, что всякий ваш приказ готовы выполнить беспрекословно точно и в срок. – И Мэн неискренне щелкнул пятками.
– Любой приказ?.. – переспросил Бог.
– Любой! – готовно подтвердил Мэн, подпрыгнул в воздух и звонко щелкнул пятками уже в воздухе.
– А если приказ преступный? – поинтересовался Бог.
– Что значит «преступный»? – изумился Мэн. – Мы люди темные, мы не могем знать, какой приказ преступный, а какой нет. Это ты нам уж пропиши сначала. Не укради там, не убий, не трахни кого постороннего. Тогда мы с превеликим удовольствием все в лучшем виде и изобразим. Правильно я говорю, Младший?
Младший, он же Исаак, согласно кивнул головой.








