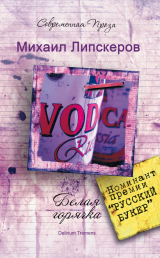
Текст книги "Белая горячка. Delirium Tremens"
Автор книги: Михаил Липскеров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
– Хороший писатель Антон Павлович Чехов.
Потом он выглянул в коридор и сказал:
– Заноси.
В палату зашел Квадратный человек и поставил на пол три громадные сумки. В палате сразу запахло!.. Все остолбенели. Такие запахи бывают только в произведениях того же Антона Павловича Чехова и Николая Васильевича Гоголя, описывающих велико– и малоросские застолья. Старший сын Мэна владел тремя московскими ресторанами. И чтобы подкормить отца, собрал из всех самое вкусное. На запах еды и Старшего сына заглянул Один. Как бы невзначай он посмотрел на часы «Лонжин», чтобы Старший сын понял, что к чему. Старший сын посмотрел на отца, на часы, на Одного, на Квадратного человека. Тот аккуратно поднял Одного в воздух, снял с него часы и передал Старшему сыну. Тот положил их в карман и коротко спросил у Одного:
– Сколько?
– Восемьдесят баксов.
– И куртку «Адидас», – добавил Адидас.
Старший сын достал из бумажника две купюры по сто долларов и засунул их в рот висящему Одному.
– Жуй, – спокойно сказал он.
Один отрицательно покачал головой. Тогда Квадратный человек зажал ему нос и резко стукнул Одним в пол. Две сотни баксов провалились внутрь Одного. Тот тяжко вздохнул и попятился к выходу из палаты.
– Куртку «Адидас», – кинул ему вслед Старший сын, и через секунду куртка образовалась.
А еще через секунду она вернулась на круги своя. То есть на самого Адидаса. Который незаметно вышел из палаты.
– Значит так, пап, здесь все, что бы вы все обожрались. Завтра тебя переведут.
– В санаторное? – спросил Мэн.
– Завтра будет видно, – ответил Старший сын. – Если ты хоть чуть-чуть сохранишься, то в санаторное, а если… – и он слегка потрепал Мэна по затылку.
– Да все будет в порядке, сынок.
– Насчет «в порядке» я уже слышал, – сказал Старший сын и вздохнул.
Мэн кивнул головой. Он понимал, что хотел сказать Старший сын, но не мог это выразить словами. Он же ведь мыслил мультипликационными образами для детей младшего и среднего возраста. Для которых тема алкоголизма была не самой актуальной.
– Кстати, тетя… (имя Жены Мэна, которую Старший сын от первой мэновской жены по детской привычке называл тетей) хотела зайти.
– Ни в коем случае!!! – заорал Мэн на все отделение. Он всегда в середине и конце запоя чувствовал перед ней колоссальное чувство вины…
Флэшбэк
Лет десять тому назад Мэн лежал в своей комнате, проснувшись в самой середине зимней ночи. Он осмотрелся вокруг себя и ничего не увидел, потому что в середине зимней ночи в Москве очень темно. А свет ему зажигать не хотелось. Он подумал о Жене, спящей в соседней комнате, и ему стало ее бесконечно жалко. Опять ей завтра бежать в магазин. Опять пытаться затолкать в Мэна хоть какую-нибудь еду, опять слышать его настолько глубокомысленные рассуждения, что сам Мэн не мог понять, в чем заключалось их глубокомыслие, опять… Да что там говорить… Бедная женщина. Какие у нее радости? Нет, разумеется, были дети, работа, собака Колли, а вот чего-то не было… Так грустно размышлял Мэн.
И тут его осенило. Куплю-ка ей цветы и осыплю ими ее, спящую. Чтобы, проснувшись, она ощутила запах роз, раскинутых по кровати… Или, нет, пусть они будут стоять у ее изголовья в роскошной вазе. И первое, что она увидит, открыв глаза, будут бутоны красных роз.
Мэн встал, тихо оделся, попил воды из-под крана, залез в карман. Денег было много. Собственно говоря, и в запой-то Мэн ушел, получив много! За два сценария сразу. Три четверти он отдал в семью (кормилец, падло). А остальное… Так что башли были.
Через пять минут Мэн сидел в такси и, отпив из благоприобретенной пол-литры, обсуждал с таксистом, где в глухую зимнюю ночь восемьдесят третьего – восемьдесят четвертого года достать красные розы. Таксист немного поразмышлял: с таким необычным желанием он сталкивался впервые в жизни. Чтобы вроде нормальный мужик ночью искал не водку, не баб, а розы… для жены… Это было выше его понимания. Тем более что у него жены не было. Он был молод и немного поживал с диспетчершей таксопарка. А к ней он приходил с бутылкой водки и бутылем «Лидии». Диспетчершу так звали, и это была такая шутка, над которой они каждый раз смеялись после нехитрых совокуплений. Об этом он поведал Мэну во время размышления, а в конце размышления он пришел к какому-то выводу и рванул по ночной Москве. Они выехали на Садовое кольцо, промчались до тогдашней Лермонтовской площади, свернули к Комсомольской, чесанули по Русаковской и у Сокольников свернули налево. Огородами просочились к Лосиноостровской и ломанули в какой-то неприметный двор. После недолгой ломки из калитки вышел Человек в одной кепке и в обмен на три чирика выдал Мэну пять роскошных красных роз. Цена была бешеной, но эти розы того стоили. Они пахли! Что для Москвы последних десятилетий было невозможно.
Еще через сорок минут Мэн стоял в кухне своей квартиры и наливал в хрустальную бабушкину вазу воду из-под крана. Поставив пахнущие розы в вазу, Мэн отхлебнул водки и воодушевленный пошел в комнату Жены. Тихонько приоткрыв дверь, он на цыпочках пошел к тахте, на которой спокойно дышала Жена, и… споткнулся о спящего около тахты Колли. Ваза полетела на Жену, окатив ее и Колли водой. Колли взрычал и по инерции цапнул Мэна за голень правой ноги. Тут, в свою очередь, взрычал Мэн и упал на проснувшуюся Жену. Та включила свет, выбралась из-под рычащего Мэна, успокоила Колли, хотела было разгневаться, но вдохнула воздух и уловила запах роз.
– О господи, – сказала она, – и что мне с тобой делать?
А потом взяла тряпку, вытерла воду с пола, вытерлась сама, снова налила в вазу воды и поставила в нее разлетевшиеся по тахте и полу розы. Они пахли. Жена смеялась, а потом заплакала. Заплакал и Мэн. Он ушел в свою комнату, допил одним глотком водку и, плача, лег. Он еще долго плакал, жуя кончик одеяла, пока Жена не пришла к нему в комнату и не стала гладить его по голове. И Мэн заснул.
А когда утром он проснулся, чтобы выйти к своим дворовым собратьям, Жена молча проводила его глазами. Свои глаза Мэн прятал. Ему было необыкновенно не по-похмельному плохо.
* * *
Поэтому-то Мэн и отказал Старшему сыну в приходе Жены. Зачем? Чтобы она опять увидела его пьяным? Ну уж нет. Она придет к нему, когда он будет абсолютно трезвым, когда белки глаз станут белыми, а черное лицо посмуглеет, из взгляда исчезнет безумие и во всем облике проявится присущая Мэну мягкость, доброта и одухотворенность. (Так он думал о своем трезвом облике.)
– Значит, пап, у тебя последний шанс. Полежи пока здесь, а там, в зависимости… либо опять в реанимацию по жесткому курсу, либо – в санаторное. С врачами я договорился.
Потом он глянул на Лысоватого, по-прежнему связанного и раскачивающегося в позе пресс-папье и прошептал:
– Лысоватый, и ты тут?..
Лысоватый глянул на него через плечо, через вывернутые назад руки, и поклонился Старшему сыну, насколько это было возможно:
– Проходите, господин хороший.
– Вот тебе и раз, – сел на койку Старший сын, – это ж мой пропавший два года назад швейцар из «Ямакаси». Мы-то думали, где он? А он тут. А между прочим, человек с родословной. Из дворян. Расстрелянных в подавляющем количестве. Единственный из всей фамилии доживший до времени, когда дворяне опять стали людьми.
– А этот, стало быть, опозорил фамилию?.. – встрял Одновозрастный. – Если в швейцарах.
– Что значит «опозорил»… После революции его дед, чтобы семью прокормить, стал швейцаром в «Савое», потом там же швейцарил его отец, а теперь вот и он. Я его взял за отсутствие присущего швейцарам хамства. Да и швейцарил-то он у меня чисто номинально. Сидел в кресле в мундире Преображенского полка, в дедовой фуражке, курил чубук и вслух читал Тютчева. На него народ валом валил. И, что необычно, никогда не брал в рот ни капли.
– Так как же он здесь оказался? – спросил Мэн. – У него ж типичная «белка». А до нее допиться нужно уметь. У меня вот не получилось ни разу.
– А у меня – три, – похвастался Пацан.
– С утра было две, – одернул его Одновозрастный.
– Ну две, две… – вздернулся Пацан. – А вот у Мэна ни одной. А он старше меня почти в три раза. Вот так вот! – закончил он и пренебрежительно глянул на Мэна.
– А было так… – начал Старший сын. – Пару-тройку лет тому назад была у меня в «Ямакаси» корпоративная вечеринка. Одной фирмы. И были разные обезьяны из нынешнего бомонда. И одна из них, красавец, талантище в работе, тоже из аристократов. Он за герб и родословную тридцать тонн зеленых отдал. Так вот он с нашего Лысоватого фуражку прадеда снял, швырнул ему пять сотенных зеленых. Я этого не заметил. А Лысоватый с того времени пропал. Вот уже два года. А он, оказывается, тут. Не вынесла душа поэта.
– А этот аристократ?.. – спросил Адидас.
– Этот, – ответил вместо Старшего сына Мэн, – в этой фуражке по всем фестивалям и телевизорам околачивается. Сучонок. Из-за него хороший человек в дурдоме оказался.
И Старший сын развязал Лысоватого, вынул из одной из принесенных сумок теплый кусок свинины и протянул Лысоватому. Потом он что-то коротко сказал Квадратному. Тот кивнул головой и вышел. Старший сын посмотрел на часы и стал распаковывать сумки. Появились салаты, мясо разных пород и форм приготовления, зелень, морепродукты и т.д., и т.п.
А потом Старший сын ушел по своим многочисленным делам. В палату вернулся Адидас и вынул из кармана куртки две мокрые сотни баксов. На вопросительные взгляды кратко ответил:
– Сунул Одному два пальца в рот. Надо просушить.
Просушили на батарее, вызвали Одного и опять послали. Тот не стал выкобениваться и пошел. Бизнес есть бизнес. Всем захорошело. Кроме Пацана. Чтобы не допустить третьей «белки». После третьей Адидас стал рефлекторно, как ковбой, выхватывать из несуществующей кобуры несуществующий пистолет и прицеливаться в головы сопалатников. А Пацану он открыл рот и выстрелил в него. Трезвый Пацан отшатнулся в ужасе, а потом рассмеялся:
– Ну ты, дядя, даешь.
А Адидас заплакал. Одновозрастный стукнул его пустой чашкой по голове. Тот успокоился и уставился в прошлое. И никто не стал интересоваться, что и кого он там видит. Не надо. Бывший Бородатый заснул в надежде во сне вернуться в Можайск, а Лысоватый опять пошел в бой. На этот раз он ехал через Приамурье в составе конного разъезда Армии барона Унгерна и вступил в схватку с чоновцами Аркадия Гайдара. Пришлось опять его превратить в пресс-папье.
Таким образом, их оставалось только трое из восемнадцати ребят. Мэн, Одновозрастный и вернувшийся в настоящее Адидас. Было покойно. Заглянул в палату Врач, сделал вид, что не видит криминала, и ушел. Понимая, что сидят солидные люди и трогать их не надо. Бессмысленно. Лечение отложится до лучших времен. Если они наступят.
А Мэн вспомнил приблизительно такой же альянс. Но было это давно. Не так, чтобы уж очень давно, но настолько, чтобы это вспоминать…
Флэшбэк
Мэн вместе с соратниками по искусству плыл на фестивальном пароходе по затейливым извивам Беломоро-Балтийского канала. И вот они вышли на безбрежную гладь Ладожского озера. Красота Севера, голубовато-свинцовая вода, небольшие волны, завершающиеся игривыми белыми барашками, невообразимая перспектива, в конце которой проглядывали голубоватые очертания острова, над которым под утренним солнышком золотились колокола древних церквей, куда всей душой стремилась душа каждого истинно православного еврея. Это был известный всему миру Монастырь.
Фестивальный пароход причалил к причалу и оказался у этого причала третьим. Мэн, заплативший за экскурсию по Монастырю двадцать долларов, с благоговением вступил в маршрутное такси. Вместе с ним в такси вступили его молодые соратники по искусству. Они тоже жаждали приобщиться. Один из них приехал из Швейцарии, куда уехал из Екатеринбурга в поисках лучшей мультипликационной доли. Другой оставался в России, потому что было заведомо ясно, что нигде, кроме России, никакая доля ему не светит.
И вот они в составе экскурсии подъехали к воротам Монастыря. Там стоял Монах и проверял билеты. И когда наша троица уже была готова вступить в одно из лон русского православия, к воротам подошел какой-то Человек и попытался пройти в Монастырь. Монах спросил у него билет. У того билета не было. Он не на экскурсию шел, а помолиться. А вот тебе и хрен! Без билета в чужой Монастырь! А мне по …, что у тебя денег нет! Ишь, помолиться ему! Пшел! Короче, есть билет на балет, на трамвай билета нет. Все. Недопущенный, понурив голову, пошел прочь. Действительно, какого…
Увидев это, Мэн вышел из очереди, сказал Монаху: «Сука» – и вместе со товарищи направился в сторону магазина, аккурат расположившегося напротив ворот Монастыря. Вокруг магазина торговали колокольцами с наименованиями Монастыря, святой водой, копченой рыбой и оренбургскими платками. Швейцарец приценился к копченому лещу.
– Пять долларей, – сообщил продавец.
Швейцарец, втянув запах леща, потянулся в карман. Но Мэн попридержал его за руку и спросил Продавца:
– Лещ освященный?
– А как же?! – обиделся продавец. – Чтобы лещ да неосвященный…
Взяли леща и вошли в магазин. Там усиленно торговали четвертинками водки с именами святых. Их было великое множество. Каждый желающий мог найти водку своего небесного покровителя.
– Прямо какой-то православный луна-парк, – прошептал про себя Мэн, а вслух сплюнул. После чего они набрали четвертинок со своими ангелами и ангелами ближайших родственников, друзей и любимых. Естественно, все они были освящены. Неохваченными Монастырем оказались только пластмассовые стаканчики. А потому и стоили недорого.
А потом они сели в обратную маршрутку, дружно помолились в ней, поцеловав четвертинки, поехали и высадились на берегу небольшого заливчика около большого плоского камня. От дороги их отделяли крутые сосны корабельного типа. Петр Первый еще очень такие сосны уважал. Они поставили на камень четвертинки, копченого леща и выпили. Было очень хорошо. Мэн опрокинулся навзничь в густые травы и стал полной грудью пить бездонную синь неба. Ладожское море смеялось. (Большая Литература, однако.)
Из-за сосен вышел Недопущенный. Наши гостеприимно подозвали его к столу-камню. Тот сел, выпил и посетовал, что вот, из Нижнего Тагила добирался, чтобы помолиться за упокой своей безвременно погибшей от изнасилования дочери. А тут такие дела.
– Молись здесь! – сказал Мэн. – Этот камень от Бога поставлен, а этот Монастырь… – и Мэн из носа втянул в горло сопли и харкнул в сторону невидимого Монастыря. И все помолились. Потом выпили еще, закурили привезенную контрафактную швейцарскую марихуану и поймали кайф.
Пошел теплый летний дождь. Над камнем быстро соорудили нехитрый шалаш. Проходящая мимо Женщина с малолетней дочкой попросилась в шалаш переждать дождь. Конечно, ее пустили. Тем более что Женщину также не пустили в Монастырь помолиться за погибшего в горячей точке отца девочки.
– Молись здесь, – приказал подвыпивший Мэн. Его соратники кивнули головой.
– Дак я имени его не знаю, – сказала Женщина, – все перед боем получилось. А он совсем молоденький…
– Эх, – крякнул Мэн, – мы идем на запад, Отрада, и греха перед пулями нет… – И добавил: – Молись за души всех невинно убиенных…
Вдали раздался гудок теплохода. Творческие работники быстро допили и вышли из шалаша. Недопущенный и Женщина с дочкой остались.
– Живите с миром, – сказал на прощание Мэн и перекрестил их. Потом художники перекрестились на остающийся шалаш с камнем и пошли на теплоход.
А вокруг шалаша стали возникать новые шалаши. В них селились, плодились и размножались люди.
Прошла тысяча лет. И каждый год обитатели поселения приносили к камню своих новорожденных детей и говорили:
– Здесь пили наши боги.
* * *
– Хорошая история, – после недолгого молчания сказал Одновозрастный, а Адидас поцеловал Мэну руку, поднес к виску указательный палец, сказал: «Кхххх» – и умер. Причем на подушке около виска растеклось красное пятно. Одновозрастный перекрестился и закрыл Адидасу глаза. Поднялась суматоха, понабежали медсестры, врачи, и Адидаса унесли туда, где не убивают мальчиков, не насилуют девочек и где не надо глушить себя водкой. В мир абсолютной трезвости. А уж приблизит его к себе Бог или будет держать на бесконечном от себя удалении, этого никому знать не положено. «Вырастешь, Саша, узнаешь».
Одновозрастный было наладился проводить его, но оказался привязанным к койке, как, впрочем, и все остальные обитатели палаты, от которых пахло! И все получили по уколу «сульфы». Кроме Лысоватого, который был привязан и без того. И Пацана, которого перевели в другую палату, где лежали его сверстники, косящие от армии. И вот все они лежали и мучались. Только мычали, хрипели, вздыхали, а Одновозрастный потихоньку протяжно взвывал:
– Прицел… Уровень… Ориентир номер… Убейте меня… – Он тоже хотел умереть, но на двоих счастья не всегда хватает.
Мэн мучался молча. Он не мог говорить, не мог думать, он мог только мучаться. А в чем состояла эта мука, он сказать не мог. То есть ему было плохо и физически, но это было далеко не самым важным. Он, возможно, тоже хотел бы умереть, но страшно боялся смерти. Хотя, как порядочный христианин, должен бы к ней стремиться. Вроде бы ничего особенно дурного он в своей жизни не совершил. Так, были всякие мелкие пакости, но Мэн за них уже покаялся. На глубокой исповеди в одном из бедных монастырей, куда специально и поехал для этой цели. К Настоятелю монастыря, который был однокурсником Старшего сына по театральному училищу. А пакости были, действительно, мелкие. Ну, ударил беременную Жену в припадке пьяной ревности, ну, вытащил у товарища из кармана двадцать пять рублей, ну, путался с женщинами. В том числе и с женами своих товарищей. Но ведь это было по любви, а любовь, если себя уговорить, оправдывает любой грех. Правда, были и просто перепихиванья, но это не в счет. Некоторое помрачение члена. А кто из вас этого не делал? А?.. Положа руку на сердце?.. Все ли честны перед собой?.. И перед Богом?.. И помилует ли вас Господь, даже если вы раскаялись в этих мелких пакостях? И не важно, что вы принесли людям много добра, бились за кажущуюся вам справедливость, помогли людям деньгами, мирили ставших врагами друзей, пристраивали знакомых и незнакомых в больницы, терпели гонения от безбожной власти и пр., пр., пр. Но ведь в тишине собственной души гордились этим. И даже вам самим было неясно, ради себя или ради других вы совершали все эти благие деяния. И кто знает, какая чаша весов перевесит. И не скажешь ведь: «Прости меня, Господи, ибо не ведал, что творил». Все ведал! Но не мог сдержать себя. Либо по пьяни, либо по тщеславию, либо по гордыне, либо по дикой неумеренной злобе. И единственное, что может тебе помочь, так это твоя вера в милосердие. Что и ко всякой последней скотине может быть проявлено милосердие и не придется корчиться в тоске, что ты на веки вечные обречен оставаться наедине с этой тоской. Что память, которую в этой жизни можно задавить, в той навсегда останется с тобой, и каждую секунду ты будешь сам себе всадником на вороном коне, и чаши весов грехов твоих и благих деяний будут вечно метаться то вверх, то вниз. И ныне, и присно, и во веки веков.
Так прошло два дня. Лежащие нехотя переговаривались. Только Одновозрастный все время вел беспорядочную артиллерийскую стрельбу. А посему его увезли в Поливановку – место, где он всегда будет метаться между прошлым и настоящим и где никакая водка не принесет ему стабильности во времени. Потому что ее уже не будет никогда. Он до конца своей жизни будет жить в аду. Пока не уйдет в другой, а там… Впрочем, читайте выше.
Наконец, следы гулевания были изгнаны из тела Мэна и Бывшего Бородатого. Все это время их ненадолго отвязывали, чтобы они могли помочиться в утку и погадить в судно. Но Мэн помочиться мог, а вот погадить стеснялся. Потому все остатки празднества и обыденной больничной пищи держал в себе. И когда его, наконец, развязали окончательно, не усмотрев признаков «белки» и повышенной возбудимости, а также отсутствие алкоголя в крови, Мэн решил торжественно сходить в туалет, чтобы, как настоящий мужчина, гордо сесть на унитаз в позе орла, освободить тело от шлаков и возродиться к новой чистой жизни. Но, как оказалось, сделать это оказалось невозможно. Едва Мэн попытался встать, как ноги его подкосились, и он упал. Встать самостоятельно не удалось, как, впрочем, и с помощью неизвестно откуда появившейся Медсестры. Она же была не из этого отделения. И как она здесь появилась? Ума не приложить. Она подтянула Мэна к кровати и с видимым трудом взволокла его на нее. Потом посмотрела на ноги и выругалась.
– Извините, Мэн, но у вас очень сильно отекли ноги…
«Доигрался, – подумал Мэн, – облитерирующий атеросклероз дал себя знать». А вслух сказал:
– Детка, отведите меня в туалет. Мне по-большому надо.
– Так вот же судно! – сказала Медсестра.
– Не могу в судно, – замотал головой Мэн.
– Гордый? – спросила Медсестра.
– Чувствительный, – полусогласился Мэн.
Медсестра вздохнула, посадила Мэна на кровати, взяла сзади под мышки и поволокла в туалет. Вслед за ними волоклись мэновы ноги.
«И откуда у этой чувихи столько сил? – думал волочимый Мэн и заключил про себя: – Да, есть женщины в русских дурдомах…»
Наконец, Медсестра дотащила Мэна до туалета, согнала с одного из двух унитазов Азербайджанца, читавшего, судя по первой полосе, завтрашний номер «Литературной газеты», и посадила на него Мэна. И Мэн до глубины души прочувствовал фразу: «И будет вам счастье».
А потом Медсестра отволокла Мэна обратно в палату, уложила в кровать и отправилась на поиски врача. А Мэну стало страшно. Не столько за ноги, в конце концов, он работал не ногами, а вообще, как бывает страшно только после сильного похмелья. И он вспомнил эссе, написанное и опубликованное им во времена…
Эссе о страхе
Жутко страшно просыпаться с похмелья. Страшно смотреть на шаловливые ручонки. Страшно трудно оторвать потную голову от подушки. Страшно хочется портвейнового вина. Страшно, что оно не приживется в истомленном организме. Страшно, что на портвейновое вино может не хватить денег. И вообще – с похмелья страшно абсолютно все.
Страшно, что, когда я пойду за портвейном, на меня нападут рэкетиры и потребуют половину из имеющихся у меня шестидесяти рублей. И страшно, что я не смогу их отдать. Потому что шестьдесят рублей состоят из трешек и рублей, а трешки и рубли они не принимают.
Страшно, что все подорожает еще больше. И страшно, что, когда подорожает еще больше, исчезнет совсем.
Страшно, купив порцию кооперативного шашлыка, найти в нем шерсть. И страшно узнать в ней знакомого эрдельтерьера Феликса.
Страшно, что дом опять поставят на капитальный ремонт. И страшно, что они опять соединят водопровод с канализацией.
Страшно идти получать ваучер. И страшно, что на него достанутся акции предприятия, с которым сотрудничаешь.
Страшно, что старые добрые случайные связи стали называться эротическим массажем. И страшно, что второе, в отличие от первого, трудно получить даже с получки.
Страшно, что курс доллара упадет по отношению к немецкой марке. И страшно, что я не понимаю, почему мне от этого страшно.
Страшно, что коммунисты придут к власти. И страшно, что они сожрут все, что осталось от демократов.
Страшно, что азербайджанцы примут меня за армянина, армяне – за азербайджанца. И страшно, что меня отметелят боевики из РНЕ за то, что я – еврей, или мифические сионистские боевики за то, что я – не сионист.
Вообще с похмелья страшно абсолютно все. Хорошо, скажете вы, если тебе с похмелья так страшно, брось пить. Да как же я могу бросить пить, если трезвым мне страшно. Страшно, что…
* * *
А Медсестра привела Врача, тот откинул одеяло и посмотрел на опухшие ноги Мэна.
– Так, – сказал он, – нужно позвонить его Жене или еще кому. Это дело не по нашей части. Это мы вылечить не можем. Соматика не по нашей части. Ее мы не лечим. Наше дело – душа. – И, подумав, добавил: – Пытаемся, по крайней мере. Так что пусть семья решает, куда его определять.
Мэн даже обрадовался некоторой перемене участи, сейчас кто-нибудь придет и все за него решит. Главное – самому ничего не решать. Жутко надоело брать на себя ответственность. За себя еще куда ни шло, а вот за других, связанных с ним, с его действиями, поведением, слабостями… Жена, дети, друзья и вообще масса людей в той или иной степени зависели от него. Вне зависимости от того, подозревал Мэн это или не имел об этих людях ни малейшего понятия. Никто не знает, как наше слово отзовется. Но уж отзовется – это точно.
Очевидно, эти размышления заняли у Мэна довольно много времени, потому что когда он вернулся из них, около его постели стояли Медсестра, Врач, Жена, Старший, Младший сыновья и какой-то Жизнерадостный Хрен в костюме от «Живанши». Этот Хрен откинул одеяло и, показав окружающим на ноги, радостно сказал:
– Прелесть какая!.. Прямо для учебников! Сильно болит?
Мэн, до этой минуты погруженный в экзистенциальные экзерсисы, взглянул на свои ноги и понял, что они болят. Сильно болят. Очень сильно. О чем он честно и поведал Жизнерадостному Хрену и всему собравшемуся вокруг него обществу.
– Все правильно! – воскликнул Жизнерадостный Хрен и добавил хрестоматийное: – Еще один день, и ножки можно выкидывать на помойку! Может, только ножки, а может, и вместе с вами. Ах, как вовремя вы меня позвали! Молодец, – сказал он Медсестре, – вовремя засекли. Повезем ко мне, в …дцатую градскую. Вызывайте «скорую»!
Жена, Старший и Младший вытащили мобильники.
– Не надо, – сказала Медсестра, – на нашей отвезем. Я уже вызвала.
– И когда успела… – пробормотал Врач.
– Когда надо, – отрезала Медсестра, и в палату вошли два амбала с носилками.
Водрузив Мэна на носилки, они сволокли его вниз и загрузили в «нашу». Старший сунул им что-то. Сунул Врачу, сунул Жене на всякий случай. «Сами понимаете, тетя (имя Жены), если что потребуется…», попытался сунуть Медсестре, но получил взгляд, от которого почему-то покраснел. Но потом оправился, стер краску с лица и кратко пошептался с Младшим и Жизнерадостным Хреном. Потом он было сунул руку в карман, но Жизнерадостный Хрен протестующе поднял руки и сказал:
– Только после того, как выйдет своими ногами. Вы ее благодарите, – кивнул он через плечо на Медсестру. – Если б не она… – и опять начал хрестоматийное, – если б не она, еще б…, а впрочем, я уже об этом говорил…
И Мэна отвезли в сосудистую хирургию …дцатой градской больницы, быстренько взяли анализ крови, сделали электрокардиограмму и подняли в 1122-ую палату сосудистой хирургии. В палате лежало три человека преклонного возраста. Двое из которых были преклоннее Мэна лет на пятнадцать, а один был чуть менее преклоннее Мэна. Мэн громко представился и не получил ответа. Нет так нет. Его положили на свободную койку. Вошла Местная медсестра и вколола в задницу Мэна укол. Боль в ногах стала проходить, зато стала болеть задница. Ну что ж, полного счастья в этой жизни не бывает.
Но через минуту он все-таки поверил в какое-то в меру всеобъемлющее счастье. В палату вошла Медсестра из дурдома.
«Что, она так и будет все время телепаться за мной по больницам?» – подумал Мэн.
Но она сунула Мэну под зад грелку, и болевой баланс между ногами и задницей был восстановлен.
– Если что, – сказала Медсестра, – кликните меня.
– Кликну, кликну, обязательно кликну. Нажму на левую кнопку мыши, и твой файл тут же откроется, – охотно согласился Мэн и двусмысленно посмотрел на Медсестру.
– О господи, – вздохнула Медсестра, – и когда вы угомонитесь? Одной ногой уже были там, а все туда же…
– Точно, нога там, а член все еще здесь. И все туда же. Значит, пока я жив. А вот когда я отовсюду выйду, тогда уж непременно…
– Что «непременно», Мэн, что? – спросила Медсестра.
– Тогда мы встретимся в приватной обстановке и поговорим о весне, о музыке и о любви.
– Договорились, Мэн, – согласилась Медсестра, – только сначала выйдите. – И она вышла из палаты, предварительно поцеловав Мэна в лоб. Мэн уловил какой-то исходящий от нее запах, но не успел его распознать, как в палату вошла Местная медсестра и протянула Мэну вторую грелку.
Мэн не совсем понял, зачем ему вторая грелка, если боль уже прошла, но на всякий случай по инерции предложил:
– А поцеловать? – потребовал Мэн.
– Ну обнаглел! – возмутилась Местная. – Думаешь, если за тебя платят, то тебе все можно?
– Нет, не думаю, – сказал Мэн, – но после первой грелки меня поцеловали.
– Кто? – спросила Местная.
– Медсестра.
– Нету сегодня здесь других медсестер, – сказала Местная. – Я одна. А я одна всех перецеловать не могу даже за отдельную плату. Да и грелка у нас в отделении всего одна. Здесь вам не частная клиника. – И она вышла.
Мэн задумался.
– Господа, – обратился он к больным, – меня никто не целовал? Баба такая красивая?..
– Не было здесь никаких баб, – ответил Один из пожилых, – да и господ здесь никаких нет. Господа в Швейцарии лечатся. Или, – добавил он, приглядевшись к Мэну, – в Израиле.
– Не обращай на него внимания, – сказал Почти Ровесник, – больной человек. Больной советской властью.
– Советскую власть не трожь. Она из тебя человека сделала, – привычно сказал Один из пожилых.
– Это точно. Сначала – ремеслуха, потом – на завод Ильича. И там за сорок пять лет вырос от второго разряда до седьмого. Плюс бесплатно шесть соток. На них и живем. И мой сын – там же. Так всю жизнь и горбатимся. Только внук в люди выбился. Обувной ряд на Черкизовском рынке. Машина. Но это он уже помимо советской власти наработал. Жена у него беременная, так что правнук, дай Бог, совсем человеком вырастет. Спасибо советской власти. Что она вовремя сдохла.
– Ельцинист чертов! – опять привычно выругался Один из пожилых.
А Второй пожилой перемотал эластичный бинт на ноге и поддержал Одного из:
– Об чем речь. Я при советской власти… – Он на минуту задумался, сладко припоминая, а потом неожиданно добавил: – Только эластичных бинтов тогда не было. И Папаша мой из-за ихнего безналичия помер от варикозного расширения вен. Сначала одну ножку оттяпали, потом – вторую. А потом он загрустил и помер. Так что, куда ж без советской власти… – И он, управившись перебинтовкой, откинулся на подушку и уснул.
– Как тебя зовут? – спросил Почти ровесник.
– Мэн, – ответил Мэн и тщеславно добавил, хотя его никто не спрашивал: – Сценарист мультипликации.
Обитатели приподнялись на подушках.
– А моя профессия – слесарь, – сказал Почти ровесник, – и фамилия моя тоже – Слесарь.
– Хохол он, – пояснил Один из пожилых.
– Мне это до лампочки, – ответил Мэн, – хоть турок.
– Не скажи, – ответил Один из пожилых. – Мы их кормили, кормили, а они – нас… Кравчук, Беня Эльцин и Шушкевич… Все продались ЦРУ.








