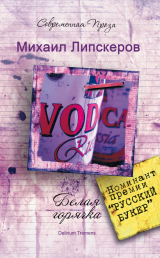
Текст книги "Белая горячка. Delirium Tremens"
Автор книги: Михаил Липскеров
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц)
– Дракула …твою мать, – прошептал Пацан, очевидно, насмотревшийся по видику всякой херни.
– Нет, дорогие, – сказал Одновозрастный, – это – шандец, а шандец не лечится.
Санитарка отодрала от лица гречишник, который подобрал Пацан и тут же съел. А Санитарка, сплюнув остатки гречки, выскочила из палаты. Явился Медбрат с врачом и щприцем. Они глянули на кровопийцу, врач кивнул Медбрату, тот кивнул Адидасу и Одновозрастному. Те схватили Лысоватого и прижали его к койке. Медбрат пустил струю из заготовленного шприца и всадил его в шею Лысоватого. И боец молодой вдруг поник головой и упал на койку, закатив глаза. Медбрат вышел и вернулся с двумя простынями, которыми сраженный шандецом Лысоватый и был привязан к кровати. И захрапел.
Остальные доели свои гречишники, отнесли на кухню тарелки, сшибли из Мэновской пачки «Явы» сигареты по вкусу и отправились в туалет. Жизнь продолжалась.
Через какое-то время всех позвали принимать колеса. Кто-то честно проглотил их сразу, а кто-то попридержал под языком, чтобы через несколько дней хватануть все скопом и отловить кайф. И через некоторое время алкаши ушли в сон. Только связанный Лысоватый пытался развязаться, но потом оставил усилия и успокоился. Ну, и наша троица тоже не спала, чтобы оприходовать контрабандную водку под украинскую полукопченую. Адидас вышел из палаты и приволок с кухни полбуханки черного хлеба. Колбасу поломали на куски, разлили водку по чашкам, приняли, выдохнули, сожрали по куску колбасы с хлебом. Все пошло как нельзя лучше. Особенно у Мэна. Да и понятно. После долгого воздержания Она идет особенно хорошо. Вот так бы и всегда. Не по кабакам, не по подворотням, не в сумрачном одиночестве дома, а соборно, в компании хороших людей, хоть и разных, но связанных одной целью (а может быть, скованных одной цепью?.. Да нет, какая цепь… Все добровольно, без невыносимой физической зависимости. Просто красиво выпить и закусить в приличной компании…).
Флэшбэк
Августовским понедельничьим утром в разгар перестройки двор дома № 7, что на Мордоплюевке, был густо заблеван азербайджанским кагором «Шемаха». А Мэн кагор из магазина в доме № 12, что напротив двора дома №8, до двора не донес и отдал его на проезжей части улицы. Сведущим людям известен цвет этого кагора, так что Гаишник долго недоумевал, что же за кровавое ДТП произошло на вверенном ему участке мостовой.
Поблевали азербайджанским кагором от души. Не то чтобы все население Мордоплюевки было сплошь армянским, а просто экзотический кагор не приживался в желудках аборигенов, привыкших к более суровым напиткам. Водка, самогон в шланбоях, портвешки «Агдам», «Иверия»… Но за уик-энд все это было выбрано по всем официальным и неофициальным торговым точкам. А у Мясника, разжалованного за честность в грузчики, ничего кроме «Шемахи» в обороте не оказалось.
И вот, не опохмелившись, мордоплюевское человечество собралось во дворе ремонтного гаража Усатого на тихой улице имени неведомого героя гражданской войны Арцыбашева, бывший 2-й Напольный переулок. 1-й и 3-й Напольные переулки по странным причинам не переименовали, и они так и остались Напольными. А насчет героя гражданской войны вообще возникали сомнения. Судя по его фамилии, было не совсем ясно, на чьей стороне он воевал.
Итак, все сидели во дворе ремонтного гаража Усатого по улице имени Арцыбашева, бывший 2-й Напольный переулок. Все были коренными москвичами без никакой лимиты, всю жизнь с перерывами на школьные каникулы, командировки, лагеря прожили в районе Мордоплюевки. Правда, Жук и Башмак уверяли, что живут и даже прописаны в Бирюлеве, но их в любое время видели здесь и только здесь и, насколько было известно, никто и никогда не видел их в Бирюлеве.
Солнце еще не было по-дневному жестоким, листва на деревьях выглядела майской, заинтересованно нюхали кустики свежепроснувшиеся собаки, трудовой люд расползался по таким же трудовым будням.
А у собравшихся во дворе ремонтного гаража Усатого трудового дня не было. Половина сидела на больничном, другая по многу лет не могла найти работу, потому что ее не искала. А Мэн вообще был человек творческий и рабочего дня, как такового, иметь никак не мог. В принципе. Так что все сидели во дворе ремонтного гаража Усатого по улице имени Арцыбашева, бывший 2-й Напольный переулок, и размышляли о безнадежности бытия, оскверненного азербайджанским кагором «Шемаха».
Усатый уже с горя было собрался ремонтировать чудом доверенный ему каким-то безнадежным идиотом «вольво», как вдруг в кичевом голубом небе остановился белый голубь. Все даже забыли о последних глотках «Шемахи», бессмысленно оставленных во дворе дома № 7 и на проезжей части Мордоплюевки, ибо в ее районе давно никто не видел голубя. Не какого-нибудь отощавшего за время перестройки сизаря, а настоящего культурного белого голубя!
Голубей помнили все с после войны, все их и гоняли, кроме Мэна. Сами понимаете, не еврейское это дело – гонять голубей. И Мотыля, человека с переносицей, вдавленной до затылка. Самого умного среди собравшихся. Можно даже сказать, гениального. Потому что только очень гениальный человек ухитрится сделать три ходки на зону, имея в папах генерала ГБ. В этом он чем-то напоминал дворянских дочерей, ушедших в «Народную волю». Послевоенные годы он учился во французской школе, и ему было не до голубей.
Так что все гоняли голубей. А Пегий и Ленинград просто считались асами в этом деле. Пегий сбегал домой, несказанно удивил жену, попросив пшена, вернулся, рассыпал пшено по крыше гаража и нежно загулькал, чтобы привадить культурного голубя, чтобы трясущимися руками прикоснуться к своему послевоенному детству. К тому, почти такому же голодному времени, когда в магазинах была икра и сосиски делали из мяса.
Все с окостеневшим вниманием наблюдали, как культурный голубь кружил над рассыпанным зерном и сел. Сел, вы понимаете, сел! Пегий осторожно взял культурного голубя на руки. И тот позволил это сделать! Он даже позволил себе попить изо рта Пегого. Хотя ему, наверное, и было противно пить отдававшую «Шемахой» слюну. Но это же был культурный голубь, и он не мог позволить себе оскорбить отказом взявшего его в руки человека.
– Голубка, – прошептал Пегий.
И тогда кодла решила построить во дворе гаража голубятню. Эта мысль не принадлежала кому-то одному, это было какое-то коллективное озарение, какая-то муравейническая идеология, общность мигрирующих леммингов, ярость выбрасывающихся на берег стад дельфинов. А идея, овладевшая массами, становится огромной материальной силой. Эта идея была погуще даже русской национальной идеи, поиском которой были вечно озабочены разномастные элиты. Хотя, как подозревал Мэн, русская национальная идея заключалась в поисках русской национальной идеи. Но дело не в этом.
Первым делом пинками по лицу изгнали каких-то охламонов, занимающихся сваркой забора, долженствующего разгородить для каких-то непонятных целей двор на две части. В районе вообще происходили непонятные вещи. Три года назад в трех местах повапленного переулка вырыли три ямы диаметром четыре метра, глубиной в три и обшили их досками. Потом рабочие ушли пить случайно появившееся пиво и сгинули. С концами. А ямы остались. Так жители повапленного переулка с ними и живут. Многие даже расстались с личными автомобилями из-за невозможности подъехать к своему подъезду ближе, чем на триста метров.
Так что сварка непонятного забора – дело на Мордоплюевке обычное. Поэтому сварщиков и изгнали с легким сердцем и стали думать о строительном материале для голубятни. О том, чтобы купить его в магазине стройматериалов, никому и в голову не пришло. Кто ж в стране в те времена покупал стройматериалы в магазинах стройматериалов? Да и не было в районе Мордоплюевки такого магазина.
Пока думали, в сопровождении изгнанных сварщиков явился Главный инженер ДЭЗа, прекрасно знавший всю команду. Тем не менее он начал задавать идиотские вопросы:
– Почему мешаете? По какому праву? Государственный забор? Почему? В то время как вся страна…
И подобную демагогическую чушь. Однако на единственный вопрос: «А на х… нужен этот забор?» – он затруднился ответить.
– Вот так-то, – злорадно сказал Пегий, продолжая спаивать Голубку. – Ломай, ребята.
Ребята не заставили себя долго упрашивать и начали крушить с таким трудом недоваренный забор. А Главный инженер пошел себе назад в свой ДЭЗ, мучительно размышляя, а на х… нужен этот забор.
Матерые руки быстро разворотили забор, Усатый притащил из гаража свой сварочный аппарат, и вскорости был быстро сварен каркас для голубятни. Если бы арматуру в Ленинакане и Спитаке варили так же качественно, то последствия землетрясения в Армении не были бы столь разрушительны.
А требующее ремонта «вольво» отогнали в соседний двор, чтобы освободить фронт работ. Владельцу же, в очередной раз явившемуся узнать, как идет ремонт, солгали, что «вольво» отогнали в Ганское посольство на консилиум к их механикам. И на этом основании Усатый взял второй аванс.
Встрепенулись. Задумались. Первым встрепенулся Жук:
– Ребята, во время работы ни-ни.
– Во время работы – это уж последнее дело, – солидно добавил Ленинград, которого с таким же основанием можно было прозвать Парижем, Лондоном или Тананариву. Ни там, ни там он не был. К слову сказать, насчет работы Ленинград загнул, так как ни одного дня в жизни не работал. В пятнадцать лет он пошел по скользкой дорожке и не сходил с нее до шестидесяти, а своеобразные правила поведения, принятые в определенных кругах общества, запрещали ему работать раз и навсегда. В последние годы он промышлял у церкви Никиты Великомученика. Он безошибочно намечал жертву, подходил, кланялся и говорил:
– Мисс (мадам, сэр, джентльмены), я три дня ничего не ел. Если не хотите, не надо, но если от души – помогите (и тут самое главное – обезоруживающе-откровенно) московскому бродяге на опохмел…
Наповал! «Кавказ» занимал 48 минут.
Краткую дискуссию подытожил Башмак:
– Потом, б…, выпьем, когда, б…, достроим эту с.....ую голубятню, ну, б…, меня на х…
Наступили редкие часы абстиненции. Полюбовавшись на намертво сваренный каркас голубятни, раскинули мозгами насчет досок. Тут ситуация складывалась щекотливая. В настоящее время строек в округе не имелось, а тащить доски с вечно реконструируемого Арбата затруднительно. Во-первых, далековато, а во-вторых, там чужая территория. Туземцы могут неправильно понять.
И тут Коня осенило. Это был звездный час Коня.
– А что, ребята, если нам разобрать доски из ям в повапленном переулке?..
Мэн, который в этом переулке жил и по нескольку раз в день мучительно размышлял (иначе, как мучительно, интеллигенция размышлять не может) над этими загадочными проявлениями перестроечного социализма, подхватил с энтузиазмом:
– Действительно, господа, это блистательное решение вопроса. Разобрать к е… м… эти доски. В конце концов, совершенно безразлично, в какую яму падать, обшитую или не обшитую…
Через час после этого неотразимого довода средняя яма стыдливо прикрывала несуществующими руками свое обнаженное чрево.
Еще через два часа бывший забор был обшит бывшей ямой. Была навешена красивая дверь, без которой прекрасно обошлась бойлерная 6-го мордоплюевского участка, вставлена изящная металлическая сетка. Ее вырезали из ограды недавно построенного пятиэтажного особняка розового мрамора в Батонном переулке. В нем должен был обитать один жутко большой хозяйственный чувак. Но когда здание было доведено до ума, жутко большой хозяйственный чувак надорвался в битве с новыми хозяйственными чуваками и с почетом свалил на пенсию. И вот уже полгода пустое здание охраняли крепкие молодые люди не шибко уважаемой в народе профессии. Мотыль потолковал с ними, как сын своего со своими, и крепкие молодые люди ненадолго отвернулись.
Значит, голубятня стояла готовой. Походили вокруг, полюбовались. Потом поместили туда Голубку, окончательно забалдевшую от слюны Пегого, навесили замок. Пьяная Голубка болталась по голубятне, и невооруженным глазом было видно, что ей в этой голубятне было тошно без мужика. Всем стало ясно, что одинокая Голубка обречена, если ей в ближайшее время не будет обозначен достойный ее голубь. А ведь где-то он должен быть. Такие замечательные голубки в гордом одиночестве долго не летают. Так что он должен быть. И где-то рядом. Не от алиментов же он скрывается. Пока все ломали голову вокруг проблемы Голубкиного мужика, Башмак, подобрав кусок газеты, скрылся за углом. Через две минуты он вернулся, рыдая.
– Ребята, – рыдал он, – Солнце, б…, через четыре, б…, миллиарда лет, станет, б…, красным гигантом и спалит, б…, все к е… матери. Ну меня на х… – и зашелся в безутешности.
– Это точно? – переспросил Жук.
– Точно. Сам, б…, читал. Там, – и он указал за угол.
Потрясенный неминуемой гибелью такого, казалось бы, незыблемого Солнца, народ поднял к нему голову. На фоне обреченного Солнца кружила стая голубей! Настоящих, культурных, как и наша кирная Голубка. Слезы на глазах Башмака моментально высохли.
– Жук! – еще не остывшим от рыданий голосом прохрипел он.
Жук бросился возиться с крышкой голубятни, пытаясь дрожащими руками открыть замок. Все суетились около дверцы, мешая друг другу как можно скорее выпустить нашу красавицу. Пока те не улетели. Чтобы ею их подманить. Не может быть, чтобы на такую бабу никто не клюнул. Недаром же шпионов через баб на свою сторону переманивают. А там, за этим голубем-шпионом, и другие. В возрожденную мордоплюевскую голубятню! Но ключ никак не хотел входить в прорезь замка. И тогда Усатый отшвырнул всех могучим плечом, гакнул и ударом кулака потомственного пролетария снес замок вместе с петлями. Пегий ворвался в голубятню, опохмелил слюной Голубку и пустил ее вверх. Все засвистели. Соловей-разбойник наложил бы на себя свои разбойничьи руки, предварительно почернев от зависти.
Взбодрившаяся слюной Пегого, Голубка взмыла в воздух. Какой-то самец, соблазненный легкой победой (пьяная женщина своей п…е не хозяйка), метнулся к ней. А поскольку-постольку заниматься любовью в воздухе не могут даже голуби, то новобрачные опустились на крышу голубятни, а затем, скрываясь от нескромных глаз, зашли и в саму голубятню. Тут же на крышу, а затем и в саму голубятню влетела и вся стая. Голуби, очевидно, чтобы поживиться на халяву, а голубки, очевидно, чтобы отговорить их от этого.
Усатый могучим кулаком вбил на место замок, и все обессиленно сели. Все. Теперь у них была своя послевоенная голубятня.
– Ну вот, мужики, теперь можем это дело отметить, – и Усатый достал из кармана второй аванс за «вольво».
Все переглянулись. Выпивать уже не хотелось, но как же… ведь дело ж… без этого никак нельзя. Мэна, который участвовал в строительстве голубятни лишь как вдохновитель наших побед (из доперестроечных лозунгов), отрядили в стеклоприемку за самогоном. Когда он вернулся с тремя фауст-патронами самогона, то строители ждали его вымытые, в свежих рубашках. Ленинград нацепил офицерский галстук на резинке, и даже псевдобирюлевцы неведомыми путями оказались чисто выбритыми. На ящике, застланном новой «Советской Россией», лежали влажная редисочка, почищенная селедочка, принесенная Пегим из дома теплая картошечка и нарезанный толстыми ломтями свежий хлебушек. А в центре стола красовался идеально вымытый двухсотграммовый стаканчик.
По давно заведенному обычаю, каждый налил сам себе по норме, но в рамках приличий, и выпил. Закусил редисочкой, селедочкой и картошечкой.
Все закурили и прислушались к живому шуму за стенкой голубятни. Было благостно и достойно. Во двор заглянул Участковый.
– Пьете? – неопределенно спросил он.
Пришлось налить.
Когда Участковый ушел, выпили по второй. Потом добили все, что было. Мало. Разбежались в поисках башлей. Ленинград вместе с Мотылем отправились бомбить прихожан. После первой пятерки на церковь наткнулся какой-то случайный негр. Ленинград произнес свою сакраментальную речь. Негр не понял. Ленинград терпеливо повторил ее второй раз, третий… И все мимо, мимо, мимо…
– Да переведи ты ему, – скривился он в сторону Мотыля, в то же время улыбаясь негру. – Ты же во французской спецшколе учился…
– Когда это было! – возразил Мотыль. – Да и практики у меня давно не было.
Что правда, то правда, в местах обычного пребывания Мотыля по-французски говорить было не принято.
– Да что ты теряешь! – продолжал одновременно кривиться и улыбаться Ленинград. – Может, у него тоже давно практики не было.
– Иль… – неуверенно начал Мотыль, указывая на Ленинграда, и замолчал. Негр намылился уходить. И тут от отчаяния Мотыль произнес классическую фразу из классического романа: – Иль не манж па сис жур. – И добавил: – Московский бродяга.
Негр молча достал из бумажника купюру в фунт стерлингов, протянул Ленинграду и отвалил от церкви. Раздумал молиться. А может, у него вера была другая…
– Беги на Арбат, к матрешечникам, – сориентировался Мотыль, – меньше, чем за тридцатку не отдавай.
Ленинграда сдуло на Арбат, а Мотыль отправился к Ней. Споткнувшись на продранном линолеуме, он влетел к Ней в комнату, держа на отлете новенький паспорт. Через секунду вылетел без паспорта с «Русской» наперевес. Когда он вернулся во двор гаража, там уже был Мэн с сорока рублями, неосмотрительно доверенными ему соседями по подъезду, держащими его за интеллигента.
Два флакона огуречного лосьона, хитро подмигивая, принесли Жук и Башмак. С Арбата, победно размахивая четырьмя чириками, возвратился Ленинград.
– Шестнадцать восемьдесят потеряли, – заметил Мэн, великолепно знавший все котировки всех свободно конвертируемых валют. Так, ненаписанный сценарий игрового фильма должен будет принести ему шестьдесят две тысячи двести долларов и восемьдесят центов. Пегому вручили все деньги, и он пулей полетел в закрывавшуюся стеклоприемку. Только что он был, и вот его уже нет, только что его нет, и вот он уже есть.
И понеслось. Усатый приволок из ремонтируемого «вольво» магнитофон, и все балдели от Шуфутинского. Лились водка, самогон, огуречный лосьон… В темное августовское небо впивались дымки криминальной травки Чуйской долины.
Потом достали еще. И еще. В этой жизни трудно достаются только первые сто граммов.
Когда утром все проснулись, голубятня уже догорала. Сгорели и голуби. Спаслась только первая белая Голубка. Ее, как с трудом выяснилось, Пегий выменял у таксиста на последнюю бутылку «Андроповки». Так что теперь Голубка, наверное, жива…
С утра в магазине № 12 давали портвейн «Агдам».
* * *
Это-то и вспомнилось Мэну в компании Адидаса и Одновозрастного. Мэн вздохнул и налил по второй. А куда денешься?..
Только-только поднесли чашки ко рту, как раздался тихий голос Бывшего Бородатого:
– Ребята, не плеснете мне чуть-чуть?
Ну как не плеснуть человеку, потерявшему два года жизни на пути из Можайска в московский дурдом. В России всегда отмечали прибытие. Равно, как и отбытие. «Со свиданьицем» и «на посошок» всегда были неотъемлемой частью российского бытия. А также и постоянным душевным состоянием русского человека. Русский человек всегда готов намылиться неизвестно куда и неизвестно зачем. Правда, очень часто русскому человеку что-то мешает, и он остается на месте годами, десятилетиями, жизнями, но в постоянной готовности куда-либо сорваться. А так как большей частью сорваться ему мешали тысячи не зависящих от него причин – типа «здесь я родился, и здесь я умру», прописки, работы, семьи, то все его стремление к перемене мест и участи сводится к вышеупомянутым «на посошок» и «со свиданьицем». Поэтому Бывшему Бородатому и налили. Он выпил и отвалился, чтобы попытаться определить, как, что и почему. И очевидно, ему это удалось, потому что он заснул. А может быть, он заснул, потому что ему это не удалось. И сон являлся единственным способом ухода от проблемы.
Наши герои снова попытались выпить, и двоим это удалось: Мэну и Одновозрастному. У Адидаса кружку вырвал развязавшийся связанный Лысоватый. Он выпил, перекрестился и с возгласом «Бей красную сволочь!» бросился на Одновозрастного с намерением боевой саблей развалить его от головы до седла. Он вздыбил верного коня и замахнулся чашкой. Адидас перехватил его. Завязалась борьба. И неизвестно чем закончилось бы это толковище генетической памяти бывших деникинцев, врангелевцев, колчаковцев или еще кого из славной когорты Белой Армии со свихнувшимся старлеем Советской, а некогда Красной, но положение спас Мэн. Он громко запел: «Мы – красные кавалеристы и про нас былинники речистые ведут рассказ», – и ударом своей кружки по голове Лысоватого обеспечил красным победу в гражданской войне. После чего Лысоватого сызнова привязали к койке без малейшего соблюдения гуманности. Мордой вниз, с руками за спиной, привязанными к ногам все за той же спиной. Адидас с Одновозрастным проделали это мгновенно и профессионально. А потом долили и выпили. А потом и допили. Водку. И доели. Украинскую полукопченую колбасу. А потом заснули успокоенные. Только у Мэна шевелилась и мешала заснуть мгновенно какая-то часть неизвестной вины. А впрочем, почему неизвестной? Он уже чувствовал, что двести долларов, которые ему привезет завтра Старший сын, пойдут сами знаете куда… Ну а часы «Лонжин»… Охохонюшки… С этим мысленным возгласом Мэн заснул.
Утром он проснулся в самую что ни на есть рань. Но было уже светло и тоскливо. Мэн пошарил глазами вокруг себя и обнаружил на тумбочке нагло стоящую водочную бутылку с плескавшейся на дне водкой. Рядом лежала подсохшая корка хлеба. На душе похорошело, а когда Мэн выпил и сожрал корку, похорошело побольше. И уже совсем стало хорошо, когда он пошел пописать и закурил сигарету «Кент». «Да, жить можно везде», – подумал Мэн и затеял душевный разговор с зашедшим с уборкой больным, уже достигшим доверия местных властей. Достигший Доверия потянул носом и моментально почуял! Так же моментально он исчез. Еще более моментально появился Один. В мэновском «Лонжине». И уж совсем мгновенно в туалете возникла фигура врача. Мэна повели в процедурную, и он узнал, что такое «сульфа». Один, казалось, не видел ничего безнравственного в своем предательстве. «Лонжин» «Лонжином», водка водкой, а душевная потребность в стуке – это врожденное! Так он и объяснил Мэну. Так что никакого предательства тут нет и быть не может. Так что игла вполне законно и вполне нравственно проникла в правую верхнюю четверть правой ягодицы, и ей (ягодице) стало жарко, а пока Мэна довели до родной палаты, жар охватил все тело. Язык заполнил весь рот и стремительно раздвигал зубы и губы, чтобы вырваться на волю и хватануть призрачной прохлады палаты, наполненной дыханием и газами спящих обитателей, непроизвольно выделяемых их задницами. Наконец, он вывалился, и в рот Мэна стал попадать хоть какой-то суррогат свежего воздуха. Но тут стало ломить ноги, а руки стали сами собой непроизвольно скручиваться в жгуты. Визуально это никак не выражалось, но ощущения были именно такими. А ощущения, как никому не известно, являются истинным состоянием человека. И плевать ему на показания приборов, градусников и прочей фигни. Как он себя чувствует, так он и есть на самом деле. Мэна неподвижно ломало, а в это время просыпалось народонаселение палаты. Адидас и Одновозрастный. Они моментально поняли, в чем дело, и через какие-то мгновения Одновозрастный оттягивал Мэну нижнюю челюсть, а Адидас вливал ему в рот воду. Мэна стали корчить спазмы в желудке. Адидас поднял Мэна за голову и наклонил ее над полом. Мэна вывернуло желчью. Пацан по приказу Одновозрастного вытер желчь собственным полотенцем, и Мэн облегченно откинулся на подушку. Принесли завтрак. Манная каша и кусок селедки. С подобным раскладом Мэн был знаком по армии. Если в раскладке написано «каша и рыба», то так тому и быть. И абсолютно не важно, какая каша и какая рыба. Так что симбиоз молочной манной каши и селедки был вполне оправдан. Мэна силой заставили сожрать все это. Но не сразу. Предварительно Адидас вышел из палаты и вернулся без верхней части «Адидаса», но с мензуркой, наполненной какой-то прозрачной жидкостью. Мэн выпил и содрогнулся от счастья. Это был чистый спирт! Видимо, Один устыдился своего предательства и решил по мере сил и способностей выручить Мэна. А то, что он взял за это верхнюю часть костюма «Адидас» Адидаса, то и это правильно. Чувство вины – это чувство вины, а бизнес есть бизнес.
Так что Мэн почувствовал себя значительно лучше и съел манку с сельдью даже с некоторым удовольствием. Обитатели палаты вздохнули с облегчением. В извечной борьбе алкоголя с наркологией победил алкоголь. Все были довольны. Кроме Лысоватого. Тот в позе пресс-папье качался на койке, что-то гневно выборматывая. Возможно, он вместе с армией Пилсудского гнал из Речи Посполитой на Украину армию Тухачевского.
А потом всех позвали в процедурную. Кого – за очередной порцией колес, кого – за ширевом в вену, кого – в задницу. Процедурной на всех не хватало, медсестер – тоже, поэтому в вену кололи в собственно процедурной, а раздача колес и ширево в задницу происходили в коридоре. В вену кололи Медсестра и Медбрат, а в задницу – Бывшая Медсестра, вышедшая на пенсию лет сорок тому назад. Ручонки у нее дрожали, поэтому с первого раза в задницу она не попадала и ширяла в тазовую кость, в крестец, а иногда пронзала шприцем воздух. Мэну она попала в копчик, и удивительным образом игла в него вошла, и Мэн получил свою порцию чего-то. Но его это не слишком взволновало, потому что ему было хорошо и без укола. Спирт свое действие оказывал и осадку давал. И все двинулись в курилку. Пацан, отоварившийся на шару у Мэна сигаретой «LD», гордо поведал, что в свои двадцать лет он уже второй раз ловит «белку». Потом гордость с него как-то сошла, когда Одновозрастный сообщил, что в прошлый свой залет один Малой хвастал, что в девятнадцать ловил ее три раза. Когда его выпустили, предварительно зашив, он в ближайшем же магазине отоварился каким-то пойлом, стал гонять вокруг магазина обжаренных в панировке котов, угодил в реанимацию, откуда его переправили в местный морг. И он так и не слетал в космос, не открыл теорию относительности, не сбацал в балете Большого театра партию Зигфрида и вообще не сделал ни хера. Даже толкового пистона он никому не поставил, кроме крайних оторв. А по любви. Так, чтобы зашлось дыхание, и при семяизвержении не распахнулись все миры разом.
– Короче говоря, у него ни разу не произошло сатори, – подытожил Одновозрастный.
– Чего не произошло? – переспросил Пацан.
– Просветления, – перевел Мэн, в свое время краткосрочно интересовавшийся дзеном.
Одновозрастный бросил взгляд на Мэна, потом ткнул его горящим окурком сигареты в лоб и, затянувшись в последний раз, выкинул окурок в унитаз. Больные стали ожидать драки и делать ставки, кто на Мэна, кто – на Одновозрастного. Но драки не произошло. Мэн уселся на унитаз в позу лотоса, хотя это технологически невозможно, так как унитаз не имел крышки, и уставился в водопроводный кран.
– Не понял, – сказал один из больных.
На самом деле не поняли и остальные, просто они этого не высказали. Только Одновозрастный спокойно смотрел на сидящего Мэна. Глаза Мэна остекленели, морщины на лице куда-то исчезли, остатки седых волос очень красиво раскинулись по плечам, а ожог во лбу на глазах посетителей курилки стал затягиваться, и через пять минут в середине лба красовалась копеечная монета молодой кожи. Одновозрастный внимательно смотрел на него. Мэн вернулся в мир и радостно сказал:
– А ведь Господь, создав Древо Познания добра и зла, предварительно должен был создать добро и зло. Иначе чего и познавать. А где это добро и зло должно было помещаться? – спросил сам себя Мэн и сам себе ответил: – А в душе Адама, потому как больше негде.
– Странное у тебя какое-то сатори, – сказал Одноглазый, – я обычно вижу бесконечность, свившуюся в точку, которая потом разрастается до бесконечности. И в этой точке, и в этой бесконечности сразу все. И любовь, и портвейн № 17, и дед, не вернувшийся с войны, и кривая ива у неведомой реки, и обсидиановый нож, вспарывающий грудную клетку раба на вершине зиккурата, жареные белые грибы, лопнувший фурункул, восход на закате, три пескаря, пойманные Буратино в луже города Миргорода, пьяный Эзоп, победа российского футбола на чемпионате мира и все, все, все…
Он, наверное, мог бы продолжать свое собственное сатори до бесконечности, но свернул его в точку и вернулся к Мэну.
– И что дальше? – спросил он.
Мэн, находившийся в миру, стал рассуждать логически:
– Так что, создав добро и зло в душе Адама и Древо их познания, он не мог их создать от фонаря, а именно для того, чтобы Змей…
– Которого, между прочим, – ввернул Одновозрастный, – тоже создал Господь…
– Это само собой. Для промоушна зла. Чтобы Змей соблазнил Еву, та – Адама, и чтобы все и закрутилось. И стало развиваться. То есть Дьявол как бы часть Бога. В отличие от Святой Троицы, где Господь един в трех лицах или, выражаясь философским языком, три явления в одной сущности, в данном случае мы имеем душу, как две сущности, добро и зло, в одном явлении, или в душе. И получается единство и борьба противоположностей в одной сущности. Ну а что до потерянного бессмертия, так за все приходится платить. Так что Первородного греха не было, потому что все произошло по промыслу Господню. Для того чтобы все это закрутилось. Такой вот дискурс.
– Что такое «дискурс»? – спросил Пацан.
– А кто его знает, – печально ответил Мэн.
– Значит, – подытожил Одновозрастный, – из-за этого дискурса и мы крутимся в этой курилке… И то, отчего мы сюда залетели, тоже Его промысел. Бога и Дискурса.
И кодла вернулась в палату, потрясенная эффектом от одного полузатушенного о лоб Мэна окурка.
– А Старшенький твой придет? – спросил Мэна Адидас.
Не менее потрясенный собственным сатори, Мэн сначала опять сел в позу лотоса, потом встал на четвереньки, уткнув в потолок свой худой зад, потом, схватив с чьей-то тумбочки роман Сидни Шелдона, затряс над ним головой, как хасиды у Стены Плача, а потом перекрестился и покорно сказал:
– На все воля Божья… – После этих слов он опять вернулся в мир, чтобы агрессивно продолжить: – А воля Божья кончается там, где начинается свобода воли, – и вроде бы услышал какое-то невнятное похихикиванье. Мэн проигнорировал похихикиванье и сам себя спросил: – А как же: ни один волос не упадет с головы без воли Божьей? – Опять услышал похихикиванье и опять же сам себе уверенно ответил: – Ну, это Иисус несколько погорячился.
И в это время в палату вошел Старший сын. Увидев отца в позе лотоса, он не изумился, а потом оглядел палату и ее обитателей и мрачно констатировал:








