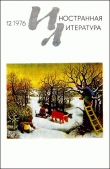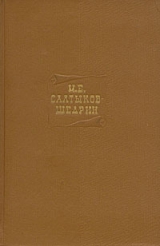
Текст книги "Том 3. Невинные рассказы. Сатиры в прозе"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 50 страниц)
Я верю, о «Прохожий»! что когда ты берешься за перо, чтоб обличить раба спящего и лукавого, то перед тобой невольно и неотразимо восстают те светлые личности наставников, которым ты жадно внимал в былое время. И в душе твоей заманчиво рисуется живая преемственность мысли и стремлений, на служение которым ты хочешь принести посильную лепту твою.
Повторяю, я верю твоей искренности. Но ты не замечаешь, что иные люди, иные вещи, что целый новый мир народился кругом тебя. Ты забываешь, что и в устах твоих наставников отвлеченные интересы человечества служили только покровом, под которым не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, более реальной деятельности. Ты забываешь, что ты перенял от учителей только фразу и что переимчивость, как бы ни была она счастлива, не представляет еще достаточного права, чтоб поучать людей!
Но странная и неудержимая сила обстоятельств! В то время, как ты мучишься в потугах рождения, чтоб бросить миру какую-нибудь высокопарную мысль о человечестве и постепенном поступании его на пути совершенствования, трезвая и неподкупная действительность силой приковывает тебя к тесной твоей раковине, к родному твоему Глупову! И выходит тут нечто нелепое: Глупов – и человечество, судья Лапушников – и вечные законы правды…
Корытников! именем той же преемственности, убеждаю вас – бросьте под стол перо ваше или обуздайте вашу мысль!
Неужели вы не можете сневежничать без того, чтоб этот акт вашей жизни не сопровождался целым громом тромбонов и труб?
Неужели солнце правды, солнце гласности, солнце устности, солнце трезвости, которое вечно светит в душе вашей, до того лучезарно, что мешает вам просто и без ужимок подойти к той навозной кучке, которую вы взялись, которую вам фаталистически суждено описывать?
Юный друг мой! если наставники ваши горькою необходимостью вынуждались окунать мысль свою в помои, то вы совершенно добровольно, совершенно никем не вынуждаемые окунаете ее в многочисленные солнца души вашей, и я принимаю смелость заверить вас, что эти солнца неизмеримо неприятнее помой Белинского и Грановского!
Зачем, когда вы беретесь за перо, вас внезапно одолевает какое-то адское самоуслаждение? Зачем вы с самозабвением склоняете набок вашу слабенькую головку, жмурите ваши голубенькие глазки, уподобляясь соловью, заслушивающемуся своих собственных песен? Зачем это?
Вспомните, mon cher [214]214
дорогой мой.
[Закрыть], что соловей потому имеет право наслаждаться самим собой и заслушиваться до опьянения своих песен, что песни, которые он поет, суть его собственные песни! Сделайте-ка нам ваше собственное «фю-ию-ию-ию», и тогда я первый готов буду признать ваше право на самонаслаждение.
Вспомните и то, что мир кишит кругом вас примерами горьких последствий самоуслаждения. Я могу указать вам на целый кружок весьма почтенных людей, которые, заручившись одной идейкой, до того перемололи ее на все лады и образцы, что в настоящее время не могут без тошноты взирать друг на друга («Господи! и в нем сидит эта треклятая идея!»), не могут без ужаса вспомнить о той минуте, когда надобно будет вновь вести беседу, и вновь на ту же тему… потому что иной в запасе не обретается!
Если этого мало для вас, то укажу еще на каплунов * . Этот достойный сожаления народ, не имея никаких иных видов в будущем, кроме удовольствия быть обкармливаемым до отвратительноети, также с неистовством предается самоуслаждению, в продолжение всего того времени, покуда грецкие орехи, комки творогу и прочая дрянь переваривается в зобах их. А тут между тем не имеется даже ни одного наличного достоинства, а есть лишь весьма неприятный изъян, из чего вы можете убедиться, что для того, чтоб считать себя вправе наслаждаться самим собою, вовсе нет необходимости быть бог весть каким соловьем, а достаточно в иных случаях быть и простым каплуном.
Зачем вы взираете на себя как на историка и философа, тогда как вы просто-напросто летописец, а быть может, отчасти и водевилист?
На вашем месте я писал бы статьи мои так:
«Января… дня 18.. года. Город Полоумнов. Сего числа Удар-Ерыгин, в присутствии всех, проглотил шпагу, или, точнее сказать, целое скрал дело (имярек); он показал при этом столь замечательное проворство, что никто даже не ахнул.
Туземец».
И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, летописную форму, менее задерет Удар-Ерыгина, нежели та же статья, разбавленная рассуждениями о том, что «в наше время, когда, казалось бы, воровство преследуется повсюду», или о том, что «в наше время, когда привычки законности мало-помалу проникают во все административные трущобы» и т. п.?
Смею вас уверить, Корытников, что нет. Прочитавши вашу статью, он скажет: «Что за черт! о каком это он воровстве говорит! разве я вор?» – ибо он убежден, и вслед за ним убеждено и большинство, что воровством называется только похищение чужих платков из карманов; акт же, подобный тому, который им совершен, он называет административною ловкостью. Или еще скажет: «О каких это привычках законности он там проповедует? Э! да он, кажется, позабыл пословицу: «что русскому здорово, то немцу смерть!» и наоборот: «Хорош бы я был, кабы действовал на законном основании!» И с своей точки зрения, он будет прав; конечно, это будет точка зрения удар-ерыгинская, но все-таки точка зрения, с которою, быть может, согласятся и многие другие: иные по слабости, другие из страха, третьи из корысти, четвертые, наконец, по привычке во всем соглашаться с лицом, обладающим известною степенью нахальства. Напротив того, прочитавши мою статью, он позеленеет, и губы его затрясутся. Поймите, что я оскорбил его в том, в чем он считал себя непогрешимым: в его проворстве! Затроньте его честность – он скажет, что честность понятие относительное; затроньте пользу общественную – он скажет, что еще бабушка надвое сказала, черное ли бело или белое черно. Но не затрогивайте его проворства! Он думал, что никто не подозревает, что он глотает шпаги; он воображал, что все глаза устремлены на него с детскою доверчивостью, что никому и на мысль не приходило видеть в нем фокусника… и вдруг! Уверяю вас, что он устыдится; устыдится хотя того, что был недостаточно искусным фокусником…
Столоначальник Благолепов гораздо с большим тактом попал пальцем в небо, когда кратко доложил читателю, что «судья у нас хороший человек» и проч. (зри выше). Вы испортили статью его, драгоценную по своей наивности; вы напустили туману туда, где следовало бы только исправить орфографические ошибки и проставить знаки препинания. Я уверен, что будь Благолепов не столоначальником, а секретарем уездного суда, он не дозволил бы вам переменить ни йоты в своем произведении, и был бы прав. Итак, больше краткости, любезный Корытников! больше той величественной краткости, которая прямо и неуклонно впивается в самую морду заподозренного в гнусности субъекта – и тогда смело дерзайте на поприще гласности!
И еще позволю себе одно замечание: вы не всегда удачно выбираете темы для ваших обвинений и не вполне удачную берете для них обстановку.
Начнем хоть с Федора Ильича. Слова нет, что происшествие, которое послужило канвой для вашей красноречивой статьи, весьма печальное происшествие, ибо оно лишило мещанку Залупаеву ее холостых строений. Но с другой стороны, если бы вы потрудились объясниться с обвиняемым, то, может быть, и вполовину не были бы так строги к нему. Вспомните, Корытников, что вы не просто нравы и обычаи административные описываете, а желаете поучать!
Итак, если бы вы спросили Федора Ильича: «По какому случаю вы, государь мой, не явились своевременно на пожар, бывший в доме Залупаевой?» – я уверен, что, вместо ответа, почтенный наш градоначальник молча повел бы вас на пожарный двор.
Там он представил бы вам:
1) Две пожарные трубы, из которых одна носит название новойи действует плохо, а другая именуется староюи, что называется, только колобродит, то есть брызжет во все стороны и обливает водой одних зрителей.
2) Четырех лошадей (отчего ж и не двух?), из которых две изъявляют сильное желание окунуться в купель силоамскую * .
3) Десяток инвалидов, из которых двое в эту самую минуту, что называется, без задних ног.
– Что ж вы не представляете куда следует? – спросите вы.
– Представляем-с!
– Что ж отвечают?
– И отвечают-с!
– Да что отвечают?
– А отвечают: здорово живешь-с!
Таким образом, один пункт обвинения устранен, и Федор Ильич осязательно доказал вам, что никакой в свете пожар не может и не обязан бояться его, под опасением прослыть за трусишку и дурака.
– Но как же вам не стыдно, только и дела, что в карты дуться? – продолжаете вы свои обвинения.
– Помилуйте, отчего же-с? день-то деньской слоняешься, день-деньской всякую нечистоту по городу прибираешь – надо же и отдохнуть-с.
Вы начинаете понимать, что не виноват же Федор Ильич, что карты служат для него единственно доступным средством отдохновения; что тут есть нечто, кроющееся в самой среде, в которой он процветает; что Федор Ильич сам по себе не может ни жить, ни действовать иначе, нежели как он живет и действует. И вы невольным образом повторяете: «Отчего же и не отдохнуть хорошему человеку?»
Я же, с своей стороны, могу, в оправдание нашего градоначальника, прибавить, что он вовсе не так равнодушно принял весть о пожаре. Напротив того, когда ему доложили: «Мещанка Залупаева горит, ваше высокоблагородие!» – то он стремительно бросил карты и воскликнул при этом: «Ведь дернула же ее нелегкая гореть в такую пору!» Стало быть, он страдал.
Но, кроме изложенных выше обвинений, вы позволили вашей фантазии увлечь вас дальше, нежели сколько было нужно для выполнения вашей же собственной задачи. Вы указали на героя, прославившего собою город А***, и пожелали, чтоб Федор Ильич, подобно этому герою, ходил с обгорелыми фалдами. Позвольте сказать вам, что упрек этот сколько несправедлив, столько же и неоснователен.
Сам Федор Ильич всего более возмущен был именно этим местом вашей статьи.
– Ну, скажите на милость! – говорил он в тот самый вечер собравшейся у исправника компании единомышленников, – ну, что ж было бы хорошего, если бы я, как профан какой-нибудь, без фалд по городу бегал? Да и на чей я счет, кукиш с маслом, буду фалды новые покупать?
Резоннее и складнее этого ответа я ничего придумать не в состоянии.
Или опять судья: чем виноват он, что тучен? Или заседатели: чем виноваты, что ковыряют в носу? Благолепов правду сказал, что это занятие всей их жизни, а если это так, то, следовательно, никто и не имеет права лишать их возможности предаваться этому занятию.
Извините меня, Корытников, но мне кажется, что вы скользите только по поверхности; вы только подозреваете, что есть где-то, в окрестностях ваших, болото, но где оно и какого оно свойства – это тайна, которую вам вряд ли суждено когда-нибудь проникнуть.
Но времена созрели, и как бы ни была малоискусна песня Корытникова, он не может не петь. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концерт задают там воробьи! Стадами они перелетают с одной крыши на другую; вприпрыжку и как бы торопясь куда-то, снуют по улице; суетливыми и веселыми обществами хлопочут около обнажившихся кучек старой ветоши, и что за неистовые чирикания оглашают в то время теплый, насыщенный влагою воздух! Воробка, воробка! зачем так подпрыгиваешь? зачем, дурачок, так весело чирикаешь? Но не дает ответа воробка, а только пуще и пуще чирикает, уморительнее и уморительнее подпрыгивает.
Подобно сему и Корытников, объятый весенним чувством, поет возрождение природы, поет красоту гласности и самоуправления, поет взволнованность своих собственных чувств. Спросите, зачем поет он песню про городничего, он в ответ споет вам песенку про почтмейстера; спросите, зачем поет про почтмейстера, он споет вам песню об исправнике… Дальнейших объяснений от него не требуйте, ибо это объяснение лежит в его артистически устроенном горлышке и в той весенней оттепели, которая чувствуется в воздухе.
И потому Федор Ильич поступил не только нечестно, но даже и нерасчетливо, преследуя Корытникова с такою неумолимостью. Во-первых, он этим преследованием ничего не выиграл, ибо хотя и удалось ему изгнать Корытникова, но место его тотчас же занял Благолепов, занял Наградин, занял Столпников, и в настоящую минуту нет в России города, в котором так часто раздавалось бы чирикание воробьев, как в нашем родном городе Глупове. Во-вторых, не достигши своей цели, Федор Ильич сделался грустен и раздражителен. Он без разбора хватал и ловил приезжающих на базар мужиков и торговцев, везде предполагая измену, во всяком неизвестном ему лице заподозревая насадителя клеветы и распространителя ложных слухов. Взятки стал брать пуще прежнего: первее всего, следующие ему вообще, по установленным праотцами обрядам, а потом следующие ему же за страх будущего обругания.
– Пускай пишут! пускай пишут! – приговаривает он, с каким-то диким наслаждением пересчитывая и разглаживая на столе ладонью поднесенные ему ассигнации.
Но нет! он обманывает лишь себя, говоря таким образом! В ту самую минуту, как он притворяется равнодушным к филиппикам Благолепова (доказывающего, между прочим, что Федор Ильич до того беспечен, что не дает себе даже труда выдергать вылезающие из его носа волосы), он чувствует, что внутри его нечто колышется и хохочет, что руки его судорожно сжимаются, как бы обвивая мысленно длинную шею Благолепова.
– Желал бы я! – восклицает он в бессильной ярости, но уже не тем здорово-зычным голосом, которым восклицал в начале нашей статьи, а тонами двумя пониже.
И все оттого только, что он чирикание воробья принял за крик орла! все оттого, что дернула нелегкая какую-то мещанку Залупаеву гореть в такое время, когда к нему, градоначальнику, привалило восемь в червях, а пожарные лошади отъезжали в луга за сеном для собственного своего прокормления!
Да! разрушительно действуешь ты, о гласность, на организмы человеческие! Пенза! Уфа! Саратов! Ужели никто, никто не избежит ее всепожирающего зева! Везде, даже там, где прежде спокойно грабили почту на главной улице, даже там, где некогда, среди бела дня, безнаказанно застреливали людей (и никто не слыхал выстрела!), везде восстает свой домашний бард, берет в руки гармонику и воспевает славу или стыд своей отчизны!
Сам генерал Зубатов смутился и поистине не знает, что ему делать. И до него доползло весеннее чувство, но не подновило, а, напротив того, произвело лишь расслабление в ветхом его организме.
– Что это за женские гимназии? что это за воскресные училища? * – восклицает он, ломая в отчаянии руки.
И в ту же минуту отправляет гонца за откупщиком.
Откупщик изумляется и вызывает кассира.
– За майскую треть дадено? – спрашивает он.
– Дадено, – отвечает кассир.
– Что за черт!
Однако, делать нечего, напяливает фрак и отправляется.
– Ну, мой милый! – еще издали кричит ему генерал, как-то особенно приветливо улыбаясь, – вот теперь-то мы посмотрим, действительно ли вы патриот?
Его сивушество слегка съеживается, точно ему змею за пазуху пустили, но в то же время старается сохранить веселый и непринужденный вид, ибо вздумай он нахмуриться – генерал, чего доброго, скажет ему: «Невежа! пошел вон!»
– Что прикажете, ваше превосходительство? – говорит он, развязно расшаркиваясь.
– Для себя – ничего, для отечества – многое! – отвечает генерал, пронзая откупщика взорами и как бы измеряя глубину его патриотизма.
– Прикажете бал-с… маскарад-с… ваши слуги, ваше превосходительство!
– Гимназию! – восклицает генерал неожиданно.
Его сивушество стоит озадаченный, очевидно недоумевая, какое может иметь отношение очищенная и трехпробная к отечественному просвещению.
– Гимназию; женскую гимназию! – повторяет генерал, полоснув себя краем ладони по горлу в знак того, что гимназия у него вот где сидит.
Откупщик покраснел как рак. Он понимает, что как тут ни вертись, а от издержек не отвертишься, но не умеет еще сообразить, какою суммою можно отделаться. А ну, как ляпнешь сдуру такой куш, какого совсем и не требуется!
– Да, мой милый! – грустно говорит между тем генерал, – было… было! Было время, когда мы думали о том, как бы общество наше соединить… чтоб пикники там… parties de plaisir… [215]215
прогулки,
[Закрыть]Теперь это все надо кинуть!
Генерал умолкает и как будто начинает грустить, но через несколько минут поправляется и продолжает уже с некоторою молодцеватостью:
– Теперь мы о гимназиях рассуждаем… да!
Но его сивушество все еще не собрался с духом. Ему слишком отчетливо представляются и недавнее пожертвование спирта для освещения города, и недавняя покупка десяти фунтов чаю для больницы, и другие посильные жертвы… ах, черт побери, да и совсем!
– Конечно, ваше превосходительство, – говорит он наконец, – гимназия… и в особенности для благородных девиц… очень приятное заведение.
– Ну-с?
– Я к тому, ваше превосходительство… что еще в недавнее время… освещение города… а также и другие общеполезные устройства-с…
– Ну-с? – повторяет генерал.
Откупщик откашливается.
– Я ничего, ваше превосходительство… мы гимназиям не препятствуем-с… мы, напротив того, с нашим удовольствием… я только насчет того, что еще в недавнее время…
– Гм?.. стало быть, вы допустите, чтоб в какой-нибудь мерзкой газетишке на всю Россию опубликовали, что у менянет гимназии?
– Помилуйте, ваше превосходительство, зачем же-с?
– Стало быть, для вас все равно, что какой-нибудь щелкопер осмелится выразиться обо мне, что я не имею достаточно энергии, что я человек несовременный… что у менянет гимназии, наконец?
– Я, ваше превосходительство…
– Так я вам докажу, милостивый государь, что у меня еще есть энергия! – восклицает генерал, величественно выпрямляясь.
Одним словом, его сивушество смиряется, и вопрос о женской гимназии, едва-едва не претерпевший крушение, разрешается благоприятно. В следующем же нумере местных ведомостей редактор уже предвкушает ее учреждение в особо написанной по этому поводу статье:
Слухи
Слух носится, что, благодаря неусыпным попечениям (чьим, на это ответит всякое сердце Полоумновской губернии), у нас в скором времени будет открыта женская гимназия и что все нужные распоряжения уже сделаны. Мы уполномочены объявить, что старания начальства в этом истинно полезном и благотворительном деле встретили полное и просвещенное содействие со стороны местного управляющего акцизно-откупным комиссионерством купца М., готового, как известно, на всякого рода пожертвования, имеющие целью счастие и пользу ближнего.
Носятся и другие, не менее отрадные слухи (как, например, об открытии в нашем городе воскресных классов), но покамест умолчим о них, предоставляя себе право поделиться с читателем нашими надеждами в то время, когда они будут более близкими к осуществлению.
Но так как всякая медаль имеет свою хорошую и свою дурную сторону, то не можем пройти молчанием, что дело просвещения и в нашей губернии не везде встречает одинаковое сочувствие. Так, например, дикие и невежественные нововласьевцы и доселе упорствуют в своем коснении и твердо принятом намерении оставаться безграмотными во что бы то ни стало. Когда же луч солнца осветит это непроходимое болото?
– Вот тебе и с праздником! – говорит нововласьевский городской голова Прудов, прочитав эту любезность.
– За что ж он нас по зубам-то треснул? – спрашивает, в свою очередь, гласный Клубницын.
– А так вот: проезжал поблизости – и заехал! Поди, судись с ним!
И я, в свою очередь, спрошу вас, почтенный редактор полоумновской газеты: за что вы треснули по зубам граждан города Нововласьевска?
Я с вами наперед соглашаюсь, что просвещение – хорошая вещь, что учение – свет, а неучение – тьма и т. п. Сознаюсь также, что образование, которое дается нашим девицам, убийственно. Образованнейшая из них еще может порассказать вам кое-какие подробности о Гвадалквивире, потому что
Ночной зефир *
Струит эфир,
Шумит, бежит Гвадалквивир…
или о Бренте, потому что
Ночь весенняя дышала *
Ароматной тишиной.
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.
Но чуть дело коснется Мансанареса * , последует неизбежный тупик, ибо Мансанарес речка маленькая и, должно полагать, очень вонючая, если ни в одном русском романсе об ней не упоминается. Согласен, что при таком уровне образования девицы наши не в состоянии интересоваться полезною деятельностью географического общества, ни даже принять участие в споре, возникшем по поводу определения действительного дня смерти Бориса Годунова.
Но чем виноваты во всем этом нововласьевские граждане? Тем ли, что в среде их не отыскалось, как в Полоумнове, благодетельного откупщика? Тем ли, что их уж тошнит от общеполезных устройств и сопряженных с ними пожертвований? Тем ли, что они, быть может, имеют причины (по их разумению, даже весьма законные) не желать именно вашихобщеполезных устройств?
И между тем, не разобравши дела порядком, вы разогорчили нововласьевских граждан всех до единого!
Повторяю: разрушительно действуешь ты, о гласность! и не только на отдельных людей, но и на целые общественные организмы. Несмотря на учреждение женских гимназий и воскресных школ, несмотря на процветание трезвости, несмотря на успехи, которые в последнее время сделала мысль о самоуправлении, провинциальный наш люд скучает и бьет в баклуши. Прежняя привольная жизнь провинции исчезает все более и более; вместо нее является какая-то чопорная натянутость, какой-то нелепый антагонизм, еще не высказывающийся явно, но уже дающий себя чувствовать особого рода метанием взоров, расширением ноздрей, покороблением уст и общим рылокошением. Старая веселая Русь (old merry Russia) прячется по домам и втихомолку переворачивает анекдоты о загнанных жидах и обманутых немцах. Подобно стыдливым фиалкам, члены ее собираются друг у друга интимными кружками, и тут, сокрушаясь и вздыхая, беседуют о временах минувших, когда и солнце горело светлее, и земля, без помощи удобрения, приносила сам-двадцать, и Фильки отправлялись на конюшню беспрекословно, и винокуренные заводчики уделяли милостивцам по четыре копейки с ведра, а не по две, как ныне. Вот они все тут: вот и заиндевевший обладатель множества Филек и Прошек, и застенчивый откупщик, и облизывающийся аристократ из казенной палаты, – одним словом, все те, которым дорого, чтоб наша отечественная цивилизация развивалась постепенно, а не скачками.
– Какое изобилие рыбы в реках было! – тоскует помещик Птицын.
– И какая была все крупная-с! – вздыхает недоросль из дворян Сагитов.
Присутствующий при этом разговоре отставной капитан Постукин хотя и не принимает словесного участия в разговоре, но оттопыривает губы и отмеривает руками два аршина, чтоб показать наглядно, каких размеров водилась в реках рыба.
– Во всем, во всем изобилие было! – вступается генерал Голубчиков, облизываясь и сгорая нетерпением дать разговору винокуренное направление.
– И музицки больсе вина кусали! – подвиливает хвостом Герш Шмулевич.
– И винокуренные заводчики свой расчет находили! – подхватывает Голубчиков.
– Да и люди были какие-то особенные! – рычит отставной корнет Катышкин, – примерно доложу хоть насчет дорог – что это за бесценный народ в дорогах был! Засядешь, бывало, в трущобу, экипажи были всё грузные, от лошадей так и валит пар – ну, просто смерть! Ничуть не бывало! Кликнешь только: «Трошка!» Слезет это Трошка с козел: тут ногой, там плечом – и пошла в ход колымага!
– Сердечный народ был! любовный!
– И как, бывало, все просто делалось! Угодил, бывало, финизерв какой-нибудь к обеду сочинил – рюмка водки тебе; сплошал, таракана там, что ли, в суп пустил – не прогневайся, друг! сейчас его au naturel, и марш на конюшню!
– И не роптали!
– Не только не роптали, а еще бога за господ молили, поильцами, кормильцами называли!
Но – увы! как ни велики, как ни искренни сетования Постукина и Сагитова, не подлежит сомнению, что прежнее веселое время исчезло без возврата. Какое-то мрачное шпионство, какое-то пошлое подглядывание и подслушивание всасываются повсюду: и в присутственные места, и в клубы, и в частные дома, не говоря уже об улицах, перепутьях, распутьях и местах пустопорожних. Садитесь ли вы в клубе за карты, вы, даже зажмурив глаза, ощущаете, как из темного угла сверкают на вас глаза местного публициста, как будто говоря вам: «Малодушный! как мог ты найти в себе решимость заниматься презренными картами в то время, когда отечество столь сильно нуждается в хороших людях!» Идете ли вы по улице и, зазевавшись по сторонам, ощущаете необходимость заняться носом, перед вами из земли вырастает другой публицист и, прерывая ваше занятие, вопиет: «Время ли, сударь, ковырять в носу, когда отечество требует служения беспрестанного, неуклонного и неумытного?» Вздумаете ли созвать к себе гостей, перед вами восстает третий закорузлый в обличениях публицист и, поедая приготовленные закуски и яства, в то же время неистовствует руками и ногами, мещет огненные взоры и одаряет веселящихся язвительными улыбками, ясно говорящими: «Смейтесь! веселитесь! скоро, скоро наступит благорастворение воздухов, и помелом очищено будет ваше нечистое торжище!»
Одним словом, нет возможности предпринять самое простое действие: сшить себе новое пальто, купить фунт икры и т. д., чтоб действия этого не подсмотрел местный бард и тут же бесцеремонно не выразил, что «чем икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать!».
О, Корытников! дай мне вздохнуть на минуту! Я готов умереть, если это может доставить тебе удовольствие, но не смотри же на меня своими черными глазами, покуда я говорю последнее «прости» жене и детям!
Но нет, даже здесь, даже в моем уединении, ты не оставляешь меня! Покуда я дописываю настоящую статью, из-за тонкой перегородки, отделяющей мою квартиру от соседней, долетают до моего слуха знакомые звуки. То беседуют два друга-публициста, и в разумной их беседе принимает участие и жена моего соседа.
– А трезвость продолжает-таки делать успехи! – говорит гость, – еще несколько усилий, и победа за нами!
– Ах, какой циркуляр насчет этого в Самаре вышел! * – восклицает моя соседка.
– Н-да, нашему генералу такого не написать! – отзывается хозяин дома.
– А в Саратове, напротив того, дикости какие-то делаются! * Представьте себе, там трезвых людей бунтовщиками называют!
– Всякая плодотворная идея имеет своих мучеников! – говорит гость.
– Нет, воля ваша, а со стороны саратовских властей это просто отсутствие всякого понятия о гражданской доблести.
– Ах, Марья Ивановна! разве всякий в состоянии вместить в себе это понятие? – уныло спрашивает гость.
– Конечно… однако ж, какое варварство!
Разговор стихает; звуки стаканов и чашек мешают мне следить за продолжением его. Одна только фраза долетает до меня, и рука моя невольным образом передает ее печати:
– А я сегодня читала «Морской сборник»! * – говорит жена соседа. – «Правительственные распоряжения» до такой степени увлекли меня, что я совершенно забылась!
1860 г.