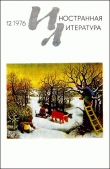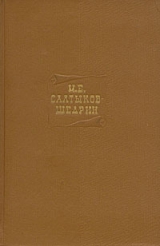
Текст книги "Том 3. Невинные рассказы. Сатиры в прозе"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 50 страниц)
За это все Замухрышкины в один голос величают его ангелом, а корреспонденты «Московских ведомостей» «нашим справедливым и благодушным начальником». Просители тоже от него без ума. Всем-то пообещает, всех-то утешит, а если и откажет кому, то так откажет, что от удовольствия растеряться можно. Только и слышишь: «Ах, как мне жаль!» да «Зачем вы не пожаловали ко мне раньше!» Стон стоит в Глупове по случаю учтивого обращения.
– И не видывали мы, сударь! – говорит обыватель Анемподист Федотыч, – и не видывали такого! Бывало, начальник-то позовет: «А ну-те, говорит, чистопсовые! а знаете ли, говорит, что вас всех прав состояния лишить велено?» Так мы, сударь, так, бывало, все ходуном и ходим перед ним! А этот просто даже и на начальника не похож! на стул это сажает, папироску подает: «Расскажите, говорит, какая у вас статистика!»
Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатов! ты ли это? Если это ты, то помни, что конфуз входит пудами, а выходит золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакие человеческие усилия не в силах возвратить к прежней лошадиной бодрости и нестомчивости! Что, если вновь когда-нибудь приказано будет не конфузиться? Что, если вновь приказано будет по десяти раз в день утопать в стакане воды и по сту раз соскакивать с колокольни? Дрожать за тебя или нет? Воспрянешь ты, или… но нет, меня объемлет ужас при одном предположении… нет, я не сказал, я даже не предполагал ничего подобного!
И ты, дитя моего сердца, ты, любострастный магик и чревовещатель Удар-Ерыгин! Ты, подсмотревший у Апфельбаума (даже не у Германа) несколько дешевых фокусов и удивлявший ими добродушных соотечественников во время артистических путешествий твоих по глуповским палестинам, – и ты повесил голову, и ты о чем-то задумался! Я, который вижу насквозь твою душу, я знаю, что ты задумался о том, как бы примирить инстинкты чревоугодничества с требованиями конфуза * . Я знаю, что ты увидел грош в кармане твоего ближнего и что тебя терзает мысль, каким бы образом так устроить, чтоб выкрасть его. Как сделать, чтоб добрые люди не догадались, что ты занимаешься воровским ремеслом? Как устроить, чтоб добрые люди, даже и догадавшись, все-таки продолжали относиться к тебе, как к человеку честному? И вот ты замышляешь какой-то новый, неслыханный фокус, но – увы! кроме глотания ножей, ничего изобрести не можешь, потому что и в этом искусстве ты не пошел дальше Апфельбаума, и в этом искусстве ты еще не научился давать представления без помощи стола, накрытого сукном, под которым сидит душка Разбитной, сей нелицемерный холоп и блюдолиз всех Чебылкиных * , Зубатовых и Удар-Ерыгиных, и подает тебе, по востребованию, жареных голубей.
Да; усилия твои тщетны, ибо зеленое сукно, которым накрыт был стол, велено сдернуть. Разбитного застали врасплох под столом в то самое время, как он, весь потный от духоты, совсем было состряпал в шляпе яичницу. Двугривенный, бывший у тебя в руках, так и остался двугривенным и не превратился ни в апельсин, ни в полуимпериал… Тебе не воспрещается делать фокусы, но делай их без сукна, глотай шпаги начистоту!
А так как ты еще недостаточно искусен для этого, так как ты трус и боишься подавиться, то очевидно, что грош, виденный тобой в кармане ближнего, там и останется. Да, ты сам сознаешь, что останется, ты до такой степени сознаешь это, что даже скрепя сердце решаешься бросить мысль о благоприобретении его. Признаюсь тебе, меня очень радует такое самоотвержение с твоей стороны; я с любопытством наблюдаю, как ты приучаешься к твоей новой роли, как ты по старой привычке все еще лебезишь около чужих карманов, как ты похотливо расширяешь ноздри, заглядывая в них, и как в то же время не смеешь простереть подергиваемую воровской судорогой руку, чтоб стяжать чужое достояние. Друг! ты до такой степени мило все это делаешь, что добросердечные глуповцы серьезно начинают беспокоиться, уж не хочешь ли ты подарить им самим по двугривенному из твоей собственной «неистощимой» шкатулки (помнишь ли фокус, который показывал ты в Крутогорске, под названием: «Неистощимая шкатулка, или Крутогорские откупщики – основатели женских гимназий»?). Истинно говорю тебе, что это самый отчаянный фокус из всех, которые ты когда-либо показывал в течение твоей многотрудной жизни, и что еще долго после тебя твои многочисленные последователи будут показывать его почтеннейшей публике, под названием: «Укрощенная страсть к мошенничеству, или Конфуз – руководитель администрации».
Но если Зубатовы и Удар-Ерыгины восчувствовали и помилели, то каким образом должен действовать сам господин Конфузов? Очевидно, он должен источать бесконечные источники слез умиления при виде тех задатков самостоятельности, которые успели проявить в последнее время россияне; очевидно, он должен восторженно размокать и с каждой минутой все более и более обращаться в сырость под знойными лучами гласности!
Поборники конфуза – а их не мало * , и большая часть принадлежит к тому достойному меньшинству, о котором говорено выше, – удостоверяют, что преобладание в жизни этого элемента все-таки лучше, нежели господство нахальства и грубой физической силы. Когда в отношения к жизни, говорят они, примешивается некоторое чувство стыдливости, то само собой разумеется, что и самое развитие жизни происходит беспрепятственнее, нежели в то время, когда от неуклюжих прикосновений к ней остаются лишь следы грязных медвежьих лап.
В этом силлогизме есть, однако ж, страшная недомолвка. Во-первых, мы принимаем на веру, что наш конфуз есть конфуз действительный, конфуз разумный, что в нем заключается сознательная попытка к освобождению жизни от одуряющего попечительства различных неприязненных ее развитию начал. Но мы ошибаемся. Наш конфуз – временный; наш конфуз, в переводе на русский язык, означает неумение. Мы конфузимся, так сказать, скрепя сердце; мы конфузимся и в то же время помышляем: «Ах, как бы я тебя жамкнул, кабы только умел!» От этого в нашем конфузе нет ни последовательности, ни добросовестности; завтра же, если мы «изыщем средства», мы жамкнем, и жамкнем с тем ужасающим прожорством, с каким принимается за сытный обед человек, много дней удовлетворявший свой аппетит одними черными сухарями. Во-вторых, конфуз, проводя, в сущности, те же принципы, которые проводило и древнее нахальство, дает им более мягкие формы, и при помощи красивой внешности совершенно заслоняет от глаз посторонних наблюдателей ничтожество и даже гнусность своего содержания. Силе можно ответить силою же; глупости и пустословию отвечать нечем. Отношения делаются натянутыми и безнравственными. Чувствуешь, что жизненные явления мельчают, что и умы и сердца изолгались до крайности, что в воздухе словно дым столбом стоит от вранья, сознаешь, что между либеральным враньем и либеральным делом лежит целая пропасть, чувствуешь и сознаешь все это и за всем тем, как бы колдовством каким, приходишь к оправданию вранья, приходишь к убеждению, что это вранье есть истина минуты, придумываешь какую-то «переходную» эпоху, в которую будто бы дозволяется безнаказанно нести чушь и на которую, без зазрения совести, сваливаешь всякую современную нечистоту, всякое современное безобразие!..
Согласитесь: ну не страшная ли это недомолвка, и не лучше ли, не безопаснее ли для самого дела к лжи относиться как к лжи, а не придумывать различных оправдательных ухищрений, которые могут только продлить зловредное торжество ее?
Итак, противодействовать вранью, обличать его несостоятельность отнюдь еще не значит противодействовать стремлениям к самостоятельности и независимости действий. Если и у действительного либерализма есть свои характеристические оттенки, делающие проявления его крайне разнообразными и имеющими между собой мало общих точек соприкосновения, то тем большая неизмеримость расстояния легла между либерализмом, рассматриваемым как результат целой жизненной работы, и либерализмом, не уходящим вглубь далее оконечностей языка. Если, чтоб действовать сознательно в том или другом смысле, необходимо прежде всего опознаться в многоразличии убеждений, необходимо уяснить себе истинное их значение, то тем более необходимо уметь различать убеждения искренние от убеждений, вызванных прихотью минуты и большим или меньшим желудочным засорением. Скажу более: чем сильнее и настоятельнее сказывается уму и сердцу чувство уважения к первым, тем живее сознается в то же время необходимость отрицания последних. Да, именно отрицания, упорного, беспощадного отрицания, потому что эти бессмысленные фиоритуры либерализма, которыми, как древле кашею, наполнены в настоящее время рты россиян, мешают расслушать простой и честный мотив его.
Заглянем, например, в нашу текущую литературу * , – что за зрелище представляется очам нашим! Увы! это уж не то доброе старое время, когда ратовали исключительно наши кондовые, наши цеховые мастера! Увы! даже Корытниковы, даже «Проезжие» и «Прохожие», * несмотря на недавность их появления, – и те перестают производить впечатление и составляют уже скромное меньшинство! Увы! литературная нива обмирщилась, литературная нива сделалась простым выгоном, на котором властительно выступают Ноздревы, Черто-пхановы и Пеночкины! Ноздрев! ты ли это, mon cher? [107]107
дорогой?
[Закрыть]Если это ты, то почему ты смотришь таким Лафайетом? Или у нас нынче масленица, а об масленице тебе неловко оставаться самим собою? Или, по местным обстоятельствам, тебе выгоднее быть Лафайетом, нежели прежним сорвиголовой Ноздревым?
Каждый час, каждая минута вызывают новые требования, ведут за собой новых деятелей. Еще вчера Глупов был полон хвалебных гимнов, а нынче он уж грубит, он почти ругается! Давно ли кн. Черкасский торжественно защищал розгу * , а нынче… розга, где ты? По крайней мере, Ноздрев не только отвергает пользу ее, но даже стыдится и краснеет при одном воспоминании, что это орудие составляло когда-то одно из самых существенных определений глуповской гражданственности.
Все «рыбари», которые доселе занимались сокрушением зубов и челюстей человеческих, покинули это занятие из опасения получить сдачи. Но занятие было выгодно, ибо, с помощью его, приобреталось право преобладания в так называемом обществе. Без него чувствовалась тоска и одиночество; без него земля исчезала под ногами, права попирались и видимо истаивали. Как быть? Где, в каком ином принципе искать основания к сохранению драгоценного права? Рыбари недоумевали, потому что до сих пор они спокойно отдыхали себе под тенью своих смоковниц (так называли они навозные кучи своих скотных дворов), и даже снов никаких не видели. К счастию, на выручку подоспел граф Монталамбер, который, в русском извлечении, победоносным образом доказал * , что унывать и недоумевать не следует. «Воззрите на Англию, – сказал он нашим рыбарям, – ведь и вы те же лорды, и вы та же джентри, только без гордости и силы: старайтесь же добыть и то и другое, и все пойдет как по маслу!» Шутка сказать, однако ж: добыть гордость и силу! Где их возьмешь? Ведь их не добудешь ни бранью ямскою, ни зубосокрушением! Ведь гордость и сила составляют продукт истории, а где она? Но рыбари, раз решившись, не задумались и над этими вопросами. «Черт с ней, с историей! – сказали они друг другу, – обходились же без нее наши отцы – коллежские асессоры, наши отцы – татарские выходцы, наши отцы-эмигранты; обойдемся как-нибудь и мы!» И, не откладывая дела в долгий ящик, отчасти пустили шип по-змеиному, отчасти защелкали по-соловьиному * .
И вот отчего, в настоящую минуту, нет того болота на всем пространстве глуповских палестин, в котором не слышалось бы щелканья соловья-либерала.
Увлечения мысли, равно как и движения страсти, действуют на людей весьма разнообразно. Одних доводят они до отчаяния и крайнего упадка нравственных сил – картина скорбная, но не внушающая, однако ж, ни отвращения, ни даже непрошеного сожаления к пациенту, а, напротив того, почти всегда возбуждающая искреннюю симпатию к нему. Ибо в сегодняшнем истощении еще чуется вчерашняя сила, ибо и самое разрушение имеет здесь горький и полный мучительных указаний смысл. В других борьба, посредством которой мысль искупляет будущее торжество свое, производит не атонию [108]108
вялость, слабость.
[Закрыть]сил, а общее их возбуждение, доходящее до героизма. Мысль, сделавшаяся страстною, мысль, доведенная до энтузиазма, – вот та вулканическая сила, которая из сокровенных недр толпы выбрасывает исторических деятелей, вот та неистощимая струя, которая, капля по капле, неотступно долбит камни невежества и предрассудков. В-третьих, наконец, всякое волнение душевное разрешается лишь прыщами и подозрительною накожною сыпью.
Все эти рекламы либерализма, о которых шла речь выше, не больше как прыщи, посредством которых разрешилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочие. Я не говорю, чтоб прыщи были бесполезны, я даже не отрицаю законности их существования, но вместе с тем не могу не скорбеть душою, когда меня уверяют, что дело так и должно кончиться одними прыщами и что прыщи составляют венец истории. История, думаю я, должна привести к просветлению человеческого образа, а не к посрамлению его, и с этой точки зрения необычайное изобилие накожной сыпи и упорная ее устойчивость не только не радуют меня, но, напротив того, до глубины души огорчают. Я положительным образом протестую против претензии прыщей на право бесконечного господства в жизни и против того безнравственного девиза, с которым они являются в мир и в силу которого абсолютная истина жизни представляется опасною и недостижимою химерой, а вместо ее предлагается в руководство другая истина, заключающаяся в более или менее проворном эскамотнровании [109]109
сокрытии.
[Закрыть]одной лжи посредством другой.
При этом я прибегаю к сравнению и спрашиваю себя: если я свой старый синий камзол окрашу в зеленый цвет, изменится ли оттого непрочность самой ткани? если я, относительно затхлого, отжившего принципа, ограничусь только перенесением его с одного лица на другое, изменится ли оттого вредоносная сущность его? Не только не изменится, но я не получу даже удовольствия обмануть самого себя, ибо в первом случае я тотчас же убежусь, что невинная моя забота повлекла за собой лишь трату денег на окраску негодного платья, а во втором – результатом моих усилий может быть даже болезненное сотрясение.
Очевидно, следовательно, что прыщи не обладают теми условиями, с которыми сопрягается мысль о господстве над истиной. Их существование законно и даже необходимо, но оно обусловливается большим или меньшим накоплением худосочия. Следовательно, для нас, собственно, весь вопрос приводится к тому, какую именно сумму исторического худосочия благоприобрели мы до настоящей минуты возрождения, с тем чтоб на основании этого данного определить время, когда начнут подсыхать прыщи. К сожалению, мы не привели еще в известность первого и потому не можем отвечать вполне удовлетворительно и на второе.
Однако признаки подсыхания начинают уже сказываться. История не останавливает своего хода и не задерживается прыщами. События следуют одни за другими с быстротою молнии и мгновенно засушивают волдыри самые злокачественные. То, что вчера было лишь смутной надеждой, нынче является уже фактом совершившимся, является победою жизни над смертью. Вчерашний либерализм сегодня оказывается уже отсталостью. Наступает день расчета, настает пора общего покаяния.
Если вчера позволительно было ораторствовать и заявлять о сочувствии, если вчера уместно было толковать о необходимости возрождения, то тем более уместно и позволительно нынчеокончательно рассчитаться с прежнею жизнью, рассчитаться не только оконечностями языка, но и самым делом. Но, во всяком случае, не только уместно, а даже совершенно необходимо объясняться с полною откровенностью, без утайки и удержания, и, говоря об чем-нибудь языком утвердительно, не произносить в то же время мысленно частицы не.
Ибо как ни любезно прошедшее, как ни привлекательно приволье дней минувших, но оно невозвратимо.
Да, милостивые государи! оно невозвратимо, и я отлично – хорошо понимаю тот холод, который объемлет ваши сердца при этой мысли. Вы уязвлены сугубо: не только в вашей нелепой претензии остановить жизнь, но и в вашем самолюбии. Вы пели и щелкали, все в чаянии, что от вашего щелкания туман в болоте поднимется, – однако туман не поднялся. Вы прикидывались свободолюбцами, все в чаянии, что распущенность мысли и обилие словоизвержения отведут глаза, – однако глаза не отведены. Мысль обмирщилась, семя брошено, и, как ни хлопочите вы, оно фаталистически должно пройти все фазисы своего развития. Конечно, оно может дать плод и сторицею, и может уродиться сам-друг, но все-таки желанный плод будет – это верно. Это другое зерно скудного урожая также падет на землю и также даст плод. Истинно вам говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!
Вы видите, что жизнь ускользнула у вас промеж пальцев, что вы, бывшие до сих пор в самом центре жизненного круга, внезапно, как бы колдовством каким, очутились вне его. Вы ли не пели жизни дифирамбов, вы ли не обращались к ней льстивыми голосами, вы ли не угрожали ей распадением, если она не примет вас в руководители, вы ли, наконец, не доносили, не клеветали на нее! И вот, однако ж, не помогли ни дифирамбы, ни угрозы: равнодушно катятся себе да катятся волны жизни, и с каждым часом, с каждой минутой откатываются от вас все далее и далее к далеким берегам того беспредельного океана будущего, который вы не хотели и не умели исследовать. Истинно вам говорю, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!
Вы припоминаете ваше прошлое и сравниваете с ним пустыню настоящего – это первая причина скорби.
Вы припоминаете ваши недавние, еще не остывшие попытки обмануть жизнь; вы чувствуете, с невольной краской на лице, что на время сделались ренегатами и, что больнее всего, ренегатами неудавшимися; что вы бесполезно посрамили свои мозги сочувствием к каким-то новым идеям, к каким-то новым началам жизни, – это вторая причина скорби.
Вы сознаете, что вас никто не уважает, что об вас даже не скорбят, ибо для всех стала ясна арлекинская пестрота вашей одежды. Вам нельзя помянуть добром ваше прошлое, а от будущего отказались вы сами; прошлое не принимает вас, потому что дверь в него заперта наплывом новой жизни и вашим собственным ренегатством; будущее не принимает вас, потому что таков уж закон истории, что сор и нечистота фаталистически отметаются ею в царство теней, – это третья причина скорби.
Одним словом, рассчитывая по пальцам и принимая в соображение, что дважды два, как ни вертись, все будут составлять четыре, а не пять, вы приходите к тому убеждению, что для вас остается одно только приличное убежище: смерть, – это четвертая причина скорби.
Истинно вам говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тот холод, который объемлет сердца ваши!
Но вместе с тем я столько же хорошо понимаю и те ругательства, которыми полны ваши души. Горечь их так велика, что вы уже не в силах таить их, не в силах долее выдержать вашу роль. «Умрем, но напакостим!» – восклицаешь ты, автор золотушных фельетонов-реклам, – ты, идол Ноздревых и Чертопхановых! «Ни полпальца! ни четверть шага! – вторит взбудораженный тобой юный англоман Сеня Бирюков, – car il faut, á la fin, que nous ayons le courage de notre opinion!» – «Ayons le courage de notre opinion!» [110]110
надо же, в конце концов, быть смелым и иметь собственное мнение! Наберемся храбрости и выскажем свое мнение!
[Закрыть]– поют хором полосатые, выдохшиеся потомки Буеракиных и Оболдуй-Таракановых * .
Сеня, мой милый Сеня! я согласен, что это своего рода гражданское мужество; но ежели ты думаешь, что тебе первому принадлежит честь открытия его, то горько ошибаешься.
Не знаю, как в твоих палестинах, а в моем родном городе Глупове такого рода гражданское мужество давно уж в ходу. Мы только не отдавали ему надлежащей справедливости и даже не выводили из него тех великих реклам к будущему, какие выводили славянофилы из всероссийского смирения и послушливости, но оно существует – это верно. Да не может быть, чтоб и в твоих палестинах оно не водилось, это гражданское мужество. Сто́ит только, не краснея за себя, потревожить свои воспоминания, а геройского хлама, наверное, найдется в них весьма достаточно.
Сколько раз, например, колотил ты своего Петрушку за то, что он спит на твоей шубе, покуда ты до упаду отплясываешь с дочерьми Матрены Ивановны или с племянницами Анфисы Петровны, – а он и до сих пор продолжает высыпаться на той же шубе… Это ли не гражданское мужество?
Сколько раз ты сек свою маленькую курчавую сучку Джипси за то, что она связывается с разными неблагообразными дворовыми валетками и барбосками, – а она и до сих пор связывается… Это ли не courage de son opinion?
Сколько раз ты посылал в часть поваренка Никитку за то, что в твоем супе поочередно появляются то таракан, то мочалка, а таракан и мочалка и до сих пор продолжают составлять неизбежную приправу твоего dîner de garçon [111]111
холостого обеда.
[Закрыть]…– это ли не доблесть беспримерная, доблесть неслыханная, доходящая до аскетизма, до горькой насмешки над собственной спиной ее обладателя?
Следовательно, и в этом деле ты и твои единомышленники: Гриша, Сережа и Коля – являетесь не новаторами, а лишь слепыми подражателями Петрушки, Никитки и Джипси, с тою только разницей, что вас, за ваше гражданское мужество, не будут ни колотить, ни сечь, ни посылать в часть.
Тем не менее откровенность ваша, друзья мои, мне нравится. Во-первых, она отнюдь никому не вредит; во-вторых, веселее как-то смотреть на вас теперь, когда вы начистоту ругаетесь, нежели в то время, когда вы подольщались, грустили и клянчили, и выпрашивали себе копеечку; и в-третьих, я не могу не держать в памяти и того, что вы находитесь накануне смерти, а в таком интересном положении всякая дикость к лицу. Спросите у меня стакан воды со льдом, спросите у меня буженины с чесноком, спросите клюквы, спросите грибов – я охотно дам вам всего этого, ибо знаю, что воздержание не подарит вам ни одной лишней минуты, а удовлетворение прихоти утешит вас, и вы отойдете в царство теней с улыбкою, а не с искривленным ртом и стиснутыми зубами.
Итак, в минуту расчета, в минуту отпущения грехов, пестрая риза ложного либерализма упала сама собою, фраза значительно похудела и утратила свою одутловатость, реклама стушевалась… Очень приятно!
И, боже, как просто, как бесхитростно совершилась эта внезапная перемена диверсии! Почти механически. Мы не дали себе труда даже оговориться, мы даже не почтили публику соблюдением самых простых приличий, обыкновенно употребляемых при подобного рода метаморфозах. Что за дело до того, что нас уличат в двоегласии; что за дело до того, что нас назовут бесстыдниками! Чувствуя и ценя только боль физическую, мы не гонимся за выражениями, не гонимся даже за толчками, памятуя правило пресловутого Расплюева, что жаловаться следует тогда только, когда хватят, что называется, до бесчувствия * .
Но эта бесхитростность, эта казацкая способность обращаться бесцеремонно с самыми деликатными предметами имеют и свою полезную сторону. По крайней мере, мы, люди меньшинства, которые с такою сердечною тревогой внимали либеральным упражнениям ревнителей тьмы; мы, которые сгоряча поверили, что каменоломни раскаиваются и изъявляют искреннее желание сделаться цветущими и благоухающими садами; мы, которые неусыпно вплетали мирт и лавр в венки героев, снисходительно улыбавшихся нашей юношеской горячности, – мы убедились наконец, что не от гробов повапленных предстоит ждать слова жизни, что не на них должны покоиться наши упования.
Эти упования, эти надежды должны быть обращены нами к нам самим. В наших собственных убеждениях, в жизненности наших собственных сил должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни в чем ином.
Если поколение, к которому обращаются эти строки, хочет сделаться достойным своего призвания, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и в мыслях, и в выражениях, и в действиях соблюдает ту опрятность и даже брезгливость, которая одна может обеспечить действительный успех в будущем.
Повторяю: мы, люди глуповского мира, слишком повадливы, слишком покладисты. Мы во всякой среде легко уживаемся, со всяким явлением миримся почти без сопротивления. И потому из нас можно лепить всякую фигуру, и даже без больших издержек: стоит только по голове погладить. Удивительная способность таять и обращаться в сырость умерщвляет в нас всякую инициативу, всякую попытку к самодеятельности. И ведь не то горько, что мы таем, а то, что мы таем искренно, что мы при этом кривляемся и хихикаем, что мы чувствуем себя столь же счастливыми, сколько счастливыми чувствовали себя наши достославные предки, когда их трепали по плечу их добрые начальники… И вот плоды: роковая случайность, как господствующая стихия в жизни, неприличный сумбур в понятиях и представлениях и полное отсутствие серьезности в обращении с предметами…
От всего этого добра нас может спасти только упоминаемая выше опрятность мысли, опрятность чувства. До тех пор, пока мы не скажем себе, что тот, кто идет не с нами, идет против нас, до тех пор, покуда мы будем направо и налево раздавать poignées de main [112]112
рукопожатия.
[Закрыть]встречному и поперечному, более принимая в соображение покрой жилета, нежели покрой мысли, до тех пор мы будем слабы, мы будем нелепы, мы будем презренны, до тех пор наше слово будет подобно писку кулика-поручейника, назойливо, но бесследно раздающемуся над пустынными берегами реки.
Да, только доведенная до героизма мысль может породить героизм и в действиях! Да, только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса!
Итак, вот к какому пришли мы результату, любезный сын Глупова!
Но, договорившись до такого заключения, я чувствую, что сердце мое поражено смущением. В самом деле, положим, что мы освободились от всяких глуповских обязательств, что в глазах наших уж нет героев, что руки и умы у нас развязаны, что мысль наша не робеет и не ползает в прахе перед авторитетами – что ж дальше?
Ведь, наверное, мы из того с тобой хлопочем и бьемся, читатель, что у нас есть в запасе какая-нибудь жизненная мысль, что у нас имеются в виду какие-то новые жизненные основы, которыми мы хотели бы заменить прежние, пораженные ржавчиной пружины, еще и доныне заставляющие действовать старый глуповский механизм. А если все это есть, то неужто же сидеть нам в скромном безмолвии над нашими сокровищами, неужто ж прятать нам их для себя и для приятелей? Нет, не сидеть и не прятать, – это ясно, во-первых, потому, что было бы бессмысленно обладать сокровищем и в то же время с умыслом уничтожать его ценность, а во-вторых, потому, что, если б и хотели мы смирно сидеть – не усидим ни за что в свете! Друг! у мысли есть сила особенная, которая так и подталкивает человека вперед да вперед, так и шепчет ему в ухо: «Расскажи да расскажи!»
Итак, мы будем, мы обязаны действовать. Отлично!
Где же, в какой среде будем мы проводить нашу мысль? Памятуешь ли ты, что арена твоей деятельности не в пространстве и времени, а все в том же милом Глупове, где нынче так сладко свищут соловьи-либералы, что ты никогда и никуда не уйдешь от Глупова, что он будет преследовать тебя по пятам, доколе не загонит в земные пропасти, что он до тех пор будет всасываться тебе в кровь, покуда не доведет ее до разложения?
Если ты это памятуешь, то должен также знать, что хотя Глупов и бесспорно хороший город, но вместе с тем город, любящий жить в мире с действительностью и откровенно, даже почти неприлично трусящий при малейшем намеке на разлад с нею. Мы, люди старого глуповского закала, любим, чтоб во «всем этом» было легкое, постепенное и неторопливое вперед поступание, и притом чтоб поступание это существовало преимущественно в наших общественных диалогах и только самую чуточку переходило в практику. Ибо под практикой мы разумеем только самую настоящую, действительную практику, а не химеры * . Мы охотно, например, пожертвуем каким-нибудь фестончиком, мы охотно побеседуем между собой насчет разных этих усовершенствованьиц, мы даже не прочь шепнуть друг другу на ушко que la position n’est plus tenable [113]113
что положение стало невыносимым.
[Закрыть](«совсем-таки мелких денег достать нельзя – просто смерть!»), но чтоб в соображения наши входили какие-нибудь этакие абстрактности – от этого упаси нас боже! И главное, без скандала, mon cher, без скандала! Ибо согласие с действительностью представляет свои бесконечные удобства, ибо согласие с действительностью вносит мир и благоволение в сердца человеков. Mon cher! мне очень приятно видеть вас, человека с широкими, непреклонными убеждениями: я вам сочувствую, и не только с удовольствием, но даже с учащенным биением сердца прислушиваюсь к речам, горячим потоком льющимся из уст ваших; но оставьте же меня наслаждаться этим сладким биением сердца в спокойствии, не тормошите, не огорчайте меня, не отрывайте меня так насильственно и грубо от раковины, в которой я с таким удобством обмял себе место! Пусть, слушая вас, я буду воображать себя в театре – на это я согласен; но чтоб я признал за вами право втискивать и меня в число хористов – это уж извините! Внимая вам, я мысленно созерцаю процессию, несущую с торжеством Иоанна Лейденского, я слышу марш, я слышу хор толпы * – все это очень хорошо, все это раздражает мои нервы, и раздражает, могу сказать, в самом благородном смысле; но не могу же я… не могу же я… согласитесь, что ведь я не могу?
Такова наша глуповская политика, такова наша глуповская философия. И если ты не хочешь действовать в пустоте, если ты желаешь, чтоб мы, глуповцы, внимали тебе, ты должен подделаться под нашу масть, ты должен признать нас всецело с нашею политикой и нашею философией.
И таким образом для твоей деятельности представляется два пути: или ты решишься сам притвориться глуповцем, с тем, чтоб сначала приучить нас к музыке речей, а потом, неожиданным движением руки и не давши нам, так сказать, опомниться, вдруг снять с нас дурацкий колпак; или же прямо пойдешь напролом, прямо схватишься за кисточку колпака и будешь тянуть его прочь с головы.
Если ты последуешь первому пути – ты пропал! Во-первых, люди, деятельность которых основана на уступках и нравственном сводничестве, не уважаются. Это ничего, что сами глуповцы первейшие сводники в мире и что не пропадают же они от этого: разве они уважают друг друга? да разве они и нуждаются в уважении? разве знают они, что такое уважение? Они живут – и больше ничего. А для тебя уважение нужно, ибо ты имеешь претензию снять дурацкий колпак, ибо, не приобретя уважения, ты не «притворишься» глуповцем, а сделаешься им действительно. Во-вторых, мы, глуповцы, хотя и простодушный народ, но имеем чутье острое и цепкое. Мы как раз поднюхаем, что ты не впрямь глуповец, а только прикидываешься им. А поднюхавши, мы скажем друг другу: «Эге! да он мошенник! да к тому же, слава богу, и трус!» И ведь натешимся же мы в ту пору над тобой! Мы вышлем на тебя Зубатова, который, заметив в твоей физиономии нечто угрюмое, не подходящее к детской беззаботности, требуемой правилами глуповского этикета, подступит к самому твоему лицу и тоном, не терпящим отговорок, потребует, чтоб ты сделал «хи-хи!». (И сделаешь, mon cher! и получше тебя люди бывали – и те «хи-хи!» делывали!). Мы вышлем на тебя Удар-Ерыгина, который, видя, что ты принял образ жалкой, отощавшей кошки, робко пробирающейся по стене, чтоб стащить со стола кусок мяса, подстережет тебя и ловко ошпарит горячими помоями! А мы-то будем надрываться от смеху! а мы-то будем взапуски швырять в тебя, кто камешком, а кто и поленцем, в то время как ты, весь в язвах, будешь, подпрыгивая от боли, удаляться от нас в пустыню!