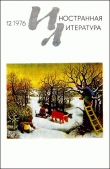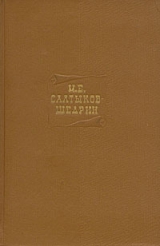
Текст книги "Том 3. Невинные рассказы. Сатиры в прозе"
Автор книги: Михаил Салтыков-Щедрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 50 страниц)
А между тем в комнате все холоднее и холоднее; на дворе делается темно; ребенок все так же стонет, все так же жалобно просит хлеба! Боже! да чем же все это кончится? куда же поведет это? Хоть бы поскорее пришел завтрашний день! а завтра что?..
Но ребенок уж не стонет; он тихо склонился головкой к груди матери, но все еще дышит!..
– Тише! – едва слышно говорит Наденька, – тише! Саша уснул…
Но что же за мысль гнездится в головке твоей, Наденька? Зачем же ты улыбаешься, зачем в этой улыбке вдруг сверкнуло отчаяние и злобная покорность судьбе? Зачем ты бережно сажаешь ребенка на стул и, не говоря ни слова, отворяешь дверь бедной комнаты?
– Наденька, Наденька! куда ты идешь? Что хочешь ты делать?
Ты сходишь несколько ступеней и останавливаешься… ты колеблешься, милое дитя! В тебе вдруг забилось это маленькое, доброе сердце, забилось быстро и неровно… Но время летит… там, в холодной комнате, в отчаянии ломает руки голодный муж твой, там умирает твой сын! И ты не колеблешься, в отчаянии ты махнула рукой; ты не сходишь – бежишь вниз по лестнице… ты в бельэтаже… ты дернула за звонок… Страшно, страшно за тебя, Надя!
А он уж ждет тебя, дряхлый, бессильный волокита, он знает, что ты придешь, что ты должнаприйти, и самодовольно потирает себе руки, и самодовольно улыбается, поглядывая на часы… О, он в подробности изучил натуру человека и смело может рассчитывать на голод!
– Я решилась, – говоришь ты ему, и голос твой спокоен…
Да, спокоен, не дрогнул твой голос, а все-таки спокойствие-то его как будто мертвое, могильное…
И старик улыбается, глядя на тебя; он ласково треплет тебя по щеке и дрожащею рукой привлекает к дряхлой груди своей юный стан твой…
– Да как же ты бледна, душенька! – говорит он ласко во, – видно, тебе очень кушать хочется…
Э! да он просто шутник! он превеселый малый, этот маленький старичок, охотник до миленьких, молоденьких женщин!
– Да, я хочу есть! – отвечаешь ты, – мне нужно денег.
И ты протягиваешь руку… Стало быть, ты еще хороша, несмотря на твое страдание; стало быть, есть еще в тебе, несмотря на гнетущую нищету твою, нечто зовущее, возбуждающее застывшие силы шутливого старика, потому что он, не считая, кладет тебе в руку деньги; он не торгуется, хотя и знает, что может купить тебя за самую ничтожную плату…
– Ешьте, – говоришь ты мужу и сыну, бросая на стол купленный ужин, а сама садишься в угол.
– Это жадные волки дали, мама? – спрашивает тебя ребенок, с жадностью поглощая ужин.
– Да, это волк прислал, – отвечаешь ты рассеянно и задумчиво.
– Мама! когда же убьют голодных волков? – снова спрашивает ребенок.
– Скоро, дружок, скоро…
– Всех, убьют, мама? ни одного не останется?
– Всех, душенька, всех до одного, ни одного не останется…
– И мы будем сыты? у нас будет ужин?
– Да, скоро мы будем сыты, скоро нам будет весело… очень весело, друг мой!
А между тем Иван Самойлыч молчит; потупив голову, с тайным, но неотступно гложущим угрызением в сердце ест он свою долю ужина и не осмеливается взглянуть на тебя, боясь увидеть во взоре твоем безвозвратное осуждение свое.
Но он ест, потому что и его мучит голод, потому что и он человек.
Но он думает, горько думает, бедный муж твой! Страшная мысль жжет его мозг, неотступное горе сосет его грудь! Он думает: сегодня мы сыты, сегодня у нас есть кусок хлеба, а завтра? а потом?.. вот о чем думает он! ведь и завтра ты будешь должна…а там опять…
Вот эта страшная, гложущая мысль! Наденька, Наденька! правда ли, что ты будешь должна?..
Ивану Самойлычу делается душно; глухое рыдание заливает грудь его; голова его горит, глаза открыты и неподвижно устремлены на Наденьку…
– Наденька! Наденька! – стонет он, собрав последние силы.
– Да что ж это, в самом деле, за срам такой! – слышится ему знакомый голос, – здесь я, здесь, сударь! что вам угодно? что вы кричите? Целую ночь глаз сомкнуть не давали! Вы думаете, что я не понимаю, вы думаете, что я не вижу… Крепостная я ваша, что ли, что вы на меня так грозно смотрите?
Иван Самойлыч открыл глаза; в комнате было светло, у кровати его стояла Наденька в совершеннейшем утреннем дезабилье.
– Так это… был сон! – сказал он, едва очнувшись, – так ты, того… не ходила к старику, Наденька?
Девица Ручкина взглянула на него в недоумении. Но вскоре все сделалось для нее ясным как на ладони; ее вдруг осенила светлая мысль, что все это неспроста и что старик-то именно не кто иной, как сам Иван Самойлыч, но уж если она раз сказала: не бывать! – так уж и не бывать тому, как ни хитри и ни изворачивайся волокита.
– Нет, черт возьми! должно же это кончиться? – сказал про себя Иван Самойлыч, когда Наденька вышла из комнаты, – ведь этак просто ни за грош пропадешь!
Господин Мичулин взглянул в зеркало и нашел в себе большую перемену. Щеки его опали и пожелтели пуще прежнего, лицо осунулось, глаза сделались мутны; весь он сгорбился и изогнулся, как олицетворенный вопросительный знак.
А между тем нужно идти, нужно просить, потому что, действительно, пожалуй, ни за грош пропадешь…
Да полно, идти ли, просить ли?
Сколько времени ходил ты, сколько раз просил и кланялся – выслушал ли кто тебя? Ой, ехать бы тебе в деревню к отцу в колпаке, к матери с обвязанною щекой…
Но, с другой стороны, тут же рядом возникает вопрос, требующий безотлагательного объяснения.
«Что́ же ты такое? – говорит этот навязчивый вопрос, – неужели для того только и создан ты, чтоб видеть перед собою глупый колпак, глупую щеку, солить грибы и пробовать домашние наливки?»
И среди всего этого хаоса противоречащих мыслей внезапно восстает в воображении Ивана Самойлыча образ злосчастного Емели… Этот образ так ясно и отчетливо рисуется перед глазами его, как будто действительно стоит перед ним согнутый и трясущийся старик, и может он его ощупать и осязать руками. Все туловище Емели как будто разлезается в разные стороны, все члены будто развинчены и вывихнуты; в глазах слезы гноятся, и голова трясется…
Жалобно протягивает он изнеможенную руку, дрожащим голосом вымаливает хоть десять копеечек и потом указывает на штоф с водкою и приговаривает: «Познание есть зла и добра!»
Иван Самойлыч стоит, как в чаду; он хочет освободиться от страшного кошмара и не может…
Фигура Емели преследует его, давит ему грудь, стесняет дыхание… Наконец он делает над собою сверхъестественное усилие, хватает шляпу и опрометью бежит из комнаты.
Но на пороге его останавливает Беобахтер.
– Вы поняли, что я говорил вам вчера? – спрашивает он с таинственным видом.
– То есть… догадываюсь, – отвечает Иван Самойлыч, совершенно смущенный.
– Разумеется, это были только некоторые намеки, – снова начинает кандидат философии, – ведь это дело сложное, очень сложное, всего и не перескажешь!
Минутное молчание.
– Вот, возьмите это! – прерывает Беобахтер, подавая Мичулину крохотную книжонку, из тех, которые в Париже, как грибы в дождливое лето, нарождаются тысячами и продаются чуть ли не по одному сантиму.
Иван Самойлыч в недоумении берет книжку, решительно не зная, что с нею делать.
– Прочтите! – говорит Беобахтер торжественно, но все-таки чрезвычайно мягко и вкрадчиво, – прочтите и увидите… тут все!.. понимаете?
С этими словами он удаляется, оставив господина Мичулина в совершенном изумлении.
V
Погода на дворе стояла сырая и мутная; как и накануне, сыпалось с облаков какое-то неизвестное вещество; как и тогда, месили по улицам грязь ноги усталых пешеходов; как и тогда, ехал в карете закутанный в шубу господин с одутловатыми щеками, и ехал в калошах другой господин, которому насвистывал вдогонку ветер: «Озяб, озяб, озя-я-яб, бедненький человек!» Словом, все по-прежнему, с тем незначительным прибавлением, что всю эту неблаговидную картину обливал какой-то бледный, мутный свет.
Навстречу Ивану Самойлычу ехала очень удобная и покойная карета, придуманная в пользу бедных людей, в которой, как известно, за гривенник можно пол-Петербурга объехать.
Иван Самойлыч сел. В другое время, при «сем удобном случае», он подумал бы, может быть, о промышленном направлении века и выразился бы одобрительно насчет этого обстоятельства, но в настоящую минуту голова его была полна самых странных и черных мыслей.
Поэтому кондуктор не получил от него ни улыбки, ни поощрения – ничего, чем так щедро любят наделять иные охотники до чужих дел.
А между тем в карету набираются другие господа; сперва вошла какая-то скромная девушка, потупив глазки; вслед за нею впрыгнул белокурый студент весьма приятной наружности и сел прямо против нее.
– Здравия желаем-с! – сказал белокурый студент, обратясь к девушке. Но девушка не отвечает, а, посмотрев исподлобья на юношу, подносит ко рту платок и отворачивает к окну свое личико, изредка испуская из-под платка скромное «ги-ги-ги!».
– Наше почтение-с! – начал снова студент, обращаясь к веселой девушке.
Но ответа и на этот раз не последовало; только скромное «ги-ги-ги!» выразилось как-то резче и смелее.
– А что вы скажете насчет этого нововведения? – ласково спросил Ивана Самойлыча очень опрятно одетый господин с портфёлем под мышкою.
Господин Мичулин махнул головой в знак согласия.
– Не правда ли, как дешево и экономически? – снова и еще ласковее обратился портфёль, в особенности нежно, хотя и не без энергии, напирая на слово «экономически».
– Да-с, выгодная спекуляция, – отвечал Иван Самойлыч, усиливаясь, в свою очередь, поощрительно улыбнуться.
– О, очень выгодно! очень экономически! – отозвался в другом углу господин с надвинутыми бровями и мыслящей физиономией, – ваше замечание совершенно справедливо, ваше замечание выхвачено из натуры!
– Впрочем, это смотря по тому, с какой точки зрения смотреть на предмет, – глубокомысленно заметил господин с огромными черными усами, и тут же физиономия его приняла такой таинственный вид, как будто спешила сказать всякому: знаем мы, видали мы!..
– Батюшки, пустите! да отворяй же, лакей! батюшки! вспотел, измучился!.. Ну уж, город! эк его угораздило!
Разговор, принимавший несколько назидательное направление, вдруг прервался, и взоры всех пассажиров обратились на толстого господина в какой-то странной, лилового цвета, венгерке, который, пыхтя и кряхтя, влез боком в карету.
– Ну уж город! – говорила венгерка, – истинно вам скажу, божеское наказание! я, изволите видеть, здесь по своему делу – так, поверите ли, просто, то есть, измучили, проклятые! душу тянут, вздохнуть не дают! И всё этак, в белых перчатках: на красную, подлец, и смотреть не хочет – за кого, дескать, вы нас принимаете, да правосудие у нас не продажное! а вот, как сто рублев… Эка бестия, эка бестия! поверите ли, даже вспотел весь!
И венгерка снова начала кряхтеть и пыхтеть, со всех сторон обмахиваясь платком, что возбуждало немалую веселость в скромной девушке, и чуть слышные «ги-ги-ги!» снова начали вылетать из-под платка, закрывавшего рот ее.
– То есть, что же вы разумеете под точкой зрения? – прервал портфёль, которого, видимо, конфузил санфасон [88]88
развязность.
[Закрыть]лиловой венгерки, – если вы хотите сказать то, что французы так удачно называют поэнь де вю, кудёль… [89]89
точкой зрения, взглядом.
[Закрыть]
– Знаем мы! – пожили мы! – и французов видали, да и немцев тоже! – отвечали усы и потом, наклонясь с таинственным видом и оглядываясь во все стороны, прошептали вполголоса: – Что-то скажут об этом извозчики… вот что!
Присутствующие вздрогнули; действительно, никому из них до тех пор и в голову не приходило, что-то скажут о том извозчики, а теперь около них, и сзади, и спереди, и по бокам, вдруг заговорили тысячи извозчичьих голосов, кивали тысячи извозчичьих голов, весь мир покрылся сплошною массою воображаемых извозчиков, там и сям прерываемою… опустелыми извозчичьими колодами!
– Да; если иметь такого рода консидерацию [90]90
соображение.
[Закрыть], – прошептал портфёль.
– Да уж что тут? – говорили между тем усы еще таинственнее и ударяя себя при этом кулаками в грудь, – уж я знаю, уж вы меняспросите! – мне это дело как своя ладонь известно!
И усы действительно показали немелкого разбора голую ладонь и, еще более наклонившись и предварительно оглянувшись на все стороны, вполголоса приговаривали:
– Уж мне это дело ближе известно… я служу там…
– Так вы тоже бюрократ? – спросил портфёль, оправившись от первого ошеломления и как в каменную стену упираясь в слово «бюрократ».
– Да ведь это опять-таки с какой точки зрения посмотреть на предмет! – лаконически отвечали усы.
– А я вам скажу, господа, что все это вздор! совершенный вздор! – загремела венгерка.
По соседству чуть слышно раздалось знакомое «ги-ги-ги!» веселой девушки.
– Истинно так! – продолжала греметь венгерка, – истинно так! что это за народ, хоть бы и извозчики! дрянь, осмелюсь вам доложить, просто слякоть!.. Вот кабы вы у нас, в нашей стороне побывали, – вот народ! тот так уж действительно усахарит! – вот природа, так природа! это уж, истино вам говорю, смотреть в свое удовольствие можно! А то что это за народ у вас, взглянуть не на что! просто дрянь, слякоть!
И венгерка тоскливо покачивала головою.
– Да; это если смотреть на предмет с одной точки, – сказал между тем портфёль, улыбаясь и не обращая внимания на пессимистское возражение венгерки, – но если взглянуть на дело, например, со стороны эманципации животных…
Усы жалобно замычали.
– Да ведь это все пуф! – сказали они, – это всё французы привезли! Извозчики – вот главное дело! – извозчики – вот корень причины! – извозчики, извозчики, извозчики!
И снова в глазах всех присутствующих замелькали извозчики, извозчики, извозчики!
– Вот оно дело-то! – продолжали усы, – вон он сыт, наелся, – его и колом с печи не своротишь! А вот как хлебца-то нет, он и пошел, и пошел… а уж как пошел, так, известно, что будет!.. знаем мы! видали мы!
– О, ваше замечание совсем справедливо! ваше замечание выхвачено из природы! – отозвались брови, – голод, голод и голод – вот моя система! вот мой образ мыслей!
– Так вот с какой точки зрения должно смотреть на предмет! – таинственно повторили усы, – а уж что тут животное! Животное, известно, скотина!
– Однако ж, читали ли вы в «Петербургских ведомостях» артикль? [91]91
статью.
[Закрыть]– возразил портфёль, с необыкновенным усилием напирая на слово «артикль».
– Знаем мы! – читали мы! – вздор все это, надуванция! гога и магога!
– Однако ж с большим увлечением написан…
– Увлечение? – загремела венгерка, – уж позвольте, насчет увлечения…
– Ги-ги-ги! – отозвалось по соседству.
– Так вот, изволите видеть, я все насчет увлечения-то! – продолжала венгерка, – да вот барышеньке все что-то смешно… веселая барышенька!.. так вот, насчет того-то… у меня, смею вам доложить, покойник батюшка, царство ему небесное, предводителем был, так вот это увлечение! Как замахает, бывало, руками… у! Отстаивал, нечего сказать! умел-таки постоять за своих покойник! Нет, нынче такие люди повывелись! – с фонарем таких не отыщешь! – нынче все разбирают: может, дескать, и прав!.. о-ох, времена тугие пришли!.. а барышенька-то все смеется… веселая барышенька!
– Когда же можно вас видеть? – говорил между тем исподтишка студент.
– Ах, какие вы, право, странные! – отвечала веселая барышенька, еще пуще закрываясь платком.
– Вы находите? – снова начал студент.
– Разумеется! ги-ги-ги!
– Отчего же – разумеется?
– Да как же это можно!
– Да отчего же это неможно?
– Да нельзя!
– Странно! – сказал студент, хотя, по-видимому, не отчаивался еще в успехе своего предприятия.
– Главное дело в том, – соображали вслух усы, – чтоб человеку цель была дана, чтоб видел человек, зачем он существует… вот главное – а прочее все пустяки!
Иван Самойлыч начал прислушиваться.
– То есть вы разумеете под этим то, что у французов зовется проблемою жизни? – спросил портфёль, сильно напирая на слово «проблемою». – Что французы? что немцы? – лаконически отвечали усы, – уж поверьте моей опытности, уж мне лучше знать это дело, уж я тами служу… все это надуванция, все гога и магога!.. это дело мне вот как известно!
И снова усы показали обнаженную ладонь чрезвычайно почтенного размера.
– Однако ж, согласитесь со мной, ведь и французская нация имеет свои неотъемлемые достоинства… Конечно, это народ ветреный, народ малодушный – кто же против этого спорит?.. Но, с другой стороны, где же найдете столько самоотвержения, того, что они сами так удачно назвали – резиньясьйон? [92]92
покорность судьбе.
[Закрыть]а ведь это, я вам скажу…
– Знаем мы! – видали мы и французов, и немцев! – пожили-таки на своем веку! – говорили бесчувственные усы, – все это вздор! – главное дело, чтоб человек видел, что он человек, знал бы цель!.. Цель-то, цель – вот она штука, а прочее – что? вздор! все вздор!.. уж поверьте моей опытности…
– Вот вы изволили выразиться насчет цели нашего существования, – скромно прервал Иван Самойлыч, – изволите видеть, я сам много занимался насчет этого предмета, и любопытно бы узнать ваши мысли…
Усы задумались; Мичулин ожидал с трепетом и волнением разрешения загадки.
– Лакей! что ж ты, братец, не остановишь? ворон считаешь, тунеядец! – загремела венгерка.
– Так и я тут выйду, – меланхолически сказали усы.
– А как же ваши мысли насчет этого обстоятельства? – робко заметил Иван Самойлыч.
– Все зависит от того, с какой точки взглянуть на предмет! – разом сообразили усы.
– О, это совершенно справедливо! ваше замечание выхвачено из натуры! – отозвались надвинутые брови, – все, решительно все зависит от точки зрения…
Усы и брови вышли из кареты. Медленно и неповоротливо поплелся снова экономический экипаж по гладкой мостовой.
– Когда же вас можно видеть? – по-прежнему спрашивал студент у веселой барышеньки.
– Ах, какие вы странные! – по-прежнему отозвалась барышенька, закрывая рот платком.
– Отчего же – странный? – приставал студент.
– Да как же это возможно!
– Да отчего же это невозможно?
– Да оттого, что нельзя!
– А я так думаю совсем напротив, – отвечал студент и дернул за снурок.
– Пойдемте! – снова сказал юноша.
– Ги-ги-ги!
Карета остановилась, студент вышел, барышенька немножко подумала – и все-таки пошла за ним, сказав, однако ж: «Ах, право, какие вы странные! уж чего не вздумают эти мужчины!» – но сказала она это решительно только для очищения совести, потому что студент уж вышел и ждал ее на улице.
Наконец и Ивану Самойлычу пришлось выходить. На улице, по обыкновению, сновала взад и вперед толпа, как будто искала чего-то, хлопотала о чем-то, но вместе с тем так равнодушно сновала, как будто сама не сознавала хорошенько, чего ищет и из чего бьется.
И герой наш отправился искать и хлопотать, как и все прочие.
Но и на этот раз фортуна, с обыкновенною своею настойчивостью, продолжала показывать ему нисколько не благовидный зад свой.
Как нарочно, нужный человек, к которому уж в несчетный раз пришел Иван Самойлыч просить себе места, провел целое утро на воздухе, по случаю какого-то торжества. Нужный человек был не в духе, беспрестанно драл и марал находившиеся пред ним бумаги, скрежетал зубами и в сотый раз обещал согнуть в бараний рог и упечь «куда еще ты и не думал» стоявшего пред ним в струнке маленького человека с весьма лихо вздернутым седеньким хохолком на голове. Лицо нужного человека было сине от свежего еще ощущения холода и застарелой досады; плеча вздернуты, голос хрипл.
Иван Самойлыч робко вошел в кабинет и совершенно растерялся.
– Ну, что́ еще? – спросил нужный человек отрывистым и промерзлым голосом, – ведь вам сказано?
Иван Самойлыч робко приблизился к столу, убедительным и мягким голосом стал рассказывать стесненные свои обстоятельства; просил хоть что-нибудь, хоть какое-нибудь, хоть крошечное местечко.
– Я бы не осмелился, – говорил он, заикаясь и робея все более и более, – да ведь посудите сами, последнее издержал, есть нечего, войдите в мое положение.
– Есть нечего! – возразил нужный человек, возвышая голос, – да разве виноват я, что вам есть нечего? да что вы ко мне пристаете? богадельня у меня, что ли, что я должен с улицы подбирать всех оборвышей… Есть нечего! – ведь как нахально говорит! Изволите видеть, я виноват, что ему есть хочется…
Седенький старичок с хохолком тоже не мало удивился.
– Да ведь и я не виноват в этом, посудите сами, будьте снисходительны, – заметил Иван Самойлыч.
– Не виноват! – вот как отвечает! На ответы-то, брат, все вы мастера… Не виноват! Ну, да положим, что вы не виноваты, да я-то тут при чем?
Нужный человек в волнении заходил по комнате.
– Ну, что ж вы стоите? – сказал он, подступая к господину Мичулину и как будто намереваясь принять его в потасовку, – слышали?
– Да я все насчет места, – возразил Иван Самойлыч несколько твердым голосом, как бы решившись во что бы то ни стало добиться своего.
– Говорят вам, что места нет! слышите? Русским языком вам говорят: нет, нет и нет!.. Поняли вы меня?
– Понять-то я понял! – глухим голосом отвечал Мичулин, – да ведь есть-то все-таки нужно!
– Да что вы ко мне привязались? – да вы знаете ли, что я вас, как неблагонамеренного и назойливого, туда упеку, куда вы и не думаете? Слышите! – есть нужно! точно я его крепостной! Ну, в богадельню, любезный, идите! в услужение идите… хоть к черту идите, только не приставайте вы ко мне с вашим «есть нечего»!
И нужный человек снова начал разминать по комнате окоченевшие члены.
– Тут целое утро на холоду да на сырости… орешь, кричишь на них, на бестий, а они еще и дома покоя не дают…
– Да ведь я не виноват, – снова возразил Иван Самойлыч дрожащим голосом, худо скрывая накипевшую в груди его злобу, – я не виноват, что целое утро на холоду да на сырости…
– А я виноват? – с запальчивостью закричал нужный человек, топнув ногою и сильно пошевеливая плечами, – виноват? а? да ну, отвечайте же!
Иван Самойлыч молчал.
– Что ж вы привязываетесь? Да нет, вы скажите, что ж вы пристаете-то? виноват я, что ли, что вам есть нечего? виноват? а?
– Стыдно будет, если на улице подымут, – заметил Иван Самойлыч тихо.
– Отвяжитесь вы от меня! – вскричал нужный человек, теряя терпение, – ну, пусть подымут на улице! я вам говорю: нет места, нет, нет и нет.
Иван Самойлыч вспыхнул.
– Так нет места! – закричал он вне себя, подступая к нужному человеку, – так пусть на улице подымут – так вот вы каковы, а другим небойсь есть место, другие небойсь едят, другие пьют, а мне и места нет!..
Но вдруг он помертвел; малый-то был он смирный и безответный, и робкая его натура вдруг всплыла наружу. Руки его опустились; сердце упало в груди, колени подгибались.
– Не погубите! – говорил он шепотом, – виноват – я! я один во всем виноват! Пощадите!
Нужный человек стоял как оцепенелый; с бессознательным изумлением смотрел он на Ивана Самойлыча, как будто не догадываясь еще хорошенько, в чем тут дело.
– Вон! – закричал он наконец, оправившись от изумления, – вон отсюда! и если еще раз осмелитесь… понимаете?
Нужный человек погрозил, сверкнул глазами и вышел из комнаты.
VI
Иван Самойлыч был окончательно уничтожен. В ушах его тоскливо и назойливо раздавались страшные слова нужного человека:
– Нет места! нет, нет и нет!
– Да отчего же нет мне места? да где же, наконец, мое место? Боже мой, где это место?
И все прохожие смотрели на Ивана Самойлыча как будто исподлобья и иронически подпевали ему: «Да где же, в самом деле, это место? ведь кто же нибудь да виноват, что нет его – места-то!»
Мичулин решился немедленно обратиться с этим вопросом к людям знающим, тем более что его мучили уж не одни материальные лишения, не одна надежда умереть с голода, но и самая душа его требовала успокоения и отдыха от беспрестанных вопросов и сомнений, ее осаждавших.
Знающие люди были не кто иные, как известные уж читателю Вольфганг Антоныч Беобахтер, философии кандидат, и Алексис Звонский, недоросль из дворян.
Оба друга только что пообедали и, сидя на диване, покуривали себе папироски. У Вольфганга Антоныча была в руках гитара, на которой он самым сладкозвучным образом тренькал какую-то страшную бравуру; у Алексиса плавала в глазах какая-то мутная влага, на которую он беспрестанно и горько жаловался, говоря, что она мешает ему прямо и бодро взглянуть в самые глаза холодной, бесстрастной и безотраднойдействительности. Друзья, казалось, были в хорошем расположении духа, потому что говорили о будущих судьбах человечества и об эстетическом чувстве.
Оба друга равно стояли грудью за страждущее и угнетенное человечество; разница состояла только в том, что Беобахтер, как кандидат философии, непременно требовал ррразрррушения, а Алексис, напротив того, готов был положить голову на плаху, чтоб доказать, что период разрушения миновался и что теперь нужно создавать, создавать и создавать…
– Ну, клади! – говорил Беобахтер самым равнодушным голосом, делая при этом обычное движение разжатою рукою сверху вниз и уж совсем приготовившись отмахнуть Алексису его легковесную голову.
Но Алексис головы не клал.
– Уж ты не коварствуй, – возглашал Беобахтер мелодическим голосом в ту минуту, когда вошел Иван Самойлыч, – ты не уклоняйся, а говори прямо: любишь или не любишь? любишь – так прочь их, с лица земли их – вот что! А иначе не любишь!
– Однако ж, за что ж их с лица земли? – заметил, с своей стороны, Алексис, – я, право, никак не могу понять этого ригоризма…
И действительно, по лицу Алексиса можно было угадать, что он точно никак не мог понять.
Кандидат философии крошечным сжатым кулачком описал самую незаметную дугу.
– И знать ничего не хочу, и видеть ничего не хочу! – говорил он медовым своим голоском, – и не представляй ты мне своих резонов! все это софизмы, любезный друг! Не любишь, говорю тебе, не любишь – и все тут! Так бы и сказал с первого слова! Разрушить, говорю тебе, ррразрушить – вот что нужно! а прочее все вздор!
И господин Беобахтер сделал несколько аккордов на гитаре и запел совершенно особенную и крайне затейливую бравуру, но запел таким голосом, как будто гладил кого-нибудь по головке, приговаривая: «Паинька, душенька! умница, миленький!»
– Странно, однако ж!.. – заметил после некоторого молчания, собравшись с мыслями, Алексис.
Беобахтер сделал совершенно незаметное движение плечами.
Буква рснова посыпалась в страшном изобилии.
– Странно, однако ж! – не переставал возражать, с своей стороны, Алексис, всякий раз все более и более собираясь с мыслями.
– Уж я тебя, подлеца, насквозь знаю, – говорил Беобахтер, – ведь ты «буржуазия», я тебя знаю…
На это Алексис отвечал, что, ей-богу, он не «буржуазия», и что, напротив того, для человечества готов всем на свете пожертвовать, и что если уж на то пошло, то, пожалуй, хоть сейчас же, среди белого дня, пройдет по Невскому под руку с мужиком.
– Нет, уж это будет не эстетически! – заметил господин Беобахтер.
– Ну, я не думаю, – отвечал Алексис, еще раз собравшись с мыслями.
– Что такое эстетическое чувство? – спросил господин Беобахтер, видимо намереваясь дать своим доказательствам вопросительную форму, столь часто употребляемую самыми знаменитыми ораторами.
Алексис задумался.
– Эстетическое чувство, – сказал он, собравшись с мыслями, – есть то чувство, которым в высшей степени обладает художник.
– Что такое художник? – столь же отрывисто спросил кандидат философии.
Алексис снова задумался.
– Художник, – сказал он, в последний раз собравшись с мыслями, – есть тот смертный, который в высшей степени обладает эстетическим чувством…
– Гм, – заметил господин Беобахтер, – прочь их! с лица земли их! Нет им пощады!.. я тебя знаю, всю твою душу насквозь вижу: ты подлец, ренегат…
– Странно, однако ж! – заметил Алексис.
Но Вольфганг Антоныч не слушал; он сделал аккорд на гитаре и сладким тенором запел известную: Разгульна, светла и любовна, всячески стараясь выразить что-нибудь удалое, отколоть какое-нибудь отчаянное коленце, но решительно без всякого успеха, потому что коленце оказывалось самым смирным и снисходительным.
– А я к вам, господа, насчет одного дельца, – приступил Иван Самойлыч.
Беобахтер и Алексис начали вслушиваться.
Мичулин вкратце изложил им свои утренние похождения, рассказал, как он был у нужного человека, как просил о местечке и как нужный человек отвечал, что места ему нет, нет и нет… Затем Иван Самойлыч уныло поник головой, как бы ожидая решения знающих людей.
Но Беобахтер и Алексис упорно молчали: первый – потому что не вдруг мог отыскать в голове своей неизвестно куда завалившуюся сильную мысль, которую он давно уже припас и которая могла одним разом сшибить с ног вопрошавшего; второй – потому что имел благородную привычку всегда выждать мнение кандидата философии, чтоб тут же приличным образом возразить ему.
– Да ведь мне есть нужно, – начал снова Иван Самойлыч.
– Гм, – сказал Беобахтер.
Алексис начал собираться с мыслями.
– Конечно, он не виноват в этом, – продолжал Мичулин, с горечью вспомнив полученный утром от «нужного человека» жесткий отказ, – конечно, жизнь – лотерея, да в том-то и штука, что вот она лотерея, да в лотерее-то этой билета мне нет…
Беобахтер положил в сторону гитару и посмотрел ему пристально в глаза.
– Так вы меня не поняли? – сказал он с укором, – а прочли вы книжку?
Иван Самойлыч отвечал, что не имел еще времени. Беобахтер грустно покачал головой.
– Вы ее прочтите! – убеждал он самым меланхолическим тоном, – там вы все узнаете, там обо всем говорится… Все, что я вам ни говорил, – все это только предварительные понятия, намеки; там все полнее объяснено… но уж поверьте, тут иначе и быть не может! Или любишь, или не любишь: тут нет средины, я вам говорю!
– Однако ж, это странно! – тотчас же возразил Алексис, хотя и не развивал далее своей мысли.
– Так вы думаете? – перебил Иван Самойлыч.
– Прочь их! с лица земли их! вот мое мнение! Ррррр…
– А вы как насчет этого дела? – спросил Мичулин, обращаясь к Алексису.
– Моя грудь равно для всех отверста! – отвечал Алексис совершенно невинно.
За сим водворилось глубокое молчание.
– Извините, что обеспокоил вас, господа, – сказал Иван Самойлыч, намереваясь удалиться восвояси.
На это приятели отвечали, что это ничего, что, напротив, они очень рады и что если вперед случится какая-нибудь нужда, то смело обращался бы прямо к ним. При этом с немалым также искусством дано было ему заметить, что если между ними и существует некоторое разногласие, то это только в подробностях, что в главном они оба держатся одних и тех же принципов, что, впрочем, и самый прогресс есть не что иное, как дочь разногласия, и если их мнения не безусловно верны, то, по крайней мере, об них можно спорить.
Со всем этим Мичулин, конечно, не мог не согласиться, хотя, с другой стороны, не мог и не сознаться внутренно, что все это, однако ж, чрезвычайно мало подвигало его вперед.
На столе у себя он нашел тщательно сложенную записку. Записка была следующего содержания:
«Иван Макарыч Пережига, свидетельствуя свое совершенное почтениеего высокоблагородию Ивану Самойлычу, честь имеет покорнейше просить его высокоблагородие, по случаю дня тезоименитства, пожаловать завтрашний день, в три часа пополудни, откушать обеденный стол».