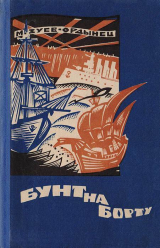
Текст книги "Бунт на борту (Рассказы разных лет)"
Автор книги: Михаил Зуев-Ордынец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 12 страниц)
Всадники собрались вокруг старика, и он ведет их пестрый отряд к бывшему минарету – лестнице и площадке, прибитым к дереву. С этой трибуны в дни пролетарских праздников летят на головы жаманжольцев речи волостных вождей, а сейчас полетит на головы всадников лак – зарезанный, но еще извивающийся в последних биениях жизни козел. И тот, кто, схватив тушку, сумеет пробиться с нею, не отдав ее другому, к белой кошме судей – тот выиграл. Зрители стихают, потому что приблизился драматический момент, главная партия игры, а всадники берут камчи в зубы, освобождая руки. Всадники сдержанно-спокойны, они – сгусток охотничьего терпения. Но неспокойны их кони. Скакуны сотрясаются, как заведенные моторы, еще до скачки покрываясь горячей нетерпеливой пеной.
И вот с трибуны, раскачав, бросают зарезанного козла вниз, на сотни ждущих рук.
Всадники сбиваются в мятущийся клубок, ближайшие хватают окровавленную тушку, а задние напирают на них со всей силой бешеных коней. Зрители начинают волноваться с первых секунд игры, ибо в козлодранье начальные минуты могут быть так же остры, как заключительные, даже обостреннее. Кони, пьяные от битвы, задирая вверх морды, воют, визжат страшными, нелошадиными голосами, по-звериному рвут тело врагов, а – люди, тоже исходя воем, дерутся, душат друг друга, хлещут камчами.
Грохот кокпары ударялся в холмы и отлетал грозным воинственным эхом. Клубок тесно сцепившихся коней и людей перекатывался с одного конца долины в другой. Из пыли выплескивались взмахи камчей, да позади клубка оставались лежать упавшие с коней и сбитые соперниками всадники с переломанными ногами, руками, ребрами и пробитыми черепами.
Нуржан слушал этот шум всем телом, и в теле его тоже рождалось эхо. Дрожали мускулы на скулах, пальцы перебирали бархат халата, а глаза трепетно светились под очками, как свечи, взволнованные сквозняком.
Вот из свалки вырвался уверенный лёт одинокого жигита, и зрители заспорили, кто он, летящий к победе, умчавший от соперников славу на седле? Сидевшие вокруг Нуржана били кулаками в грудь со всего размаха – а-ах!.. гах!.. – и ждали в сладострастной тревоге чьей-нибудь победы или смерти. Лихорадка их нетерпения проникла в Нуржана и рассасывалась в его крови, как вкрадчивый хмель вина, как одурь третьяка.
А всадник, вырвавшийся из свалки, несся весь в пыли и крови к белой кошме судей, прижав лак ногой к седлу. И Жаукен ахнула, увидев на этом всаднике моряцкую тельняшку и розовые ситцевые штаны.
– Плохо воспитательную работу ведете, – строго сказала она комсомольцам. – В кокпары комсомолец участвует. Какой пример даете?
– Ой, Жаукен! Какой казах не поскачет на кокпары?
– Он же комсомолец!
– Он степняк, он жигит!
– Сначала комсомолец, потом жигит! Пора ломать эти мелкобуржуазные привычки!
Комсомольцы виновато молчали.
А когда сидевшие вокруг Нуржана люди криками назвали имя вырвавшегося из свалки жигита, великолепное, отныне легендарное имя победителя – экспедитора Кагена, Нуржана затопила темная, звериная, ревнивая злоба. Кровь кинулась в голову, застлала слух, затемнила глаза. И в глухоте, в потемках крови, размахивая руками, что-то выкрикивая, побежал он с холма вниз. Он сорвал на бегу бархатный халат, оставшись только в рубашке, подпоясанной ремешком с висевшим на нем всяком, сорвал очки и вскочил в седло. Он затянул повод, и огненно-рыжий конь словно зажегся под ним, пошел боком, мелко перебирая ногами, будто конфузясь, пока Нуржан не ожег его с пьяной беспощадностью камчой. Он не слышал, как отец закричал ему вслед:
– Ну! Заставь, сынок, всех глотать пыль!
Ветер скачки зашипел в его ушах, серо-замшевые от пыли лица всадников прыгнули в глаза, он ворвался в потную, горячую тесноту кокпары, но тотчас, немилосердно полосуя огненного жеребца камчой, вырвался из тесноты и понесся в погоню за Кагеном.
Экспедитор был умен и коварен. Он не выбрасывался далеко вперед, не тревожил преследующих, оставляя им надежду, лишь бил камчой по передним ногам опасно приближавшихся коней, срывая их бег. Правая его ляжка прижимала к седлу пыльный кусок вонючей падали – трофей победы. Студент и экспедитор почти лежали на шеях лошадей и, казалось, не скакали, а летели над землей. Нуржан нагнал соперника, потянулся к окровавленной шкуре, но Каген ловко перекинул козла на левую сторону седла, стегнув Нуржанова жеребца по коленкам камчой. Ненавидя Кагеновы руки, осмелившиеся прикоснуться к Жаукен, а сейчас отнимающие победу, Нуржан выхватил псяк и всадил его в круп Кагенова коня. Обезумев от боли, конь вскинул зад, а Каген, взмахнув руками, опрокинулся на спину и, потеряв стремена, свалился с седла. Нуржан тотчас туго затянул повод, почувствовал, как плавная сила взмыла его кверху, и обрадовался, увидев под собой, под копытами взвившегося на дыбы жеребца, потное и пыльное лицо Кагена.
Пьяный бухгалтер вскочил и заорал:
– Гляди, гляди! А ну давай, давай! Ай да молодец, Нуржан!
А старый Байжанов закричал тонко от радости и ударил бухгалтера малахитовыми четками, видя, как жеребец сына топчет, дробит копытами упавшего Кагена.
Нуржан мчался уже с лаком к холму, где сидели на белой кошме судьи, он будет теперь пить кумыс со стариками – великая честь для лучшего наездника, – а Жаукен спустилась с холма и, повязывая на ходу голову длинным шарфом, пошла не навстречу победителю, имя которого Нуржан Байжанов, а на дорогу, ведущую к полустанку.
Она уходила не спеша, ровно, спокойно, не оглядываясь, как уходит бесповоротно решивший. Но за аулом ее нагнали на телеге комсомольцы.
Нуржан Байжанов не вернулся в институт. В Жаман-Жол приехали милиционеры и увезли его в город. А на могилу комсомольца Кагена уже приходят паломники и больные, ищущие исцеления, ибо убитые в кокпары считаются святыми. Но это скоро прекратится – и кокпары и паломничество на могилу святого Кагена. В Жаман-Жоле выстроена школа и на днях туда приезжает учитель, комсомолка Жаукен.
1933 г.

II
ПОВЕСТВОВАНИЕ О ХИТРОУМНОЙ ВЫДУМКЕ БЛАГОРОДНОГО КАБАЛЬЕРО БЛАСКО ДЕ-ГАРАИ, ЗАТЕМ О КОРОЛЕВСКОМ ГАЛЕОНЕ «ИОНА ВО ЧРЕВЕ КИТА», ПЛЫВУЩЕМ БЕЗ ПАРУСОВ НАВСТРЕЧУ ВЕТРАМ, И О ШТАНАХ, СОДРАННЫХ С ДОНА ПАНКРАСИО, А В ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПЕЧАЛЬНОЙ, В НОЧНОЙ ТЬМЕ, КОНЧИНЕ БЛАГОРОДНОГО КАБАЛЬЕРО

И, пыль веков от хартий отряхнув…
А. Пушкин
1
Наша гвардейская пехота захватила городок ночью лихим, коротким ударом. Пехотные части пошли дальше, преследуя отступавшего противника, а наш дивизион вступил в город на рассвете. И словно в средневековье вошли мы, словно не Великая Отечественная война грохотала на холмах и равнинах Германии, а Крестьянская война XVI века. Узенькие, темные улицы, дома с островерхими, крытыми черепицей крышами, с выступающим вторым этажом, каменные пики готических церквей, горбатый каменный мост через речушку, тяжелые, окованные медью ворота, железные узорные фонари и крошечная базарная площадь с каменным святым посередине. Казалось, городок живет только своим прошлым и, как блоковская Равенна, дремлет «у сонной вечности в руках». Странно было видеть робко двигавшихся по улицам приниженно сгорбившихся немцев в пиджаках и галстуках, ожидалось, что из-за угла выйдет сейчас ландскнехт с мушкетом и в латах, или дворянин в длинных чулках и в шляпе с плюмажем, или богатый бюргер, одетый в кафтан из цветного сукна.
Маленький, уютный средневековый городок. Дрянь-городок! Из таких филистерских нор, из таких духовных болот струилась зараза шовинизма, расизма, человеконенавистничества.
Но нет, не ушли мы в средневековье. Нас вернули в современность белые стрелы на стенах, указывающие бомбоубежища, и огромные буквы на цоколе каменного святого: «Мы никогда не капитулируем!» Святой злобно стиснул каменные губы.
Я остановился около старинного большого дома, увитого плющом с невинными белыми цветочками. В дом вела толстая дверь из почерневшего дуба, с тяжелым бронзовым молотком вместо звонка, а рядом с дверью, на стене, мраморная доска золотым готическим шрифтом извещала, что здесь помещается городская гимназия. Над доской, конечно, каменная свастика. Дверь была неплотно закрыта, и я вошел. Нижний этаж занимали подсобные и хозяйственные помещения: раздевалка, кладовка для дров, несколько жилых комнат со скромной обстановкой, носивших следы поспешного бегства – видимо, квартиры швейцара, истопников, уборщиц.
По каменной лестнице, по ступеням, стершимся за столетия, я поднялся на второй этаж. В длинный светлый коридор выходили двери классов. Я заглядывал во все подряд, и все они были пусты. Лишь в последнем несколько парт сиротливо столпилось у стены, а около высокой кафельной печи валялась куча щепы и дров, наколотых из парт. В углу – мусор военного постоя: масляная бумага, табачные обертки, тряпки, обрывки ремней, смятая ружейная масленка. Я понял: здесь стояли солдаты вермахта, которых сейчас гнала все дальше на запад наша гвардейская пехота, и топили они классы, превращенные в казармы, школьными партами. Я нашел здесь и сорванную со стены классную доску с полустертой ученической надписью: «Смерть русским Иванам!», – а около доски, на полу, тетрадь, раскрытую на упражнениях по каллиграфии. Страница была исписана сплошь одной фразой: «Клянусь без пощады убивать русских».
Мне показалось, что я один в гимназии, – так тихо было кругом; но вдруг из дальних помещений до меня донесся какой-то шорох. Я пошел на шум. Он доносился из раскрытых высоких резных дверей. Вероятно, это была квартира директора гимназии. Я вошел в огромную квадратную комнату с панелями из мореного дуба, совершенно пустую. Директор бежал от «большевиков-монголов» и вывез даже мебель. Но он не захватил с собой (по-видимому, не хватило места на автомашине) огромный портрет Гитлера, развешанные по стенам потемневшие картины в толстых золоченых рамах, древнее рыцарское оружие, оленьи рога, тускло поблескивающие на полках старинные оловянные кувшины и кубки. Видно, для директора мебель оказалась самым дорогим из всего, что находилось в этой комнате… А здесь были и длиннейшие многоярусные полки, заставленные книгами. Древними книгами в деревянных, кожаных, сафьяновых и пергаментных переплетах, с золотым тиснением на корешках!
Часть полок, те, что ближе к кафельной печи, были пусты: около печи, на полу, лежали груды книг, а через открытую дверцу печи виднелись кучи бумажного пепла. В комнате сохранился еще запах мужского одеколона и сигар. И я снова понял: директорскую квартиру занимали штабные чины. Но господа офицеры мерзли, в гимназической кладовке не было ни дров, ни угля, и чистокровные арийцы начали отапливаться библиотекой. Одним взмахом руки они сбрасывали с полок на пол рядок книг и ногами подгребали их к печке. От полного уничтожения библиотеку спасло наше молниеносное наступление.
На груде книг около печи сидел наш дивизионный писарь и заносил названия книг в тетрадь. Он не знал немецкого и латинского языков и просто перерисовывал буквы.
– Зачем переписываете? – спросил я.
– Старшина приказал, товарищ капитан. Согласно прилагаемого списка сдадим ихнему горсовету, или как его там – ихнему магистрату. Порядочек!
Он с тоской посмотрел на длинные полки, еще заставленные книгами, и тяжело вздохнул.
Я сел рядом с ним на пустую нижнюю полку и начал перебирать книги, раскрывая их. Были здесь книги на древнееврейском и греческом, но большинство на латинском языке. Спасибо московской Ломоносовской гимназии, латынь еще крепко сидела в моей памяти. Мне попадались сначала старинные громадные библии и крошечные псалтыри, труды отцов церкви и средневековых теологов, потом рукописные экземпляры изданий античных авторов, древние альманахи с короткими сухими заметками об атмосферных явлениях, об открытиях в области химии, физики, астрономии, о смерти каких-то неизвестных мне ученых. Потом пошли сборники мираклей[36]36
Средневековые театральные пьесы на религиозные темы.
[Закрыть] и лукаво-смешливых фацетий[37]37
Анекдоты-новеллы.
[Закрыть], и хроник, написанных монахами XVI века о голоде, чуме, ауто-да-фе и прочих деяниях инквизиции, о чудесах Мадонны и святых, произведения сумбурные, беспорядочные, полные невежественных предрассудков и грубых суеверий, топорные по стилю и бедные мыслями, но какие-то бесхитростные, по-детски простодушные.
Эту уникальную библиотеку не мог, конечно, собрать директор-нацист, спасавший от большевиков только свою мебель. И действительно, я нашел на книгах экслибрис в виде средневековой библейской миниатюры с надписью немецким готическим шрифтом: «Из книг доктора философии и советника Рупрехта фон-Шнее». И передо мной встал седой, мудрый и тихий книголюб, длинными бледными пальцами бережно перелистывающий древние страницы своих любимых книг.
– Хорошие книги, товарищ капитан? – спросил писарь, отрываясь от тетради.
– Цены им нет, сержант! – ответил я.
– Вот поди же ты! – покачал головой сержант. – А фрицы их на топку пустили. Некультурность!
Я в это время перелистывал томик хроник, чудесное издание в переплете из темно-зеленой кожи с тускло блестевшим золотым тиснением, с листами твердыми и бледно-желтоватыми, как из тончайшей слоновой кости, со шрифтом четким и чистым, изящным и простым. Это был бесценный Эльзевир[38]38
Книги, напечатанные в типографиях голландцев братьев Эльзевир (XV–XVI вв.).
[Закрыть]. Я не мог сразу узнать ни автора, ни года издания этих хроник, так как два десятка первых листов, вместе с титулом и шмуцтитулом, были вырваны на растопку. Но, перечитывая то одну, то другую страницу, я смог понять, что в томике собраны биографии испанских мореплавателей и путешественников, отважных напитано и эль-адмирало, открывателей новых земель и конквистадоров. Каждой биографии предшествовала тонко, изящно выполненная виньетка с компасными картушками, якорями, каронадами, изрыгающими пламя и ядра, сиренами, заманивающими корабли на скалы, морскими змеями, глотающими каравеллы, и даже морскими человечками, резвящимися на дне морском.
Я хотел уже поставить томик снова на полку, но меня остановила и удивила виньетка, изображавшая галеон с «сухими», без парусов, мачтами и с высокой дымящейся на шканцах трубой, а с обоих бортов галеона висели большие гребные колеса. Колесный пароход в XVI веке? Это был век великих приключений и великих авантюр, и я решил, что хроника рассказывает о какой-нибудь остроумной и грандиозной авантюре, где были одурачены и купцы-негоцианты, и профессора университетов, и сам король, и даже сама святая церковь. Однако я ошибся: это было жизнеописание кабальеро Бласко де-Гарай, действительно авантюриста, но и опытного мореплавателя и, что главное, гениального изобретателя.
Я не буду пытаться переводить вам суконную латынь биографии кабальеро. Помпезные, пышные фразы ее были похожи на триумфальные арки, монументальные, но неуклюжие, сколоченные одним топором из толстых корявых бревен. Одолевать их было физически тяжело, как тащить тяжкую ношу по плохой дороге. Лучше я попробую рассказать вам эту диковинную и странную историю своими словами.
Жизнеописание кабальеро Бласко де-Гарай было озаглавлено в духе того времени, витиевато и многословно, и я буквально перенес это заглавие из хроники в начало моего правдивого рассказа.
2
Бласко де-Гарай не был изобретателем чистой воды. Его не влек в неизвестное благородный и бескорыстный порыв узнавать, открывать, разгадывать, раздвигать горизонты. Он был человеком своего беспокойного века, века больших страстей, буйных характеров и неистовых чувств. Он болел болезнью своего века, золотой лихорадкой, он алчно, с ненасытной страстью жаждал золота, как можно больше золота, власти и почестей. Он знал пути, ведущие к золоту и власти. О них говорила пословица: «Три дороги: церковь, море, дворец. Избери одну – и нужде конец».
Он выбрал море. Разве не вплыли в бессмертие каравеллы Колумба? Началась жизнь развеселая, но трудная и опасная, жизнь авантюриста века открытий и завоеваний. Он много плавал, побывал на Канарских и Азорских островах, на Мадейре, в Гвинее, бросал якорь в устье реки Сенегал, обогнул мыс Доброй Надежды, побывал даже в бухте Гванагани, где высадился великий Кристобаль. Но он не открыл и не завоевал для себя вице-королевства, ни даже генерал-губернаторства, и не привез в родную Барселону бочки, набитые золотом. Тогда он начал искать свое золото в трюмах чужих кораблей. Ведь на просторах морей и океанов нет законов, вернее, один закон – право сильного.
Хроника умалчивает, как назывался галеас кабальеро де-Гарай, узкий, как змея, стройный, пронзительный, с высоким рангоутом и черными «волчьими» парусами, невидимыми, как только сядет солнце. Его галеас таился, как хищная птица, где-нибудь в тени прибрежных скал, вылетал всегда неожиданно и нападал… Хроника подробно, с бухгалтерской точностью перечисляет, на кого нападал галеас с «волчьими» парусами. На блестящие красавицы венецианские гребные галеры, на генуэзские каравеллы, на вонючие, чумазые турецкие фелюги и карамусалы, на длинные, как стрела, алжирские саэты, мачты которых, якобы полые, были набиты золотыми цехинами и дублонами, на французские бригантины, на английские низкобортные галлеи и развалистые, плотно сидевшие на воде купеческие корабли далекой Ганзы с Янтарного моря.
Но пираты, видимо, только в сказках и легендах купаются в золоте, а де-Гарай вернулся на родину, в Барселону, с жестоким ревматизмом, двумя пулями в теле и двумя мараведи, то есть двумя грошами, в кармане. Он продал свой старый родовой барселонский дом и поселился в жалкой хижине около портовых доков. Отставной моряк, да еще в портовом городе, не возбуждает особенного интереса. Его хорошо знали только портовые кабатчики, у которых он был неоплатным должником и которые стали наливать ему бокалы лишь до половины. Кроме кабатчиков, его знали кузнецы и слесари доков. Он целые дни проводил в их кузницах и мастерских, возвращаясь домой перемазанный железной ржавчиной и копотью кузнечных горнов. А в 1545 году о нем узнала вся Барселона.
В этом году кабальеро послал «пространную эпистолию» ни больше ни меньше как самому Карлу V, императору Священной Римской империи, королю Испании, королю Сицилии и принцу Нидерландов, в которой писал, что им, кабальеро Бласко де-Гарай, сделано важное изобретение, которое сможет обогатить Испанию более и вернее, «чем все открытия в Вест-Индии совершенные», и которое сделает Испанию владычицей на морях и океанах, а следовательно и владычицей мира. Но сути своего изобретения не объяснил, а просил у императора личной аудиенции.
Неизвестно, вызвал ли бы Карл V изобретателя в Мадрид, но по счастливой случайности письмо кабальеро встретило императора на пути в Барселону, куда он ехал на какое-то церковное торжество.
В один из вечеров скучавший император вспомнил вдруг о письме старого моряка. Как многие жители твердой земли, он испытывал почти суеверное удивление и восхищение перед мореходами, загадочными людьми, понимавшими язык ветров и ураганов, находившими пути к заокеанским островам и землям. Ища спасения от царственной скуки, он приказал позвать старого морского волка во дворец. Вскоре перед христианнейшим императором и королем предстал высокий, костлявый старик с дерзко загнутыми кверху седыми усами, в коротком плаще, в кожаном колете с черными суконными рукавами.
На груди его болтались на шнурках серебряные образки святых, распятия и мадонны разных приходов, а на поясе его висела широкая короткая шпага морских капитанов.
– В чем заключается ваше изобретение? – спросил император.
– Ваше величество, – заговорил кабальеро, – я моряк, много плававший и сражавшийся с венецианцами, турками, алжирскими пиратами, англичанами и многими другими народами. И опыт многочисленных морских сражений дает мне право утверждать, что победителем всегда остается то судно, которое маневрирует лучше других.
– Это знают все моряки, – перебил кабальеро главный адмирал, находившийся в свите императора.
– Вы правы, ваша светлость, – согласился кабальеро, – но любой моряк скажет вам, что не могут легко и свободно маневрировать наши парусные суда, зашнурованные в такелаж, как в испанский сапог. Они игрушка ветра!
– А наши гребные галеры? – снова перебил кабальеро главный адмирал. – Гребцы поведут их и против ветра.
– Гребцы хороши только первый месяц, – возразил кабальеро. – Потом они киснут и дохнут. Тухлое мясо, жратва для акул. А я построил машину, имея которую, любое судно может маневрировать с легкостью птицы в воздухе, мало того, может идти без парусов и без гребцов против ветра. Разве не бог послал Испании господство над морями? И она будет властвовать на морях и океанах, имея корабли с моими машинами на борту.
– И что вы хотите получить в награду за ваше изобретение? – спросил император.
– Звание адмирала всего самодвижущегося флота, – скромно ответил кабальеро де-Гарай.
Император милостиво улыбнулся:
– Я подавал кисти великому Тициану и был озарен лучами его славы. А теперь я буду подавать молоток и клещи кабальеро де-Гарай. Может быть, потомство и его назовет великим, и тогда не будет забыто в веках и ничтожное имя императора Карла. Хорошо, я согласен. – И, посмотрев, в окно на барселонскую гавань, он обратился к главному адмиралу: – Ваша светлость, что это за судно входит на рейд?
Император указывал на двухмачтовый галеон с многоярусной трехэтажной кормой и высоким носом. Галеон шел на фордевинде, откинув косой фок направо, а грот налево, как бабочка, распустившая крылья.
– Это галеон вашего величества «Иона во чреве кита», – ответил адмирал.
– Вот, – обратился император к кабальеро, – вот судно, на которое вы поставите вашу машину. А затем мы поглядим на нее в действии. И да поможет вам святая дева Гваделупская!..
3
Командир «Ионы во чреве кита» бравый капитан Педро де-Скарца ругался, как пират перед виселицей:
– Клянусь всеми святыми патронами Испании, я не переживу этого! Прекрасный корабль, с парусами на длинных гибких рейках, с днищем, обшитым листовой медью, легко идущий любым галсом, будет шлепать по воде лапами, как нильский крокодил! Карамба! Нет и нет! Поднять абордажные сетки, зарядить каронады! К бою!
Но капитан де-Скарца кричал, бесновался и даже рвал волосы на голове, запершись в своей каюте. А потом передал галеон в полное распоряжение кабальеро де-Гарай, ибо приказ императора есть приказ, и кто посмеет его ослушаться?
Кабальеро перетянул галеон гребными баркасами к портовым докам, и рабочие начали устанавливать на нем машину. Автор хроники очень скупо и осторожно описывает машину кабальеро.
И ничего удивительного в этом нет: что понимал в паровых машинах монах XVI века?
В хронике говорится: «Бласко де-Гарай положил и укрепил поперек палубы „Ионы во чреве кита“ ось, на которую были надеты большие деревянные колеса, на треть погруженные в воду. Потом он поставил на палубе железный котел больше чанов, в которых давят виноград, также имевший колесо, соединенное кожаными ремнями с осью, державшей деревянные колеса».
Вот и все. Какое было парораспределение в машине кабальеро? Были ли золотники? Какое давление пара в атмосферах? Мощность в лошадиных силах? Если бы мы и смогли задать эти вопросы автору хроники, он, наверное, вытаращил бы глаза, как бык на градусник. Но не забыл благочестивый автор упомянуть такую, по его мнению, существенную подробность: «Котел машины кабальеро де-Гарай был наполнен водой, освященной в барселонском соборе Санта-Круса».
Это доказывает, что кабальеро был человеком своего века. Он понимал, что святая инквизиция чего доброго объявит его изобретение еретическим, богопротивным, даже дьявольским, поскольку оно будет бороться с ветрами, которыми распоряжается господь бог. Но попробуйте, отцы инквизиторы, назвать дьявольской машину, работающую на воде, освященной в Санта-Крусе!
Итак, машина кабальеро готова. Можно приступить к испытанию.
Кабальеро поднял над капитанским мостиком, над высокой кормовой надстройкой галеона, знамя из голубого шелкового штофа с рельефным изображением фамильного герба де-Гарай и вывел «Иону» на середину барселонской бухты.
4
Набережная Барселоны никогда не видела такого стечения народа, как в ясный солнечный день 17 июня 1545 года. И глаза всех были обращены на бухту, очищенную от судов. Там стоял одинокий «Иона во чреве кита», и над палубой его курился дымок. Это кабальеро де-Гарай кипятил святую санта-крусскую водичку. Паруса галеона были сняты с рей и сложены на берегу, во избежание возможных подозрений в каком-либо подвохе со стороны кабальеро.
В полдень под звон городских колоколов император появился в гавани верхом на коне. Он только что сытно пообедал и был в благодушном настроении. Для него была раскинута у самого парапета шелковая палатка под орлиным императорским штандартом. Император опустился в кресло. Его окружила лейб-гвардия, немцы в гигантских шляпах и желто-красных камзолах, пэры кортесов, ленные гранды, рыцари, иезуиты и цветник придворных дам. Тотчас с верков крепости грохнула пушка, извещая кабальеро о прибытии императора и начале испытания.
На берег прилетел скрип шпиля выбиравшего якорь «Ионы», затем дым плотным пологом окутал галеон, а затем… Толпа на набережной, пэры, рыцари и даже гвардейцы закрестились в суеверном страхе. Колеса, подвешенные с обеих бортов «Ионы», завертелись, и в обе стороны от носа галеона углом пошли волны. Галеон плыл к выходу из бухты. «Иона» кланялся королю жерлами каронад, глядевших из пушечных портиков. Выйдя в открытое море, галеон, кренясь, покатился влево, людей на его палубе мотнуло вправо, и за кормой на воде запенилась крутая дуга быстрого, красивого поворота. Волна, догнала «Иону», хлестнула в обрез кормы, выплеснулась на палубу и с веселым журчаньем ринулась в шпигаты. Галеон шел против ветра обратно в бухту. Около часа маневрировал «Иона» по барселонской бухте и наконец причалил к набережной против императорской палатки.
– Изрядно! – сказал император. – Но кто поручится нам, что в трюме галеона не спрятаны люди, которые вертели колеса? Не обманывают ли нас? Синьоры, – обратился он к придворным, – кто из вас согласится подняться на палубу «Ионы во чреве кита» и посмотреть на машину во время действия?
Синьоры потупили головы с такими гримасами, словно побились об заклад, кто сделает лицо глупее. Император провел взглядом по внезапно поглупевшим лицам синьоров и задержался на главном казначее, то есть министре финансов.
Казначей отнюдь «не обретался в авантаже», наоборот, он заслужил немилость императора за вечное брюзжание по поводу непомерных расходов на придворные увеселения и празднества.
– Друг мой дон Панкрасио, – ласково сказал император, – не угодно ли вам будет подняться на палубу галеона, чтобы осмотреть машину кабальеро де-Гарай? Идите, мой дорогой, и да будет с вами мадонна Монсерратская!
Казначей, пьяный, как поп перед обедней, сразу отрезвел от испуга, но даже ласковая просьба императора есть высочайший приказ, и кто посмеет его ослушаться?
– Счастлив исполнить повеление вашего величества! – ответил с глубоким поклоном дон Панкрасио и, с обреченностью приговоренного, поднимающегося на эшафот, отправился на галеон.
5
Невнимательно, то и дело оглядываясь на безопасный берег, слушал дон Панкрасио объяснения кабальеро де-Гарай. Паровые трубы, колеса, краны, ремни – все это перемешивалось в голове испуганного дона. Кабальеро заметил невнимательность казначея и, думая, что он просто скучает, решил показать машину в действии. Он повернул какой-то рычаг. Со свистом, гуденьем, скрежетом завертелись колеса, задвигались рычаги. Дон Панкрасио всплеснул от ужаса руками, попятился и повис в воздухе.
На нем были шелковые сборчатые неимоверной ширины штаны, увековеченные на портретах Тициана. Неосторожного движения дона Панкрасио было достаточно, чтобы какой-то ехидный зубец махового колеса вцепился в штаны придворного и вздернул его, как на дыбе.
Толпа на берегу испуганно загудела. Послышались истерические крики женщин. Но испуг и тревога были напрасны. Ничего ужасного не произошло. Машина сама по себе, от тяжести тела казначея, остановилась. А затем раздался треск рвущейся материи. Нежный шелк, не выдержав, лопнул, дон Панкрасио перекувырнулся и повис, теперь вниз головой, при чем обнажились его ноги. И тотчас дождь опилок хлынул на палубу галеона.
Причем здесь опилки? Откуда взялись опилки? Терпение, сейчас все станет ясным.
Старинная кастильская пословица гласит: «И в прекрасном кубке может быть дрянное вино». Пословица эта целиком оправдалась. Прекрасный кубок содержал дрянное, кислое, как уксус, вино. Прекрасные шелковые панталоны, лопнув, обнажили тощие, сухие, как жерди, ноги казначея и тощий, как пустой мешок, его зад. Безупречные юношеские формы ног, которыми хвастался дон Панкрасио, оказались опилками, насыпанными в складки казначейских штанов. Хроника, на наш взгляд, преувеличивает, говоря, что на палубу «Ионы» высыпалось не менее трех четвериков опилок. Даже из желания казаться Аполлоном Бельведерским, кто согласится таскать такую тяжесть?
А на набережной, подобно выстрелам пушек, грохотал безудержный хохот. Хохотала во всю глотку чернь, ржали по-лошадиному гвардейцы, благопристойно смеялись придворные, томно хихикали дамы, по-змеиному шипели иезуиты и прелаты, держась за бока, валился от смеха император и король. И сам виновник веселья, дон Панкрасио, жалко смеялся от испуга и стыда, пытаясь ладонями прикрыть то зад, то перед.
Спохватившийся кабальеро де-Гарай, а вместе с ним и матросы, бросились, наконец, на помощь казначею и сняли его с колеса. Один из матросов, сжалившись, дал ему свои штаны, и так, в дерюжных, запачканных дегтем и смолой шароварах, дон Панкрасио вошел в палатку императора.
– Как вы находите, мой дорогой друг, машину кабальеро де-Гарай? – спросил император казначея.
– Она ни к черту не годна, ваше величество! – ответил дон Панкрасио и принялся на все корки честить изобретение кабальеро.
– Мой дорогой, не потому ли вы браните эту машину, что она порвала ваши восхитительные панталоны?
– И поэтому тоже, ваше величество! – горячо воскликнул казначей. – Судите сами, государь, что будет, если эта подлая машина во время сражения посрывает штаны с наших матросов? Испанские моряки, как и все добрые христиане, привыкли сражаться в штанах, а не с голым задом. Не отразится ли это на их доблести? Не покажут ли они врагу свой обнаженный тыл?
– Это дельное и важное замечание, – сказал император, почесал задумчиво рыжую бороду и приказал позвать изобретателя.
– Ваше изобретение крайне интересно, кабальеро, – сказал Карл, когда Бласко де-Гарай опустился перед ним на одно колено. – Но слава Испании завоевана под парусами, с ними пусть и остается наш флот. А вас, кабальеро, за доставленное нам удовольствие, – с улыбкой покосился император на дерюжные штаны дона Панкрасио, – мы жалуем орденом Кастильского голубя. Машину вашу приказываю снять с галеона «Иона во чреве кита» и вернуть его капитану де-Скарца. А теперь идите с богом, кабальеро, государственные дела ожидают нас…



