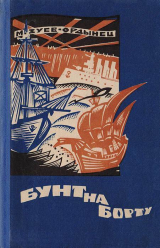
Текст книги "Бунт на борту (Рассказы разных лет)"
Автор книги: Михаил Зуев-Ордынец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 12 страниц)

Михаил Зуев-Ордынец
БУНТ НА БОРТУ
Рассказы разных лет

О СЕБЕ
Родился я на пороге века, 1 июня 1900 года, в Москве, в семье ремесленника-обувщика. Хорошо помню старую Москву с ее поленовскими просторными и тихими двориками; с конной железной дорогой – «конкой», еле-еле влекомой парой тощих кляч, и «линейкой», на которой пассажиры сидели с обеих сторон в ряд, как куры на насестах; с водовозами; с распевавшими на разные голоса старьевщиками, угольщиками, паяльщиками, стекольщиками, точильщиками, «холодными» сапожниками; с вербным базаром на Красной площади; с балаганами и каруселями под Ново-Девичьим монастырем, где сейчас шумит московская ярмарка. Хорошо помню, что Садовая, где я жил в детстве, и особенно Земляной вал (теперешняя ул. Чкалова), были тогда сплошь в густых садах. Сиреневое и черемуховое половодье старой Москвы – самое яркое воспоминание моего детства. Московские сады да еще книжные развалы на Ильинке, около Китайгородской стены и особенно на Сухаревке. С малых лет меня влекло сюда; я бережно, благоговейно брал в руки чуть припахивающие бумажной тленью книги и заранее замирал от восторга. Кстати, у моего отца, полуграмотного человека, пришедшего в Москву из тульской деревни на заработки лишь с запасной парой лаптей в котомке, была прекрасная библиотека. Эту отцовскую библиотеку в голодные годы гражданской войны, когда я был на фронте, мать продала старьевщику «на вес». Поистине, «книги имеют свою судьбу». Для меня это было большим горем.
Учился я охотно. Отец определил меня в одну из лучших московских гимназий, в Ломоносовскую, что у Красных ворот. Теперь нет ни Красных ворот, ни углового дома нашей гимназии, в котором родился М. Ю. Лермонтов.
В начале первой мировой войны, в 1914 году, умер отец, двух братьев забрали в армию. В дом вошла бедность. За обучение в гимназии надо было платить, и немалые деньги. Я сказал матери, что на учение свое я заработаю сам, и с этого времени в летние каникулы стал работать на красильно-аппретурной фабрике О. Хишина, на литейном заводе Ф. Гаккенталя и конторским служащим на военно-промышленном заводе Второва. А зимой продолжал учение.
Не помню, чтобы в гимназии я пытался писать. Писал, правда, стихи, подражал Игорю Северянину и песенкам Вертинского, да и кто из гимназистов не писал стихов? Но читал я тогда много, жадно и без разбора. За два-три года «проглотил» И. Бунина, Л. Андреева, А. Куприна, М. Горького и прочих «знаньевцев», конечно Мережковского и Арцыбашева, Фореля, Фрейда, Гауптмана, Гамсуна, Ренана, протопопа Аввакума, Мопассана, и т. д. и т. п. Легко вообразить, какая каша была у меня в голове!
Февральскую революцию я принял восторженно. Гимназия после февраля разделилась почти поровну на кадетов и эсеров, большевиков у нас не было. Я то и дело перебегал от кадетов к эсерам. Поэтому большевистские лозунги социалистической революции я встретил не враждебно, но и с недоумением. Мне казалась ненужной еще одна революция: хватит и одной. Но мои новые друзья-сверстники с красильной фабрики и литейного завода открыли мне глаза. И, когда грянула в Москве Октябрьская революция, я уже бегал по заводам с просьбой записать меня в Красную гвардию. Меня не записали: очень тощий, низкорослый и робкий я был. Но в Октябрьских событиях я все же участвовал – зевакой – и даже попал на Никитском бульваре под пулеметный обстрел и ползал на брюхе по грязи.
Время настало веселое, боевое, огневое! Тут уж не до учебы!
Гимназию побоку – и я, подчистив метрику, записался добровольцем в Красную Армию, в 96-й пехотный полк. Участвовал в подавлении перхуровского мятежа в Ярославле, был легко ранен, вернулся в Москву и поступил на 1-е Московские артиллерийские курсы командного состава (Лефортово). В колонне курсантов я проходил мимо Моссовета и слышал историческую речь Ленина.
Весной 1918 года я окончил курсы и в звании командира взвода отправился в действующую армию. На фронтах гражданской войны пробыл три года: на бело-эстонском, бело-польском, участвовал в ликвидации авантюры генерала Булак-Булаховича и эсеровского мятежа Антонова. Командовал сначала взводом, потом батареей, руководил артразведкой дивизии. Годы, когда я командовал батареей, были для меня самыми тяжелыми. На мои необмозоленные плечи легла полная ответственность за жизнь сотен людей, от моих знаний, воли, силы характера зависело выполнение боевых заданий. А какая там воля и сила характера у девятнадцатилетнего мальчишки! Но об этих тяжелых годах я вспоминаю теперь как о самом прекрасном, светлом и радостном в моей жизни.
Наша дивизия перешла на мирное положение одной из последних, весной 1922 года, после ликвидации мелких уголовно-политических банд в Тамбовской и Воронежской губерниях. Служба в Красной Армии в мирное время не тяготила меня, я уже втянулся в солдатскую лямку, но начал ощущать, что военное дело – не мое призвание, не моя жизненная цель. В 1923 году я демобилизовался и, не знаю почему, пошел служить в милицию. Это было в городе Вышнем Волочке Тверской губернии (теперь Калининская область). Меня назначили начальником уездной милиции. Работы было много: уезд захлестывала самогонная стихия, появились конокрады и размножились бандитские шайки. НЭП давал о себе знать.
Были и засады, и перестрелки, и погони. Словом, прочитайте «Испытательный срок» и «Жестокость» П. Нилина: жизнь Веньки Малышева была тогда и моей жизнью.
Об одной из жестоких схваток с бандитами на хуторах в глухом углу уезда я написал очерк и отнес его в редакцию уездной газеты «Наш край». Очерк похвалили, и секретарь редакции И. Ермолинский предложил мне перейти к ним репортером-хроникером. Я, не раздумывая, сменил почетное, громкое звание начальника милиции на блокнот репортера и уже через неделю бегал по Вышнему Волочку в поисках городской хроники. Бегал по осенней грязи, под дождями в дырявых калошах, или тащился на подводах в глухую деревню, на связь с селькорами. И был счастлив. Наконец-то я почувствовал, что делаю свое дело и никогда с ним не расстанусь. Это случилось в 1925 году. Правда, как оказалось, боевое время для меня не кончилось: снова попал под удары и под пули. Однажды в деревне был избит кулацкими сынками, а в большом селе обстрелян из обреза. Выяснилось, что стрелял псаломщик, подученный попом. Служитель божий рассвирепел на меня за мои безбожные материалы в газете.
Как и многие советский писатели, я начал с газеты, люблю газету и сейчас, и с радостью пишу для газет. В «Нашем крае» я делал все, что от меня требовала редакция: писал хронику, отчеты о конференциях и съездах, очерки, фельетоны, театральные и кинорецензии, судебную хронику и даже «книжную полку», поругивая Пильняка и похваливая Серафимовича и Зощенко.
В газете я начал пробовать себя и как литератор. Подтолкнул меня к этому конкурс, объявленный губернской газетой «Тверская правда». Я написал рассказик о рабочих стеклозавода, «В овраге», и получил первую премию. Случайно я узнал и о другом литературном конкурсе – московского журнала «Всемирный следопыт», послал туда рассказ «По разные стороны окна» и тоже получил первую премию. Этот рассказ включен в сборник, который вы сейчас перелистываете. Он был опубликован в 1927 году, и его я считаю началом моей профессиональной литературной работы. Тогда же напечатал мой рассказ московский толстый журнал «Комсомолия». Из редакции журнала я получил лестное письмо, подписанное А. Жаровым и А. Безыменским, с советами серьезно заняться литературной работой.
Следуя этому совету, в апреле 1927 года я сел в ленинградский поезд. Все мое имущество было при мне: портфель с рукописями, двумя парами белья и полпачкой махорки, да 44 копейки в кармане. В отличие от Растиньяка, не имел я и особой уверенности в своем будущем, не считая скромной надежды на советы опытных литераторов и небольшой гонорар в журнале «Резец». В редакцию «Резца» я вошел днем, а вышел из нее поздно вечером заведующим отделом прозы журнала. Это назначение отнюдь не следует расценивать как результат какой-нибудь исключительной моей талантливости: просто слишком велика была тогда нужда в мало-мальски грамотных литературных и редакционных работниках.
Работа в «Резце» оказалась веселой и очень полезной, в первую очередь для меня самого. При журнале существовала литературная группа «Резец», входившая в «Кузницу», вечерами редакция шумела молодыми голосами начинающих прозаиков и поэтов, главным образом, из числа рабочей молодежи. Читали свои произведения, обсуждали их, спорили до крика. Одним словом, ничего похожего на академически-олимпийское спокойствие других редакций. В гости к резцовцам приходили опытные мастера: Н. Тихонов, В. Саянов, Ю. Тынянов, М. Казаков, В. Киршон, М. Слонимский, М. Шкапская, И. Садофьев, К. Федин и многие другие. Вот где были настоящие литературные университеты для нас, начинающих, и я горжусь нашим «Резцом», вырастившим таких мастеров советской литературы, как покойные Б. Корнилов, М. Чумандрин, А. Черненко, М. Троицкий и ныне здравствующие О. Берггольц, А. Прокофьев, В. Друзин, Б. Лихарев, А. Чуркин, Д. Остров, П. Капица.
Насколько это было в моих силах и возможностях, я помогал начинающим рабочим паренькам, печатался и сам, но чувствовал, что знаю и могу мало, что мне надо учиться и учиться. Поступил в Ленинградский институт истории искусств и окончил его в 1932 году. В этом же году был принят в Союз писателей СССР. Приходилось мне в те годы и напряженно работать в редакции, и учиться, и писать, потому что не писать я уже не мог. А кроме того, надо было ездить, видеть родину и людей. Жаль было тратить время на сон: так много было интересного, захватывающего кругом. И теперь я без всякого сочувствия слушаю некоторых молодых людей, которые говорят, что просто невозможно одновременно и работать, и учиться, что им это не по силам.
Первая моя книга, сборник приключенческих повестей и рассказов, была издана в Ленинграде, в издательстве «Прибой», в 1928 году и называлась «Желтый тайфун».
К приключенческой литературе у нас относятся не слишком серьезно. Наши маститые писатели гнушаются «приключенщины», забывая о блестящих работах в этом жанре А. Толстого, М. Шагинян, Б. Лавренева. А плутовские приключения, именно приключения, героев И. Ильфа и Е. Петрова? А «Два капитана» В. Каверина? Скажу больше, возьму выше. Приключенческий роман начинается в античные времена – вспомните «Золотой осел» Апулея.
Немало остросюжетных произведений создано русскими классиками – Достоевским, Лесковым, даже Чеховым, даже Некрасовым («Три страны света», в соавторстве с Панаевой). На Западе и в Америке в приключенческой литературе работали также величайшие мастера, такие как Гюго, Бальзак, Диккенс, Твэн, По, Брет-Гарт, Лондон, О'Генри. В приключенческих произведениях западных мастеров, например Э. Сю, Жорж Санд и других, широко отражены идеи утопического социализма.
С гордостью признаюсь, что остросюжетные приключенческие вещи – мой любимый жанр. Здесь всегда есть острые драматические столкновения человека с природой, человека с человеком, одного сильного характера с другим, и победа достается тому, у кого ясней разум, крепче воля и чище совесть. В произведениях этого жанра герой попадает в необычные, исключительные условия, требующие от человека мобилизации всех его духовных и физических сил, всей его смелости, решительности, душевной цельности, побуждающие его к быстрым решениям и быстрым действиям. Короче говоря, этот опасный и сложный поворот жизни требует от него подвига. В такой момент человек особенно ярок и особенно душевно красив. А разве это не важно – воспитывать в наших людях, в молодежи высокие и смелые чувства? Клянусь черепахами Тэсмана, это прекрасная, смелая, боевая литература!
Призвание писателя-приключенца – открывать интересное, уметь искать необычайное в обыкновенном. Но для этого и сам он должен быть страстным искателем, открывателем. Где-то среди обыденных дел, примелькавшихся событий, привычных фактов, невидимая для равнодушного, холодного взгляда, вьется чудесная тропа приключений. Сумей увидеть ее, встать на нее, пойти по ней – и все вокруг засияет, расцветится невиданными красками.
Многие и многие годы я шагал тропой приключений. Шел сибирской тайгой, кара-кумскими песками, белорусскими болотами, казахскими степями и ямальской тундрой. Карабкался по горным тропам Урала, Кавказа и Ала-Тау. Избороздил четыре моря, плавал по Иртышу, Чусовой, Волге и Аму-Дарье. Шел пешком, ехал на лошади, на верблюде, мчался на оленях и на собаках. Летал на самолете, плавал на пароходе, на каспийском туркменском паруснике, на сибирском батике и на аму-дарьинском каюке. Жил с казахскими чабанами на их джайляу, с туркменскими коневодами в ахал-текинском оазисе, с рыбаками в каспийской дельте и на Чудском озере, с хлопководами узбеками и таджиками, с шахтерами Караганды, уральскими вогулами, таежными охотниками, с геологами-поисковиками, с мужественными пограничниками. Жадно смотрел, слушал и здесь находил сюжеты для своих произведений. Писать о красочном разнообразии нашей Родины, о безбрежном море ее кипучей жизни, о ее людях, разных в своем труде, действиях, стремлениях, обычаях, и в то же время удивительно схожих в богатстве их душ – так я понимаю творчество приключенческого писателя…
Из странствий по родной земле я привез несколько книг очерков: «Каменный пояс» (1928 год) – об Урале и его людях; «Клад черной пустыни» (1932 год) – о «кумли», людях Кара-Кумов; и «Крушение экзотики» (1933 год) – о средне-азиатских республиках. Не считая, конечно, многих очерков, написанных для журналов и газет.
В путешествиях я открыл и вторую свою тему – историческую. Помню, впервые меня подвел к исторической теме Урал, где на каждом шагу, в городах, селах, и особенно на горных заводах, – всюду следы седой истории; где словно оживают старинные были, предания и легенды. Часть из написанных исторических повестей и рассказов вошла в эту книгу. Понятие «исторический» я определяю довольно широко, поэтому в сборник включены рассказы и о событиях XVI века, и о двадцатых-тридцатых годах XX века. Более глубоко и серьезно разработаны исторические темы в романах, в книгах: «Возмутители» (1929 год) – о революции 1905 года; «Гул пустыни» (1930 год) – о завоевании русскими Средней Азии; «Последний год» (1961 год) – о русских колониях в Северной Америке, на Аляске; в повестях «Хлопушин поиск» (1966 год) – о пугачевщине на Урале; и «Царский куриоз» – о предке Пушкина, арапе Петра Великого Ганнибале.
Исторический рассказ «Всадник в сюртуке», включенный в этот сборник, был последним рассказом, написанным перед длительной паузой в моем творчестве. В год публикации рассказа, в 1937 году, я был без всяких оснований арестован, осужден и девятнадцать лет не имел права ни писать, ни печататься. Только в 1956 году я был реабилитирован. Пришлось усиленно работать, чтобы напомнить о себе читателям, которые уже успели меня позабыть. Начались сначала журнальные публикации, а в 1959 году вышла книга «Вторая весна». Живя в Казахстане, я снова, не с прежними, правда, силами, встал на тропу, уходящую к горизонту. В апреле по чудовищному бездорожью я отправился в глубь степей, на целину. Поход нашей автоколонны был исключительно тяжелым, но я был счастлив тем, что снова увидел людей, узнал нашу замечательную молодежь. Под свежим впечатлением этого степного похода и была написана «Вторая весна», отмеченная правительственной медалью «За освоение целинных земель».
Всего я написал девятнадцать книг. Рассказы и повести, напечатанные в различных журналах, толстых и тонких, в московских, республиканских и областных, пересчитать труднее. Есть у меня планы и на будущее – планы новых рассказов и новых книг. Своим творчеством я служу моей Родине, и этому отдам все силы и весь талант.

1967 г.
…Планам на будущее сбыться не довелось. Сборник «Бунт на борту» был последней книгой, которую Михаил Ефимович Зуев-Ордынец подготовил к печати сам. В конце декабря 1967 года талантливого писателя не стало.

I
УЗНИК СТОРОЖЕВОЙ БАШНИ

1
Дикий крик, вопль живого терзаемого тела взметнулся из темного угла, ударился о низкий каменный потолок и затих, сменившись хриплым стоном.
Оплывшая сальная свеча, прилепленная к краю хромоногого стола, задергала огненным языком от тяжелого дыхания рыжеволосого человека, сидевшего около стены в большом деревянном кресле. Рыжеволосый покосился в темный угол, откуда теперь неслось громкое ознобливое лясканье зубами, какое бывает только при неистовой, нечеловеческой боли.
– Што, пес, не глянется? – тяжело уронил рыжий набухшие злобой слова. – Годи, не так еще взвоешь! Подбавь, Маягыз, аль забыл, как с дыбой обращаться? Ну!..
Огромный, словно ствол векового дуба, башкир, обнаженный до пояса, утопил в улыбке узкие глаза.
– Подбавлю, бачка, мне лапши не жалко.
Башкир нагнулся над чем-то, напряг в усилии голую спину, рванул. Послышался хруст, а за ним снова крик не крик – вой недобитого животного.
– Ну, скажешь теперь? – подался к темному углу рыжий. Снял со стола свечу и поднял ее над головой. – Не застуй, Маягыз, отойди в сторону.
Свет робко просочился в угол, выхватил русую голову, молодое лицо, серые большие, чуть навыкате глаза и струйку крови на подбородке.
– Ничего не знаю, – зашевелились потрескавшиеся губы. – Пошто пытаешь?
– Так ли, милаш? А кто засылы к казачишкам яицким да к башкиришкам на озеро Иткуль, штоб на завод шли, делал? А кто двоеданов[1]1
Так на Урале в старину звали староверов: они со времен Петра I платили двойную дань (подать).
[Закрыть] науськивал, штоб мои рудные шахты рушить, они де божью землю сквернят, не знаешь?
– Не знаю.
– А кто по всей Чусовой лосманов упреждал, штоб мою барку с пушечным литьем не водили, тоже не знаешь?
– Нет.
– И про пугачевских шпыней не ведаешь?
– Не ведаю! – через прикушенную губу выдавил пытаемый.
– Ты со мной не шути, Савка! – взмахнул свечой рыжий. – Я ведь и до смерти забить тебя могу.
– Не хвастай, хозяин. Большая кость и волку поперек горла встанет.
Рыжий усмехнулся холодно, одними губами.
– Чистая голуха! Его бьешь, а он пуще борзость свою показывает. Сызнова начинай, Маягыз, упрям нечистый. Крути его до последнего!..
– Терзай, душегуб! – хлестнуло криком из угла. – Недолго уже тебе лютовать осталось! Придут вот казаки с Яика, да орда со степу подвалит, тряхнут они товды твоим заводом. А работные людишки, думаешь, не взбунтуются? Заморил ты их на заводской огненной работе, кровью с нее блюют!..
Рыжий не ответил, а Маягыз торопливо бросился в угол, зажал одной рукой рот кричавшего, другой сорвав со стены ременный кнут, резнул им по судорожно бьющемуся телу. Изо рта, зажатого рукой башкира, вырвался только хрип. Рыжий спросил с недоброй лаской:
– Што, копоско? Боишься ты, вижу я, Савка, Маягызовой щекотухи.
А Маягыз, освирепев, уже размахнулся во всю ширь, кнут тоненько, по-змеиному свистнул и тугим обручем обвил обнаженную поясницу со следами не заживших еще рубцов. Тело Савки выгнулось в бешеном усилии освободиться, вырваться и, вдруг обессилев, повисло на дыбе. Рыжий испуганно метнулся к Маягызу.
– Легче, бусурман! Убьешь – ничего тогда не узнаем.
Башкир виновато скалил зубы.
– Хватит на сегодня. Кажись, на пожарной полночь пробило. Кайдалы надень, да прикрой его от холоду какой ни на есть лопотиной. Небось, к утру оклемается…
Рыжий накинул на плечи медвежью шубу и, нагнувшись, шагнул за порог низенькой двери. Маягыз снял бессильное тело с дыбы, надел на Савку смыги – цепи, сковывавшие наискось обе руки и ноги, и, как был полуобнаженный, шмыгнул тоже за дверь, потушив на ходу свечу. Возясь с тяжелым запором толстой чугунной двери, башкир увидел хозяина. Тот стоял около окна заплечной и молча, отсутствующим взглядом смотрел на зарево завода, домны которого не потухали и ночью. Услышав ржавый скрип ключа в замке, хозяин обернулся.
– Иди на кухню, Маягыз: за работу – а ты сегодня ловко работал – тебе там травничку поднесут. Знаю, орда неумытая, любишь выпить, хоть и запрещено тебе это твоим законом. А ключ сюда дай, да накажи профосу[2]2
Чин, исполнявший в старину в войсках обязанности полицейского и палача.
[Закрыть], глядели бы караульные зорче, никого штоб к заплечной не подпускали…
Хозяин положил ключ в карман и зашагал по-медвежьи, вразвалку, к господскому дому.
2
Неспокойной была эта ночь для хозяина, Хрисанфа Тулинова, владельца Крутогорского завода. До рассвета тяжелыми шагами мерил он горницу из угла в угол. Злоба душила его, как крепкая водка. Но ровны и размеренны были его шаги, спокойно лицо. Лишь изредка, когда уж слишком жгло сердце, подходил к столу и отхлебывал из туеса холодного, со льда, сыченого питья. Хрисанф знал, что злоба, именно как водка, туманит мозги, а ему сейчас более, чем когда-либо, нужна была ясная, свежая голова. Вот уже с половины зимы чувствует он, как что-то страшное и неминуемое надвигается на его завод, а помочь ничем не может. Вот уже скоро год, как по Уральским сыртам, ущельям и долинам огненным потоком разливается пугачевщина, родившаяся там, в глубине киргизских степей. Месяц тому назад видел он с балкона своего дома большое зарево на юге. Это горели его соседи, Дуванский и Кумлякский горные заводы, подожженные башкирами, пугачевскими помощниками. А вскоре от верных людей узнал он, что и вокруг его завода бродят подозрительные люди, не иначе пугачевские «шпыни» и лазутчики. Значит, отдавай им на разгром свой завод? Нет, не будет этого!..
Теребит Хрисанф сквозную реденькую свою бороденку, жадно тянет холодный мед. Отдать бунтовщикам завод для Хрисанфа все равно что сердце вырвать. Нелегко заполучил он Крутогорский завод, никто не знает, какими темными и страшными путями пришел он к богатству да почету. Худая молва шла о Тулинове по округе. Говорили, что он бывший колодник и в молодости с шайкой беглых грабил шедшие вниз по Чусовой купеческие да казенные караваны. Но показалось ему это дело малонаживным и хлопотным, и решил он разбогатеть разом. Поступил в приказчики к богатому купцу, который вдруг во время поездки на свой дальний завод пропал бесследно. Говорили, что зарезал его в горах Хрисанф. Сидел он по подозрению с полгода в Екатеринбургской судной избе, да сумел оправдаться, выпустили. С той поры и пошло Хрисанфово богачество. Присмотрел он здесь, в Крутых Горах, рудное местечко, заарендовал его у горного начальства – и задымил Крутогорский завод, теперь уже первогильдейского купца Хрисанфа Тулинова. Многие говорили про крутогорского заводчика, а правду кто же знает? У Хрисанфа не спросишь. Он даже жениться не хочет: боится, видимо, чтобы нечаянно как-нибудь, в сонном бреду хотя бы, не выплеснуть из души то страшное, что похоронено в ней навеки.
Из-за завода Хрисанф и врагов себе нажил, врагов смертельных, которые сами погибнут или его шею к земле ногой придавят. Первые враги – это иткульские башкиры. Издревле их вотчиной были Крутые Горы, а тут вырос вдруг вонючий, огнем дышащий завод. Что им до каких-то купчих, заключенных Хрисанфом с горным начальством! Одно знают башкиры: ограбили их, отняли дедовскую землю. И не раз уже пытались они сжечь ненавистный завод, да все не удавалось, только своих «батырей» потеряли в перестрелке с заводским гарнизоном. Другой враг – двоеданы, тайные скиты которых раскиданы по тайге вокруг завода. А Хрисанф леса жжет на переплавку руды, пропадает зеленая «мати-пустыня», оголяется земля – и открываются святые скиты глазам никонианцев, еретиков и табашников. Наконец, третий и наиболее опасный враг были его собственные заводские работные людишки. Хрисанф буквально морил их на тяжелой работе – на заводе, на «жигалиных хуторах», где обжигался для заводских домен уголь, и особенно «в горе», в железно-колчеданных шахтах. Не раз пробовали бунтовать работные, да тяжела на расправу у Хрисанфа рука. Зачинщикам – батоги, кнут, дыба, а всех остальных заковывали наглухо в цепи и отправляли «в гору». А оттуда выход тоже только один был – в могилу. Такие свирепые расправы Хрисанфа получили полное одобрение горного начальства.
Хрисанф сжал кулаки так, что ногти впились в ладони: эх, ежели бы только башкиришки, орда поганая, да кержачье[3]3
Кержак – другое прозвище староверов на Урале.
[Закрыть] проклятое ершились, или бы свои работные людишки взбунтовались – не страшно бы это было! В бараний рог бы их скрутил!.. Есть у Хрисанфа на заводе и свое войско, и солдаты горной команды, и своя полиция – профос, и даже свой палач – Маягыз. Царем чувствует себя на Крутых Горах Хрисанф. Коли бы своя, домашняя беда, управился бы, не охнул. А тут напасть извне идет, вся Исетская провинция словно в огне гори г. Под Екатеринбург даже подступили было бунтовщики, да разгромило их знатно царицыно войско под Сысертью. Есть, правда, у Хрисанфа доброхоты среди горного начальства, но разве вспомнят они о нем теперь, когда кругом такая заворошка идет, когда поднялось «генеральное взбунтование», как печатали в «Санкт-Петербургских ведомостях». Нет, на помощь начальства надеяться нечего, да и не пробраться драгунам в такую глушь, как Крутые Горы.
Хрисанф переменил в светце догоревшую свечу и снова зашагал, тяжело скрипя половицами.
Правда, до сих пор беда обходила его завод. Вот здесь, кругом и около вертелась она, в пепел обращались соседние заводы, а Крутогорский – цел и невредим. Работные людишки уже за волхвита-колдуна почитать Хрисанфа стали: отводит-де глаза пугачевским отрядам. Но в последние дни почувствовал Хрисанф, как пугачевская петля легла вплотную и на его шею. А все из-за этого змея, шахтаря Савки Топоршина…
– Эх, Савка, – с хрустом сжал зубы Хрисанф, – гроб себе готовь, убью!..
Савка всем делам зачинщик. Он засылы делал и к казакам яицким, главному войску пугачевскому, и к башкирам иткульским, и к кержакам, чтобы разом, скопом грянули они на Крутогорский завод. Мало того, из-за Савки другая, большая беда свалилась на голову Хрисанфа.
Еще зимой получен был приказ из самой столицы, от берг-коллегии, чтобы все уральские горные заводы лили только пушки, ядра, бомбы, вообще воинский припас, а весной отправляли бы его на Егошихинский, графа Воронцова, завод[4]4
Теперь город Пермь.
[Закрыть], откуда он будет раздаваться воинским командам, идущим из России на усмирение Пугача. Отлил пятнадцать тысяч пудов Хрисанф всякого воинского припасу, желая выслужиться перед горным начальством, погрузил его на баржу, стал весны ждать. И вот пришла весна, дружная, съели теплые туманы снег, забурлила Чусовая, налившись буйной силой, а Хрисанфова баржа так и стоит у заводской пристани, словно примерзла…
– И это Савкино дело, – шепчет Хрисанф, – его!
Подал Савка весть во все сёла, починки и заимки, что по Чусовой разбросаны, всех лосманов предупредил: «Не водите баржу купца Тулинова на Егошихинский завод, нагружена она воинским припасом для войска, что идет против нашего мужицкого царя Петра Федоровича». И попрятались чусовские лосмана. Вот уже целую неделю скачут по горам и падям на быстрых, как ветер, киргизских иноходцах Хрисанфовы гонцы, прельщают лосманов: «Сто рублей золотом, и сукна аглицкого на кафтан тому, кто проведет тулиновскую баржу к Егошихинскому заводу!..» Но не откликаются лосмана, и не двигается с места тяжелая баржа купца Тулинова. А начальство ее давно уже ждет. Что оно подумает? Ведь с ним тоже не шути: умеют и чистоплюи-чиновники когти показывать. Да еще как!..
Хрисанфу стало невыносимо душно, от злобы или от жарко натопленной печи – сам не мог разобрать. Сильным ударом ладони открыл дверь на балкон и вышел на воздух. Теплый захребтовый ветерок, дышащий уже весенней лаской, овеял его лицо. Хрисанф огляделся. Дом его, точно крепость, обнесен палисадом из кондовых, заостренных наверху бревен. А расположен он на островке десятиверстного заводского пруда, в версте от берега, с которым соединен мостом. На этом мостике двоим не разойтись, так что оравой уж не побежишь, только по одиночке. А на вышке у Хрисанфа всегда заряженная картечница стоит, и жерло ее направлено прямо на мостик. Подходи!..
Хрисанфу же с высокого балкона виден весь завод. Глухо доносится сюда, на островок, грохот кричных молотов и тарахтенье рудодробильных мельниц. Как филин, уставилась во тьму огненным своим глазом домна. Хрисанф напрягает зрение, смотрит, нет ли на заводском дворе лишних людей. Как только наступили тревожные времена, Хрисанф приказал всех свободных рабочих запирать на ночь в казарму, а к дверям ставить караул. Так спокойнее! А потому и пуст сейчас широкий заводской двор, лишь тенями мельтешатся около домны засыпки и подсыпки. Тогда Хрисанф переводит взгляд на приземистую каменную башню. Она носит на заводе название Сторожевой. На верхушке ее бессменно дежурят гарнизонные солдаты, поглядывают, не идет ли орда или какая-нибудь другая шайка на завод. В заплечной клети Сторожевой башни, в этом домашнем застенке Хрисанфа, лежит сейчас закованный в смыги шахтарь Савка Топоршин, главный враг Тулинова… Луна зашла за башню, и длинная ее тень протянулась через пруд, упала сюда, на балкон, к самым ногам Хрисанфа. И показалось крутогорскому владыке, что это узник Сторожевой башни, смертельный его враг, шлет ему свой привет. Передернул зябко под кафтаном плечами. Подумал: «Ну его к шуту! Коль и завтра ничего от него не выведаю, прикажу Маягызу придушить. Надоело валандаться…»
И вдруг испуганно отшатнулся назад. У подножья башни он ясно разглядел огненную вспышку, а за нею на остров прилетел звук выстрела из солдатского мушкета. И тотчас же на Сторожевой башне грянул колокол, загудели чугунные била. Тревога!..
Хрисанф ворвался в комнату, схватил только шапку, забыв про шубу, и скатился по крутой лестнице на двор. Оттолкнул оторопелого дворника, нырнул в калитку, спрыгнул с высокого откоса на мостик и побежал. На полдороге от берега услышал встречный топот человека, тоже торопливо бежавшего по мосту. Остановился, вытащил из кармана немецкий пистолет и, взведя курок, крикнул:
– Кого нечистая несет? Стрелять буду!
– Я, бачка! К тебе бегу, – послышался в ответ шершавый от усталости голос.
При свете луны Хрисанф разглядел громадную фигуру Маягыза. Опустив дуло пистолета, спросил:
– Кто у Сторожевой стрелял?
– Сандат палил, бачка.
– Солдат? В кого?
– К Савке тамыр[5]5
Тамыр – друг, приятель.
[Закрыть] лез, из заплечной освободить хотел, сандат в тамыр палил.
– Убил?
– Не, бачка, бежал. Сандат палил – промаху дал, а Савкин тамыр сандат резал – промаху не дал. В горло. Насмерть!
– Сволочи! – взвизгнул Хрисанф. – Только хлеб жрете! А ты чего глядел, пес? Залил шары-то травником! Я те самого за караул возьму, кнута отведаешь!
Каменная азиатская улыбка, никогда не покидавшая лица Маягыза, сменилась вдруг злобной гримасой. Он угрожающе надвинулся на Хрисанфа.
– Маягыз нельзя кнутом бить, Маягыз – тюре[6]6
Тюре – нечто вроде дворянина, родовая степная аристократия.
[Закрыть]!



