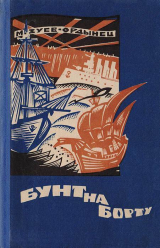
Текст книги "Бунт на борту (Рассказы разных лет)"
Автор книги: Михаил Зуев-Ордынец
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
ПРЕСТУПЛЕНИЕ ВЕРЫ ВАНУЙТА

Над воротами карантинного двора совхоза «Ясовей», что по-русски значит «проводник», висела доска с крупной надписью:
«Повалке в совхоз вход воспрещен!»
По дороге в канцелярию каждый день читал эту запрещающую надпись директор совхоза Ядко Хатанзеев и, читая, каждый раз улыбался молодому задору этих слов. Ядко знал, что надпись сделала сама Вера Вануйта, и он твердо верил, что ни сибирка, ни попытка, ни другая какая-либо повалка не проберутся в совхозные стада.
На карантинном дворе с первыми весенними днями олени совхоза проходили под наблюдением Веры Вануйта тщательную санобработку, и только после этого их гнали на летовки. В начале июня – по-ненецки ненянг юрий, месяц Комара, – по последнему обманчивому весеннему льду переходили стада Большую Воду (Обскую губу) и лесом ветвистых рогов шли навстречу влажным ветрам Карского моря, в глубь «Конца Земли» (Ямала). Там мало комаров, там сочные ягельники, там медленные, чистые реки, а на морском побережье много соли, которую так любят олешки.
По необозримому этому раздолью носился когда-то на быстрых упряжках жирнощекий и вечно пьяный князь тундры Василий Тайшин, всем урядникам и самому губернатору известный, получивший от царя медаль и российское дворянство за поставку армии оленьего мяса. Владелец многих тысяч оленей, сотни чумов и десятка жен, князь Василий Тайшин имел неограниченную власть над беднотой, над своими пастухами, а значит и вечными своими должниками. И теперь носят еще, наверное, под малицей шрамы от Васькиных побоев бывшие его пастухи. А бил он их пудовым кулаком, и хореем, тяжелым шестом для управления упряжкой, и багром, и обухом замахивался. А кто запретит Ваське избивать и калечить бедняков, отбирать у них жен и лучшие песцовые шкурки? Род Тайшина самый сильный на земле и будет властвовать над тундрой, пока светят звезды и солнце. Такая слава летела по Ямалу из конца в конец.
Но пришла в тундру Советская власть – и присмирел ямальский князь, даже спирт глушить бросил, и поднимать хорей на пастухов уже не решался. А в переломный год – год коллективизации тундры, – когда колхозы «из олешков одно стадо делали», бежал Василий Тайшин сначала в глухие дебри Большого Ямала, а оттуда, по слухам, перебрался за границу, в Норвегию. С Василием Тайшиным бежали многие его друзья, мелкие князьки, тетто, кулаки, и тадибеи, обманщики-шаманы. А может быть, и не бежали. Может, затаились где-нибудь в тундре.
А теперь по бескрайним разметам былых тайшинских угодий совхозные стада каслали[29]29
Кочевали, паслись.
[Закрыть] все лето, чтобы вместе с первыми осенними буранами вернуться в коррали совхоза, приведя с собой тысячный приплод.
И удивлялась тундра!
Давно ли, когда принадлежали эти стада Ваське Тайшину, вечно болели олешки: чесотка дырявила их шкуры; как бочки, распухали их ноги от страшной попытки и, самое страшное для оленевода, черная язва падала на стада. Понурыми становились олешки, взъерошенная шерсть теряла блеск, и спускались из ноздрей кроваво-гнойные шнурки.
А чем лечил Васька больных олешков?
Вытряхивали из меховых мешков деревянных божков, маленьких, тощих, злых, мазали их оленьей кровью, украшали цветными лоскутками, водкой ублажали. Не помогало это – тогда звал Васька тадибеев. Шаманы били заячьей лапкой в шаманские бубны, пензеры, вопили заклинания, камлали. Но и после камланий устилались тундры от Салехарда до Архангельска трупами павших оленей. А теперь, когда стали стада совхозными, когда попали олешки в руки Веры Вануйта, лоснится их шерсть, как шелковая, жиром заплыло мясо, а копыта их крепки, как камень. Вот почему ненцы всех тундр называли Веру доверчиво и почтительно «арка лекарь тыу мандал», что значит – большой лекарь оленьих стад. Вот почему и директор Ядко Хатанзеев крепко верил совхозному ветврачу Вануйта, а не потому, что не мог без волнения смотреть на смуглое, чуть скуластое лицо Веры и на щеточки черных ее ресниц, таких черных, словно она нарочно закоптила их у костра. Щекочут эти ресницы сердце Ядко.
Но однажды Ядко Хатанзеев остановился у доски, прочитал надпись и не улыбнулся.
Путанными тропинками тундры, в обход карантинного двора, пробралась в стада повалка, болезнь, которую ненцы-пастухи называли черной язвой. Вера, поручив карантинный двор и ветамбулаторию фельдшеру, тотчас выехала в тундру, в зараженные стада. Через пять дней она прислала оттуда письмо директору совхоза:
«Как я и ожидала, ненецкая черная язва оказалась сибиро-язвенным карбункулом. Высылай немедленно прививочный материал, а также карболку и креолин для дезинфекции. Передай фельдшеру, чтобы он срочно организовал изоляторы и взял на учет скотомогильники. Не волнуйся, Ядко, заболевания единичные. Ручаюсь, мы победим язву…»
Ядко вообразил измазанные йодом пальцы, писавшие эти строки, улыбнулся, успокоился и поверил, что язва будет побеждена. Он немедленно отправил в тундру медикаменты и стал ожидать оттуда дальнейших известий. Второе письмо пришло из тундры тоже на пятый день. Писал технорук второго стада, зоотехник и комсомолец Миша Пальчиков:
«…Хотя гражданка Вануйта окончила вуз в Ленинграде, а все же до ее прививок дохли единично, а теперь падают десятками. Чистая бактериологическая диверсия! Мы ей, благодаря этому, прививку делать запретили, а она, сильно обидевшись, уехала в шестое стадо, к Хэно Яптик…»
– Нет, путает что-то Миша, – сказал Хатанзеев, дрогнув голосом и вспомнив ласковые, горячие губы Веры.
– Ясно путает! – сразу охотно согласился секретарь партячейки Швырков. – А ты знаешь, Ядко, что отец Вануйта был тетто, многооленный кулак?
– Хой, хой! Тетто! – заорал Хатанзеев. – Знаю! А ты знаешь, что отец ее бежал вместе с Васькой Тайшиным, когда Вера совсем маленькая была? Она без отца росла в детском доме, в Салехарде. Знаешь? Как осенний лед на озере, насквозь ее видно, а он кричит «тетто, тетто»!
– Кричишь ты, а не я, – спокойно ответил Швырков. – Не выставляй рога, ты не олень, я не волк. И о словах моих не подумай чего-нибудь такого. Сами в оба должны смотреть. Понимаешь, Ядко? А Миша известный путаник. Поеду-ка я завтра в тундру.
Но уехать Швыркову не удалось, ибо вечером того же дня примчался на центральную усадьбу совхоза старший пастух шестого стада, старый Хэно Яптик. Старик начал орать еще на дворе, привязывая загнанную упряжку.
– Ань торово! Большое слово привез! Вера впустил под кожу олешкам белую воду, прививка называется, у олешков через то черная язва получилась. Сдохли олешки. Мой вожжевой[30]30
Головной олень упряжки.
[Закрыть] сдох! Какой, однако, это прививка? Смотри, сколько много олешек дохнул!
Он протянул Швыркову свою записную книжку – палку, изрезанную зарубками по числу павших оленей. Зарубок было около полусотни. Широкое, испорченное оспой лицо Хэно кривилось от ярости.
– Скоро не олешков, ветер вокруг чума гонять будем. Я ее на почетное место в чуме сажал, около моей постели, теперь дальше собачьего места не пущу. Мы ее выгнали с нашего стойбища, хотели тынзеем отстегать. Ненецкий национал такой плохой человек в чум не пустит. Бери ее на притужальник! Так мой ум ходит. Нынче-то тебе ясно?
– Нынче-то мне ясно. А ум твой по плохой дороге ходит, – ответил Швырков. – Где сейчас Вера?
Хэно положил за губу табак, сердито пожевал.
– В седьмое стадо поехала. Не пустят ее на стойбище, и в стадо не пустят. Нигде ее не пустят!
– Уже везде известно? – тихо спросил Ядко, не замечая, что белолобый вожак Хэновой упряжки тычется ему в руку носом, прося хлеба.
– Сам знаешь: на одном конце тундры слово скажешь – на другом сразу услышат. А худой говорка от чума к чуму на бешеных собаках несется.
– Ладно. Наша говорка кончена, товарищ Яптик, – строго сказал Швырков. – Веди оленей на вязку, сам в столовую иди, чай пей, русские щи абырдай, а с усадьбы не уезжай.
Старик переступил на кривых ногах, помолчал насупившись.
– Прорабатывать будешь?
– Будем! Придется тебя, Хэно, с должности старшего пастуха снять за самоуправство и за подрыв авторитета специалиста. Понимаешь?
– Понимаю, однако.
– Ты стахановец, мы тебя не раз премировали, а ты вон какие номера выкидываешь!
– Понимаю, однако, – повторил Хэно. – Тарем! (Ладно). Премию обратно тебе отдам, и бинокль, и патефон. Бочку семги не могу отдать, семгу съели. Я знал – большое тепло от русского человека в тундру идет, нынче знаю – и холодом от него тянет.
– Ничего ты не понял! – махнул рукой Швырков. – Тарем! Скатаемся в твое стадо. Где оно теперь? Сколько ехать?
– За три оленьих передышки[31]31
Передышка – около 80 километров.
[Закрыть] как не доедешь? Доедешь!
– Знаешь что, – шагнул к секретарю Хатанзеев и впервые назвал его по имени, – знаешь что, Федя, позволь мне. Дай я скатаюсь в шестое стадо.
Было в глазах и в голосе Ядко что-то такое, что заставило Швыркова сразу согласиться. А глядя, как директор сам торопливо запрягает в нарту белоснежных своих хоров[32]32
Олени-быки.
[Закрыть], секретарь ячейки вдруг поморщился, как от зубной боли, и сказал громко:
– Ладно, посмотрим.
Хатанзеев вернулся очень быстро и неожиданно. Швырков разбирал в канцелярии почту и, взглянув Нечаянно в окно, увидел директорскую упряжку. Белоснежные красавцы олени были скучны, шершавы и грязны от пота. А нарты были пусты, Швырков не заметил, когда Ядко слезал с них.
Он нашел директора в его квартире. Ядко мыл руки раствором сулемы, яростно, как одержимый, растирал их щеткой.
– Сулема? – сказал Швырков. – Так… Ясно…
– Кругом зараза, – глухо откликнулся Ядко. – И пастух заболел. Заразился от кисточки для бритья. Едва ли жив будет. Я его в Новый Порт, в больницу отправил. И кисточку туда же, на исследование.
– А с Верой как? С Верой что решил?
Ядко долго молчал, снимая с малицы широкий нерпичий ремень с тяжелой медной пряжкой. Лицо его потемнело, подсохло, острее стали скулы.
– Она… Она оленям вместо вакцины язву прививала. Я не знаю, как это делается. Я ее арестовал, с собой привез. Давай, вызывай милиционеров. В Салехард ее отправляй, в НКВД!
– Не гори порячку, – сказал тихо секретарь. И, не заметив оговорки, повторил: – Не гори порячку, Хатанзеев. Горяч ты больно, прямо бездымный порох.
– Стерво! – трудно перевел дыхание Ядко. – Я бы ей… высшую меру!
– Знаешь что, Хатанзеев, – потер в раздумье переносицу Швырков, – знаешь что, директор?.. Иди-ка ты к чертовой матери со своей высшей мерой! Пойдем, потолкуем с ней…
Ядко покорно пошел за ним, по-прежнему не выпуская из рук тяжелый нерпичий пояс с медной пряжкой.
Швырков впервые попал в комнату Веры. Здесь было хорошо, просторно и свежо. В настежь раскрытое окно била густая синева озера, за ним разливы седых ягелей и бело-золотых ромашек, еще дальше черные сопки с седыми макушками, а на них медленное движение оленьего стада. В окно тянуло от тундры пряными запахами меда, грибов и мха.
На тумбочке около кровати стопка книг – Пушкин, Горький, Шолохов, Джек Лондон, и крошечная фигурка оленя, вырезанная Верой из мамонтовой кости. Тонкие веточки рогов закинуты в стремительном беге на спину. Над кроватью портретик Ленина. И тихая грустная музыка из Скандинавии. Видимо, Вера забыла выключить приемник, когда спешно выехала в стада. Мирно, уютно, счастливо было в этой комнате, и диким, невероятным, нелепым казалось дело, ради которого они пришли сюда.
Вера лежала на постели, лицом к стене, покрывшись старенькой обтрепанной ягушкой. Ее пересохшие от ветра и солнца волосы рассыпались по подушке. Услышав шаги, Вера медленно повернулась. Они увидели сухие губы, прилипшие к зубам, и глаза. В глазах было отчаяние, а на ресницах, словно закоптившихся у костра, росинки слез.
Швырков повернул лимб вариометра и в наступившей тишине спросил коротко:
– Ну, как же, гражданка Вануйта?
Она молчала, переводя быстро взгляд со Швыркова на Хатанзеева обратно, ища чего-то в их лицах. И был уже ответ в этом ее молчании. Ядко молча пошел к дверям.
– Пешки[33]33
Олений теленок.
[Закрыть] из шестого стада, как огурчики. Видели вы их? – заговорила неожиданно Вера. – Сдохли! Десятками падали… после моей прививки.
Она снова отвернулась к стене, вздернув плечо. Плечо перекошено вздрагивало. А ноздри Хатанзеева затрепетали, и он поднял руку с зажатым в ней поясом. Швырков испугался, не врезал бы директор тяжелой медной пряжкой по острому девичьему плечу. Но Ядко положил пряжку на ладонь, посмотрел внимательно и вышел. На крыльце он покачнулся, ударившись о притолоку.
– Ты не качайся, Ядко! – сердито крикнул Швырков. – Ты у меня не качайся, чертова кукла!
– Не бойся, не качнусь! – твердо выпрямился Хатанзеев. – Поскользнулся я, налили тут. А только, Федя… как я ей верил. Любил ее, Федя. А теперь…
– Не пори горячку, Ядко, – взял его секретарь под руку. – Отправлять ее никуда не позволю, пока сам в тундру, в стада не съезжу. И если ты ее хотя бы намеком… Смотри тогда, Ядко!
Они так и вышли со двора под руку, плечом к плечу. На повороте за карантинный сарай остановились. Ядко послушал и сказал:
– Много кричит, много хореем махает, значит, русский едет.
И вправду, из-за дальней сопки вылетели нарты. Приложив ладонь ко лбу козырьком, Швырков старался разглядеть, кто же это мчится, а разглядев юнгштурмовку и желтые краги, понял.
– Миша во весь мах лупит, – сказал он тревожно.
– Что еще случилось?
Нарты влетели на карантинный двор, и Миша скатился с нарты. Он подбежал к Швыркову, вцепился в его пиджак и взвыл пропаще:
– Что же это делается? Изнутри взрывают!
– Не поднимай хаю, Миша, – отцепил от пиджака пальцы зоотехника Швырков. – Выкладывай по порядку.
Но Пальчиков снова закричал:
– Здесь главное дело соль! Понимаешь? Соль! Знаешь ведь, как олени соль любят. А они где-то язвенную шкуру достали, посолили и нашим оленям лизать дали, ну и заразили! А потом с язвенных оленей шкуры сдирали, опять солили, опять лизать давали тем оленям, которым прививка сделана. При чем же тут товарищ Вануйта, я вас спрашиваю?
Юнгштурмовка Миши была украшена значками: и МОПР, и «Добролет» с серебристой птицей, и «Ликбез» с раскрытой книгой, и другими без числа. От волнения и возмущения он весь сиял, блестел и переливался на солнце.
– Кто это – они? – поднял Швырков сжатый кулак. – Только не ори на весь совхоз.
Миша придвинулся вплотную и зашептал заговорщицки:
– Один из них заболел, сам язвой заразился, когда шкуры сдирали.
– И у вас пастух заразился? – перебил его Ядко.
– О чем и разговор! Заразился – и все открылось. Когда сибирка его прижала, он и сознался, и остальных выдал. Ловко сработано? Они, а не Вера!
– Да кто они-то, чертова ты кукла? – закричал Швырков. – Кто они, спрашиваю?
– Здравствуйте, я ваша бабушка, – изумился Миша. – Тысячу раз ему повторяю – Васька Тайшин, князь ямальский, их подослал. Сознались! Кулачье бывшее. Заводилой у них был черный шаман Халиманко с реки Юр-Ярга. А к нам пастухами нанялись. Прикинулись! Понимаешь теперь?
– Вот оно дело-то какое! – страдающе шепнул Хатанзеев. – Язва-то Васькина, оказывается. А мы-то… а я-то…
– А ты-то! «Высшую меру ей!» – хмуро съязвил Швырков. – Видал, как работают? Одним выстрелом двух зайцев убивают. Язву к нам в стадо запустили. Всю вину на Веру свалили. Ладно. Пошли. Поговорить надо, как дальше с язвой поступать будем. Не только с черной! О всяких язвах поговорим. К тебе пойдем, Ядко. У тебя поспокойнее.
– Идите. Ключ под дверью подсунут. А я сейчас.
И, не дожидаясь согласия, он пошел обратно, к крыльцу ветамбулатории. Но его остановил строгий окрик Швыркова:
– Эй ты, куда? Успеешь. Сначала дело!
– А я зачем? – спокойно ответил Хатанзеев. – Надо же и ее на совещание пригласить. Сам говорил, что о язве разговор будет…
Древняя кочевая дорога легла в тундре. Она идет из глубины Ямала до Обской губы, затем по берегу Большой Воды доходит до «столицы тундры» Салехарда. Никто из тех, кто едет в ямальские тундры, не минует этого древнего пути ненцев.
Ясной и теплой солнечной ночью на старой дороге встретились четыре нарты. Две тягловые нарты, мчавшиеся в тундру, были загружены медикаментами для борьбы с черной язвой. Управляли этими нартами Ядко Хатанзеев и Вера Вануйта. Две другие упряжки, шедшие навстречу, из тундры, не везли никакой клади. На них под конвоем милиционеров, связанные кожаными арканами-тынзеями, сидели «пастухи», подосланные князем Тайшиным в совхозные стада. «Пастухов» ожидали в следовательской комнате НКВД.
Пока Хатанзеев и милиционеры обменивались новостями и табаком, Вера с чувством опаляющей ненависти разглядывала арестованных. И вдруг вскинула руку с зажатым в ней хореем:
– Отец!
Один из арестованных быстро обернулся на неистовый крик Веры, вгляделся в ее лицо и втянул испуганно голову в плечи. А Хатанзеев бросился к Вануйта. Но Вера поглядела еще раз на перекошенное страхом лицо, так поглядела, словно хотела запомнить его на всю жизнь, на всю жизнь унести ненависть к нему, и опустила хорей на спины оленей.
Олени рванулись и понеслись. Хатанзеев на ходу ввалился в нарты.
Вера спешила. Тундра еще дышала зараженным воздухом. Еще опасны были и земля, и ягель, и вода в речушках.
Надо разослать пастухов на поиски новых, здоровых пастбищ. Надо мобилизовать всех комсомольцев и комсомолок тундры. Они день и ночь будут ходить по стадам и впрыскивать оленям под кожу прививочную сыворотку. Надо заболевших оленей отделить в особое карантинное стадо и лечить их сильными и сложными средствами.
Впереди много работы! Надо спешить. И Вера, погоняя оленей, смотрела нетерпеливо вперед, ни разу не оглянувшись на упряжку, увозившую на справедливый суд и на заслуженную расплату человека, которого она в последний раз назвала отцом…
1936 г.
КОКПАРЫ В ЖАМАН-ЖОЛЕ

Это случилось тогда, когда в степи еще белели не только черепа павших верблюдов, но и пробитые пулей черепа чубатых семиреченских казаков атамана Анненкова, и разрубленные красноармейским клинком черепа джигитов алаш-ордынских полков «зеленого знамени»; когда баи, удравшие в Синьцзян, еще присылали беднякам письма, в которых именем аллаха всеблагого и всемилостивого грозили содрать с них шкуру, если они не сохранят в целости байские стада и табуны.
Студент Алма-атинского пединститута Нуржан Байжанов поехал на летние каникулы в аул, к отцу. Целую зиму его учили многому-многому, ибо он готовился стать учителем одной из тех школ, что открывала Советская власть в степных аулах.
Вместе с Нуржаном поехала его жена Жаукен, студентка того же института и комсомолка. Сначала они долго ехали по железной дороге, а когда ночью высадились на глухом полустанке, когда поезд ушел, Жаукен стало не по себе. Вокруг лежала древняя страна, а в глубь ее вели лишь караванные дороги, старые, как мир, и, как старый мир, плохие.
Комсомольца Кагена, щеголявшего в засаленной морской тельняшке, непонятно как попавшей в безводные степи, и в розовых ситцевых шароварах, прежде называли бы караван-баши, но теперь его называли экспедитором сельпо. Того сельпо, которым заведовал отец студента, старый Байжанов. Каген подвел к полустанку трех верблюдов, украшенных осмолдуками – желтыми, фиолетовыми, зелеными и красными шерстяными плюмажами на головах. Когда Каген приводил своих верблюдов на полустанок за товарами для сельпо, осмолдуков на верблюдах, конечно, не было, но сегодня плюмажи развеваются в знак радости, ибо разве не великая радость для почтенного заведующего сельпо Мулдагалима Байжанова приезд в родной аул любимого сына, первенца и студента Нуржана! И, когда темно-дымчатые с черной гривой гиганты, глухо, утробно урча, встали покорно на колени, Жаукен, кутаясь зябко в длинный шелковый шарф, хотя было плюс двадцать в лунной тени, посмотрела жалобно туда, где завязла во тьме ночи красная точка хвостового фонаря поезда. Она была горожанка и верблюдов видела только на алма-атинских базарах.
Так тряслись они на жестких спинах кораблей пустыни, не в двадцатом, но в десятом веке, останавливаясь только на ночь, окружая ночевку арканами из немытой овечьей шерсти, через которые не посмеют переползти скорпионы и фаланги, и змея тоже побоится переволочить свой холодный жгут. А по обе стороны их пути лежала степь, темно-зеленая, чуть ли не черная древняя земля, помнящая и хана Аблая, и убийцу простых людей мятежного хана Кенисары, и чингизхановских монголов, и затерявшихся во мгле веков огузов и кипчаков. Жаукен смотрела ликующими глазами на жаворонков, трепеща крыльями, вырывавшихся из травы, на мчавшихся вдали джейранов и на беркута, надменно, даже не пошевельнувшись, сидевшего на краю дороги. А Нуржан, глядя на родные просторы, пожимал узкими плечами и говорил презрительно: «А-азья!» И оттого, что он по своему тянул первый слог и небрежно обрывал последний, выходило особенно презрительно: «А-азья!»
Редкие встречные почтительно и робко кланялись щегольской пушистой кепке Нуржана, его большим роговым очкам, его золотому зубу, а Жаукен махала в ответ снятым с головы шарфом, кричала весело и смеялась. И тогда Нуржану хотелось ударить жену за бесстыдство: разве так должна вести себя катын в присутствии мужа? После одной из ночевок она неудачно пыталась вскарабкаться на верблюда, и Каген, подняв женщину сильными руками, опустил ее бережно на седло. Нуржан взбесился, засопел и двинулся на Кагена, чтобы отхлестать его арканом, но, посмотрев на широкие плечи экспедитора, сразу остыл.
На пятый день пути, когда измотавшиеся верблюжьи колокольчики охрипли от пыли, показался аул Жаман-Жол, что значит «плохая дорога», легший у подножья грозного величия гор. Это был родной аул Нуржана, но он, проезжая по его улицам, смотрел прищуренными глазами мудреца и эпикурейца на низенькие глиняные кибитки, на такую же низенькую мечеть – теперь лавку сельпо, – в стенных нишах которой лежали когда-то коран и святые книги шариата, а теперь ботинки, рубашки, ситец и стояли поллитровки водки, на убогий минарет – деревянную лестницу с площадкой, прибитой к дереву, теперь трибуну для аульных и волостных ораторов. Глядя на родное убожество, Нуржан пожимал плечами, шептал брезгливо: «А-азья! Я не вернусь сюда ни за что! Разве для этого я учусь в институте?»
Вышедшие из кибиток аульчане при виде Нуржана на пунцово-плюмажном верблюде вытирали бороды руками и склонялись в низком поклоне жолдасу мугалиму, то есть товарищу учителю, а ребятишки бежали следом, задирая в патриотическом восторге рубашонки выше пупа, неистово крича городское «урля-а!». От такого почета глаза студента заблестели, как лакированные, и он, чуть подумав, перерешил: «Я вернусь сюда, но через десять лет, когда здесь будут рестораны, футбольные стадионы и кино. Показать бы им сейчас „Медвежью свадьбу“ или „Процесс о трех миллионах“. Уй-бай-ой! Какие два жулика в этой картине!»
С этими мыслями Нуржан подъехал к родительскому дому, где встретили его злой лай собаки, бегавшей по плоской крыше кибитки, и приветственные слова отца, вышедшего за ворота, ибо в дом прибыл поистине «нуржан», то есть луч души, то есть первенец. Они поцеловали друг друга в плечо, а Жаукен отправилась, конечно, на женскую половину, где мать и сестра Нуржана тотчас начали удивляться ее часам, ее пудренице, ее походке, легкой, как песня, как дым костра, не спутанной рабьими одеждами. Золовка подняла с детским бесстыдством юбку Жаукен, чтобы узнать, носит ли она, подобно всем правоверным женщинам, шаровары, и завопила:
– О, сестрица! Почему такие коротенькие?
Утром следующего дня, едва рассвет спустился с гор в долину, старый Байжанов начал готовиться к тою, к такому тою, будто его первенец родился во второй раз. Слышно было, как старик говорил за стеной кому-то:
– Значит, так… Возьми в лавке пятьдесят килограммов риса и пятьдесят килограммов муки, двадцать килограммов сахару, масла сливочного ящик, чаю пять килограммов. Чай бери высшего сорта. Водки три ящика возьми, мало будет – еще возьмем. Зарежем двух бычков и пяток баранов. Хватит? Нет, зарежем семь баранов!
– Вай, сколько же гостей будет? – удивилась Жаукен.
– С пяти аулов лучшие и нужные люди придут, – самодовольно улыбнулся Нуржан. – Человек сто, не меньше. Что мы, нищие? А попробуй не устрой той – любая старуха плюнет в лицо и отцу и мне.
На переднем дворе закипели такие котлы, в каких на улицах Алма-Аты варят асфальт, а отец и сын начали одеваться для приема гостей. Старый Байжанов вышел во двор наматывать на голову чалму, ибо легчайшей контрабандной английской кисеи было не меньше двадцати метров, и в помещении с нею не справиться. Жена старика стояла в дальнем углу двора и держала конец кисеи, а Мулдагалим, медленно поворачиваясь и приближаясь к жене, накручивал контрабандную кисею.
– Только муллы и купцы носили чалму! – сказала с презрением Жаукен и гневно отвернулась.
– Отец и есть советский купец, а раньше был муллой, – гордо ответил Нуржан. – Он у нас ученый, в Казани в медресе учился, в Мекку ездил. Удостоился чести поцеловать черный камень пророка. Ты будь с ним почтительной, ты свои комсомольские замашки брось!
Жаукен не ответила, глядя на мужа широко раскрытыми глазами.
На дворе, на коврах, перед большими белыми скатертями, расстеленными по траве, сидело не меньше ста гостей. Мулдагалим Байжанов, уважаемый заведующий сельпо, вышел к гостям в огромной белоснежной чалме: потому белой, что это цвет муллы, ишана и прочих ученых и благородных людей, и потому огромной, что величина чалмы находится в зависимости от заслуг перед исламом головы, носящей ее. А взглянув на вышедшего Нуржана, Жаукен не узнала мужа. Он сбросил пиджак, брюки дудочками и остроносые ботинки «джимми», а надел бархатный пунцовый халат, перевязанный ниже талии дорогим шелковым платком, обулся в узкие лаковые сапожки на высоких тоненьких каблучках, отчего походка его стала омерзительной – танцующей и вихляющейся. На голове его была роскошная, шитая золотом узбекская тюбетейка. От прежнего Нуржана остались только большие роговые очки.
После большого полуденного намаза начался той. И когда перед гостями поставили пиалы с шипящим майским кумысом, Мулдагалим сказал насмешливо сыну:
– Расскажи, сынок, мусульманам, как учили тебя твои профессора. Научили они тебя чему-нибудь хорошему? При рождении твоем на шею тебе повесили стихи пророка, и лучше бы тебе учиться не у профессоров, а у шейхов, и быть тебе не студентом, а муллавичи[34]34
Ученик медресе.
[Закрыть].
Гости дружным гулом голосов одобрили слова уважаемого заведующего сельпо. А тот продолжал:
– В Бухаре, в бухарских медресе, вот где наука! В Бухаре святость! Наш пророк – да будет он благословен вовек – в ночь своего восхождения на небо, увидев с высоты Бухару, сказал: «Бухара – моя вотчина!» В Бухаре законы Аллаха пребывают незыблемо. В Бухару дороги для ереси и безбожья заказаны.
– В Бухару скоро проведут водопровод, – громко сказала Жаукен. – А святая Бухара пила гнилую, заразную воду.
– Иншалла! Если захочет этого аллах, – ответил, поглаживая бороду, заведующий сельпо, даже не посмотрев на сноху. Она сидела рядом с мужем, а ее место – за спиной мужчин, где женщины, дети и собаки ловят недоглоданные кости, бросаемые мужчинами через плечо. И, снова, поглаживая бороду сальными руками, заведующий сельпо сказал:
– Да будет вовеки благословен закон Магомета, священный шариат – совесть народа.
– Шариат шестьсот лет был в степях, а накормил он бедняков? – дерзко откликнулась Жаукен.
Старый Мулдагалим промолчал с застывшей на сытом лице обидой. И Нуржан был невесел и зол, хотя острый хмель водки, выпитой вопреки шариату, бурлил в его теле. Ох, эта Жаукен!..
Когда выпиты были два ящика водки и съедены два котла вареной баранины, русский бухгалтер сельпо – несмотря на жару, в лисьем малахае и уже вдребезги пьяный – забормотал слюняво:
– У большевиков все хорошо, все хвалю, кроме запрета держать табуны лошадей и устраивать конские ярмарки.
Бухгалтер был когда-то первогильдейским купцом, крупным торговцем лошадьми. Сыто рыгнув, он добавил:
– И кроме запрета устраивать кокпары. Какой же праздник без козлодранки?
– Кокпары сегодня будет! – коротко и твердо ответил старый Байжанов.
Когда бишбармак из всех котлов был вчистую съеден, все сабы[35]35
Кожаный мешок из шкуры, целиком снятой с лошади.
[Закрыть] с кумысом опорожнены, а водка выпита до последней бутылки, гости отправились на кокпары. Пошла на кокпары и Жаукен, пошла рядом с мужем, на ходу выговаривая ему:
– У вас в Жаман-Жоле нет Советской власти? Кокпары запрещено, ты это знаешь, и ты советский педагог!
А Нуржан закричал вдруг визгливо:
– Сзади иди! За женщиной пыль глотать буду? Чему тебя мать учила?
Жаукен остановилась, посмотрела молча на мужа и свернула в сторону. Она подошла к маленькому холму, на котором сидели в одиночестве аульные комсомольцы. Их было всего пятеро, шестого – экспедитора Кагена – на холме почему-то не было. А место Нуржана было на белой кошме, среди торжественных бород аксакалов, судей кокпары. Нуржан сел рядом с отцом и пьяным бухгалтером, почетным гостем.
– Какой приз победителю будет? – спросил он.
Бухгалтер оживился:
– Самый лучший приз! Четверть, водки, доска кирпичного чаю и будильник. Шикарно?
– Уй-бай, разве это приз? – скорбно покачал головой старший Байжанов. – Вот прежде были призы: девять коней, девять коров, девять овец и юрта из белой кошмы. Вот это приз! Целое богатство!
– Не пора ли начинать? – осоловело пробубнил бухгалтер. – Жарко становится.
– Уже начали, – ответил Нуржан.
Зрители, сотен пять, не меньше, разместились на холмах, обступивших круглую ровную долину. И в долине этой появился одинокий всадник, древний седой старик. Он выехал на середину и замер в суровом, торжественном ожидании. Тогда из-за холмов показались всадники, много всадников, может быть, целая сотня. Полы их рубах и халатов были заткнуты в шаровары, а на головах, их толстые, на вате, тмаки, потому что они будут в схватке бить друг друга по голове камчой. Их кони шли медленным, танцующим шагом цирковых лошадей. Это стойкие и храбрые кони, чьи предки были любовно и разумно отобраны, поэтому мясо их жестко, жила туга, а сердце – как брус литого металла. Зрители встретили лихих жигитов воплями радости и нетерпения, гадая о возможном победителе.
А Нуржан не радовался. Его мучила не остывшая еще злость на жену, а также изжога от нелуженых котлов, из которых он поел бишбармаку. Он равнодушно, ввинтил в уголок губ папиросу и, поблескивая ледянисто стеклами очков, сказал:
– Футбол – это спорт, да! Бокс – тоже спорт. А камчами друг друга бить, конями друг друга топтать – какой это спорт, э? А-азья!
– Живая смерть, чего и толковать! – весело согласился бухгалтер.
А старый Байжанов разочарованно вздохнул, ибо он терял всякую надежду. Он привел на кокпары жеребца огненно-рыжей масти. Жеребец стоял под седлом и в уздечке, выложенной бирюзой, у подножья холма. Огненно-рыжий жеребец не годен ни для какой работы. Из него сделали зверя, его долго держали в темноте, и он сейчас как бешеный, он в ярости от света, от криков, от ржанья лошадей в долине. Это настоящий Тулпар. Но, взглянув, на сына, на его бледные, без загара руки, на его нежно-сметанное лицо, на его очки, старший Байжанов вздохнул: «Нет, не поскачет!..»



