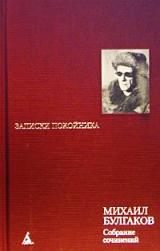
Текст книги "Том 1. Записки покойника"
Автор книги: Михаил Булгаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
Таинственные чудотворцы
Удивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, и недавно все это было, а между тем восстановить события стройно и последовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи! Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочее раскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик в памяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, стало быть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут, конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надо полагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ее улицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще с полгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятна с одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведь удивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудный результат – пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничто так не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портит нервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь – пятно на прежнем месте и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитого чаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, но ничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, так уж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будет сброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равно – но другим пожелаю, чтобы их было как можно меньше.
Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, все лопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в «Вестник», страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и Бог знает что. Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало. Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого я похищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардов заболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка я ходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре. И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с «Черным снегом» дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно, потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почках и говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-то невесело.
Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал о театре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его не спросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта, конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретить справляться о театре. И это я себе запретил.
А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать. Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился. Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, в полутьме, роясь в пыльных журналах, и, помнится, видел чудесную картинку…
Триумфальная арка…
Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданно ударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна и дыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, я понял, что писать пьесы и не играть их – невозможно.
Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же (кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке, довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизу притон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно мысленно называл – «третьим действием». Именно сизый дым, женщина с асимметричным лицом, какой-то фрачник, отравленный дымом, и подкрадывающийся к нему с финским отточенным ножом человек с лимонным лицом и раскосыми глазами. Удар ножом * , поток крови. Бред, как видите! Чепуха! И куда отнести пьесу, в которой подобное третье действие?
Да я и не записывал придуманное. Возникает вопрос, конечно, и прежде всего он возникает у меня самого – почему человек, закопавший самого себя в мансарде, потерпевший крупную неудачу, да еще и меланхолик (это-то я понимаю, не беспокойтесь), не сделал вторичной попытки лишить себя жизни?
Признаюсь прямо: первый опыт вызвал какое-то отвращение к этому насильственному акту. Это если говорить обо мне. Но истинная причина, конечно, не в этом. Всему приходит час. Впрочем, не будем распространяться на эту тему.
Что касается внешнего мира, то все-таки вовсе отрезаться от него невозможно, и давал он себя знать потому, что в тот период времени, когда я получал от Гавриила Степановича то пятьдесят, то сто рублей, я подписался на три театральных журнала и на «Вечернюю Москву».
И приходили номера этих журналов более или менее аккуратно. Просматривая отдел «Театральные новости», я нет-нет да и натыкался на известия о моих знакомых.
Так, пятнадцатого декабря прочитал:
«Известный писатель Измаил Александрович Бондаревский заканчивает пьесу „Монмартрские ножи“, из жизни эмиграции. Пьеса, по слухам, будет предоставлена автором Старому Театру * ».
Семнадцатого я развернул газету и наткнулся на следующее известие:
«Известный писатель Е. Агапёнов усиленно работает над комедией „Деверь“ по заказу Театра Дружной Когорты * ».
Двадцать второго было напечатано:
«Драматург Клинкер * в беседе с нашим сотрудником поделился сообщением о пьесе, которую он намерен предоставить Независимому Театру. Альберт Альбертович сообщил, что пьеса его представляет собою широко развернутое полотно гражданской войны под Касимовым. Пьеса называется условно „Приступ“».
А дальше как бы град пошел: и двадцать первого, и двадцать четвертого, и двадцать шестого. Газета – и в ней на третьей полосе мутноватое изображение молодого человека, с необыкновенно лунной головой и как бы бодающего кого-то, и сообщение, что это Прок И. С * . Драма. Кончает третий акт.
Жвенко Онисим. Анбакомов. Четыре, пять актов.
Второго января я обиделся.
Было напечатано:
«Консультант М. Панин созвал совещание в Независимом Театре группы драматургов. Тема – сочинение современной пьесы для Независимого Театра».
Заметка была озаглавлена «Пора, давно пора!», и в ней выражалось сожаление и укоризна Независимому Театру в том, что он единственный из всех театров до сих пор еще не поставил ни одной современной пьесы, отображающей нашу эпоху. «А между тем, – писала газета, – именно он, и преимущественно он, Независимый Театр, как никакой другой, в состоянии достойным образом раскрыть пьесу современного драматурга, ежели за это раскрытие возьмутся такие мастера, как Иван Васильевич и Аристарх Платонович».
Далее следовали справедливые укоры и по адресу драматургов, не удосужившихся до сих пор создать произведение, достойное Независимого Театра.
Я приобрел привычку разговаривать с самим собой.
– Позвольте, – обиженно надувая губы, бормотал я, – как это никто не написал пьесу? А мост? А гармоника? Кровь на затоптанном снегу?
Вьюга посвистывала за окном, мне казалось, что во вьюге за окном все тот же проклятый мост, что гармоника поет и слышны сухие выстрелы.
Чай остывал в стакане, со страницы газеты глядело на меня лицо с бакенбардами. Ниже была напечатана телеграмма, присланная Аристархом Платоновичем совещанию:
«Телом в Калькутте, душою с вами» * .
– Ишь какая жизнь кипит там, гудит, как в плотине, – шептал я, зевая, – а я как будто погребен.
Ночь уплывает, уплывает и завтрашний день, уплывут они все, сколько их будет отпущено, и ничего не останется, кроме неудачи.
Хромая, гладя больное колено, я тащился к дивану, начинал снимать пиджак, ежился от холода, заводил часы.
Так прошло много ночей, их я помню, но как-то все скопом, – было холодно спать. Дни же как будто вымыло из памяти – ничего не помню.
Так тянулось до конца января, и вот тут отчетливо я помню сон, приснившийся в ночь с двадцатого на двадцать первое.
Громадный зал во дворце, и я будто бы иду по залу. В подсвечниках дымно горят свечи, тяжелые, жирные, золотистые. Одет я странно, ноги обтянуты трико, словом, я не в нашем веке, а в пятнадцатом. Иду я по залу, а на поясе у меня кинжал. Вся прелесть сна заключалась не в том, что я явный правитель, а именно в этом кинжале, которого явно боялись придворные, стоящие у дверей. Вино не может опьянить так, как этот кинжал, и, улыбаясь, нет, смеясь во сне, я бесшумно шел к дверям.
Сон был прелестен до такой степени, что, проснувшись, я еще смеялся некоторое время.
И тут стукнули в дверь, и я подошел в одеяле, шаркая разорванными туфлями, и рука соседки просунулась в щель и подала мне конверт. Золотые буквы «Н. Т.» сверкали на нем.
Я разорвал его, вот он и сейчас, распоротый косо, лежит передо мною (и я увезу его с собой!). В конверте был лист опять-таки с золотыми готическими буквами, и крупным, жирным почерком Фомы Стрижа было написано:
«Дорогой Сергей Леонтьевич!
Немедленно в Театр! Завтра начинаю репетировать „Черный снег“ в 12 часов дня.
Ваш Ф. Стриж».
Я сел, криво улыбаясь, на диван, дико глядя в листок и думая о кинжале, потом почему-то о Людмиле Сильвестровне, глядя на голые колени.
В дверь тем временем стучали властно и весело.
– Да, – сказал я.
Тут в комнату вошел Бомбардов. Бледный с желтизной, показавшийся выше ростом после болезни, и голосом, от нее же изменившимся, он сказал:
– Знаете уже? Я нарочно заехал к вам.
И, встав перед ним во всей наготе и нищете, волоча по полу старое одеяло, я поцеловал его, уронив листок.
– Как же это могло случиться? – спросил я, наклоняясь к полу.
– Этого даже я не пойму, – ответил мне дорогой мой гость, – никто не поймет и даже никогда не узнает. Думаю, что это сделали Панин со Стрижом. Но как они это сделали – неизвестно, ибо это выше человеческих сил. Короче: это чудо.
Конец I-й части
Часть втораяСерой тонкой змеей, протянутый через весь партер, уходящий неизвестно куда, лежал на полу партера электрический провод в чехле. От него питалась малюсенькая лампочка на столике, стоящем в среднем проходе партера. Лампочка давала ровно столько света, чтобы осветить лист бумаги на столе и чернильницу. На листе была нарисована курносая рожа, рядом с рожей лежала еще свежая апельсинная корка и стояла пепельница, полная окурков. Графин с водой отблескивал тускло, он был вне светящегося круга.
Партер настолько был погружен в полумрак, что люди со свету, входя в него, начинали идти ощупью, берясь за спинки кресел, пока не привыкал глаз.
Сцена была открыта и слабо освещена сверху из выносного софита. На сцене стояла какая-то стенка, задом повернутая на публику, причем на ней было написано: «Волки и овцы – 2». Стояло кресло, письменный стол, два табурета. В кресле сидел рабочий в косоворотке и пиджаке, а на одном из табуретов – молодой человек в пиджаке и брюках, но опоясанный ремнем, на котором висела шашка с георгиевским темляком.
В зале было душно, на улице уже давно был полный май.
Это был антракт на репетиции – актеры ушли в буфет завтракать. Я же остался. События последних месяцев дали себя знать, я чувствовал себя как бы избитым, все время хотелось присесть и посидеть долго и неподвижно. Такое состояние, впрочем, нередко перемежалось вспышками нервной энергии, когда хотелось двигаться, объяснять, говорить и спорить. И вот теперь я сидел в первом состоянии. Под колпачком лампочки густо слоился дым, его всасывало в колпачок, и потом он уходил куда-то ввысь.
Мысли мои вертелись только вокруг одного – вокруг моей пьесы. С того самого дня, как прислано было Фомою Стрижом мне решающее письмо, жизнь моя изменилась до неузнаваемости. Как будто наново родился человек, как будто и комната у него стала другая, хотя это была все та же комната, как будто и люди, окружающие его, стали иными, и в городе Москве он, этот человек, вдруг получил право на существование, приобрел смысл и даже значение.
Но мысли были прикованы только к одному, к пьесе, она заполняла все время – даже сны, потому что снилась уже исполненной в каких-то небывающих декорациях, снилась снятой с репертуара, снилась провалившейся или имеющей огромный успех. Во втором из этих случаев, помнится, ее играли на наклонных лесах, на которых актеры рассыпались, как штукатуры, и играли с фонарями в руках, поминутно запевая песни. Автор почему-то находился тут же, расхаживая по утлым перекладинам так же свободно, как муха по стене, а внизу были липы и яблони, ибо пьеса шла в саду, наполненном возбужденной публикой.
В первом наичаще снился вариант – автор, идя на генеральную, забыл надеть брюки. Первые шаги по улице он делал смущенно, в какой-то надежде, что удастся проскочить незамеченным, и даже приготовлял оправдание для прохожих – что-то насчет ванны, которую он только что брал, и что брюки, мол, за кулисами. Но чем дальше, тем хуже становилось, и бедный автор прилипал к тротуару, искал разносчика газет, его не было, хотел купить пальто, не было денег, скрывался в подъезд и понимал, что на генеральную опоздал…
– Ваня! – слабо доносилось со сцены. – Дай желтый!
В крайней ложе яруса, находящейся у самого портала сцены, что-то загоралось, из ложи косо падал луч раструбом, на полу сцены загоралось желтое круглое пятно, ползло, подхватывая в себя то кресло с потертой обивкой, со сбитой позолотой на ручках, то взъерошенного бутафора с деревянным канделябром в руке.
Чем ближе к концу шел антракт, тем больше шевелилась сцена. Высоко поднятые, висящие бесчисленными рядами полотнища под небом сцены вдруг оживали. Одно из них уходило вверх и сразу обнажало ряд тысячесвечовых ламп, режущих глаза. Другое почему-то, наоборот, шло вниз, но, не дойдя до полу, уходило. В кулисах появлялись темные тени, желтый луч уходил, всасывался в ложу. Где-то стучали молотками. Появлялся человек в брюках гражданских, но в шпорах и, звеня ими, проходил по сцене. Потом кто-то, наклонившись к полу сцены, кричал в пол, приложив руку ко рту щитком:
– Гнобин! Давай!
Тогда почти бесшумно все на сцене начинало уезжать вбок. Вот повлекло бутафора, он уехал со своим канделябром, проплыло кресло и стол. Кто-то вбежал на тронувшийся круг против движения, заплясал, выравниваясь, и, выравнявшись, уехал. Гудение усилилось, и показались, становясь на место ушедшей обстановки, странные, сложные деревянные сооружения, состоящие из некрашеных крутых лестниц, перекладин, настилов. «Едет мост», – думал я и всегда почему-то испытывал волнение, когда он становился на место.
– Гнобин! Стоп! – кричали на сцене. – Гнобин, дай назад!
Мост становился. Затем, брызнув сверху из-под колосников светом в утомленные глаза, обнажались пузатые лампы, скрывались опять, и грубо измазанное полотнище спускалось сверху, становилось по косой. «Сторожка…» – думал я, путаясь в геометрии сцены, нервничая, стараясь прикинуть, как все это будет выглядеть, когда вместо выгородки, сделанной из первых попавшихся сборных вещей из других пьес, соорудят наконец настоящий мост. В кулисах вспыхивали лупоглазые прожекторы в козырьках, снизу сцену залило теплой живой волной света. «Рампу дал…»
Я щурился во тьму на ту фигуру, которая решительным шагом приближалась к режиссерскому столу.
«Романус идет * , значит, сейчас произойдет что-то…» – думал я, заслоняясь рукой от лампы.
И действительно, через несколько мгновений надо мною показывалась раздвоенная бородка, в полутьме сверкали возбужденные глаза дирижера Романуса. В петлице у Романуса поблескивал юбилейный значок с буквами «Н. Т.».
– Сэ нон э веро, э бен тровато [21]21
Если это и неправда, то хорошо найдено (ит.).
[Закрыть], а может быть, еще сильней! – начинал, как обычно, Романус, глаза его вертелись, горя, как у волка в степи. Романус искал жертвы и, не найдя ее, садился рядом со мною.
– Как вам это нравится? А? – прищуриваясь, спрашивал меня Романус.
«Втянет, ой, втянет он меня сейчас в разговор…» – думал я, корчась у лампы.
– Нет, вы, будьте добры, скажите ваше мнение, – буравя меня глазом, говорил Романус, – оно тем более интересно, что вы писатель и не можете относиться равнодушно к безобразиям, которые у нас происходят?
«Ведь как ловко он это делает…» – тоскуя до того, что чесалось тело, думал я.
– Ударить концертмейстера и тем более женщину тромбоном в спину? – азартно спрашивал Романус. – Нет-с. Это дудки! Я тридцать пять лет на сцене и такого случая еще не видел. Стриж думает, что музыканты свиньи и их можно загонять в закуту? Интересно, как это с писательской точки зрения?
Отмалчиваться больше не удавалось.
– А что такое?
Романус только и ждал этого. Звучным голосом, стараясь, чтобы слышали рабочие, с любопытством скопляющиеся у рампы, Романус говорил, что Стриж затолкал музыкантов в карман сцены, где играть нет никакой возможности по следующим причинам: первое – тесно, второе – темно, а в-третьих, в зале не слышно ни одного звука, в-четвертых, ему стоять негде, музыканты его не видят.
– Правда, есть люди, – зычно сообщал Романус, – которые смыслят в музыке не больше, чем некоторые животные…
«Чтоб тебя черт взял!» – думал я.
– …в некоторых фруктах!
Усилия Романуса увенчивались успехом – из электротехнической будки слышалось хихиканье, из будки вылезала голова.
– Правда, таким лицам нужно не режиссурой заниматься, а торговать квасом у Ново-Девичьего кладбища!.. – заливался Романус.
Хихиканье повторялось.
Далее выяснялось, что безобразия, допущенные Стрижом, дали свои результаты. Тромбонист ткнул в темноте тромбоном концертмейстера Анну Ануфриевну Деньжину * в спину так, что…
– Рентген покажет, чем это кончится!
Романус добавлял, что ребра можно ломать не в театре, в пивной, где, впрочем, некоторые получают свое артистическое образование.
Ликующее лицо монтера красовалось над прорезом будки, рот его раздирало смехом.
Но Романус утверждает, что это так не кончится. Он научил Анну Ануфриевну, что делать. Мы, слава Богу, живем в советском государстве, напоминал Романус, ребра членам профсоюзов ломать не приходится. Он научил Анну Ануфриевну подать заявление в местком.
– Правда, по вашим глазам я вижу, – продолжал Романус, впиваясь в меня и стараясь уловить меня в круге света, – что у вас нет полной уверенности в том, что наш знаменитый председатель месткома так же хорошо разбирается в музыке, как Римский-Корсаков или Шуберт.
«Вот тип!» – думал я.
– Позвольте!.. – стараясь сурово говорить, говорил я.
– Нет уж, будем откровенны! – восклицал Романус, пожимая мне руку. – Вы писатель! И прекрасно понимаете, что навряд ли Митя Малокрошечный, будь он хоть двадцать раз председателем, отличит гобой от виолончели или фугу Баха от фокстрота «Аллилуйя».
Тут Романус выражал радость, что хорошо еще, что ближайший друг…
– …и собутыльник!..
К теноровому хихиканью в электрической будке присоединялся хриплый басок. Над будкой ликовало уже две головы.
…Антон Калошин помогает разбираться Малокрошечному в вопросах искусства * . Это, впрочем, и не мудрено, ибо до работы в театре Антон служил в пожарной команде, где играл на трубе. А не будь Антона, Романус ручается, что кой-кто из режиссеров спутал бы, и очень просто, увертюру к «Руслану» с самым обыкновенным «Со святыми упокой»!
«Этот человек опасен, – думал я, глядя на Романуса, – опасен по-серьезному. Средств борьбы с ним нет!»
Кабы не Калошин, конечно, у нас могли бы заставить играть музыканта, подвесив его кверху ногами к выносному софиту, благо Иван Васильевич не появляется в театре, но тем не менее придется театру заплатить Анне Ануфриевне за искрошенные ребра. Да и в союз Романус ей посоветовал наведаться, узнать, как там смотрят на такие вещи, про которые действительно можно сказать:
– Сэ нон э веро, э бен тровато, а может быть, еще сильнее!
Мягкие шаги послышались сзади, приближалось избавление.
У стола стоял Андрей Андреевич * . Андрей Андреевич был первым помощником [режиссера] в театре, и он вел пьесу «Черный снег».
Андрей Андреевич, полный, плотный блондин лет сорока, с живыми многоопытными глазами, знал свое дело хорошо. А дело это было трудное.
Андрей Андреевич, одетый по случаю мая не в обычный темный костюм и желтые ботинки, а в синюю сатиновую рубашку и брезентовые желтоватые туфли, подошел к столу, имея под мышкою неизменную папку.
Глаз Романуса запылал сильнее, и Андрей Андреевич не успел еще пристроить папку под лампой, как вскипел скандал.
Начался он с фразы Романуса:
– Я категорически протестую против насилия над музыкантами и прошу занести в протокол то, что происходит!
– Какие насилия? – спросил Андрей Андреевич служебным голосом и чуть шевельнул бровью.
– Если у нас ставятся пьесы, больше похожие на оперу… – начал было Романус, но спохватился, что автор сидит тут же, и продолжал, исказив свое лицо улыбкой в мою сторону, – что и правильно! Ибо наш автор понимает все значение музыки в драме!.. То… я прошу отвести оркестру место, где он мог бы играть!
– Ему отведено место в кармане, – сказал Андрей Андреевич, делая вид, что открывает папку по срочному делу.
– В кармане? А может быть, лучше в суфлерской будке? Или в бутафорской?
– Вы сказали, что в трюме нельзя играть.
– В трюме? – взвизгнул Романус. – И повторяю, что нельзя. И в чайном буфете нельзя, к вашему сведению.
– К вашему сведению, я и сам знаю, что в чайном буфете нельзя, – сказал Андрей Андреевич, и у него шевельнулась другая бровь.
– Вы знаете, – ответил Романус и, убедившись, что Стрижа еще нет в партере, продолжал: – Ибо вы старый работник и понимаете в искусстве, чего нельзя сказать про кой-кого из режиссеров…
– Тем не менее обращайтесь к режиссеру. Он проверял звучание…
– Чтобы проверить звучание, нужно иметь кой-какой аппарат, при помощи которого можно проверить, например, уши! Но если кому-нибудь в детстве…
– Я отказываюсь продолжать разговор в таком тоне, – сказал Андрей Андреевич и закрыл папку.
– Какой тон?! Какой тон? – изумился Романус. – Я обращаюсь к писателю, пусть он подтвердит свое возмущение по поводу того, как калечат у нас музыкантов!!
– Позвольте… – начал я, видя изумленный взгляд Андрея Андреевича.
– Нет, виноват! – закричал Романус Андрею Андреевичу. – Если помощник, который обязан знать сцену как свои пять пальцев…
– Прошу не учить меня, как знать сцену, – сказал Андрей Андреевич и оборвал шнурок на папке.
– Приходится! Приходится, – ядовито скалясь, прохрипел Романус.
– Я занесу в протокол то, что вы говорите! – сказал Андрей Андреевич.
– И я буду рад, что вы занесете!
– Прошу оставить меня в покое! Вы дезорганизуете работников на репетиции!
– Прошу и эти слова занести! – фальцетом вскричал Романус.
– Прошу не кричать!
– И я прошу не кричать!
– Прошу не кричать! – отозвался, сверкая глазами, Андрей Андреевич и вдруг бешено закричал: – Верховые! Что вы там делаете?! – и бросился через лесенку на сцену.
По проходу уже спешил Стриж, а за ним темными силуэтами показались актеры.
Начало скандала со Стрижом я помню.
Романус поспешил к нему навстречу, подхватил под руку и заговорил:
– Фома! Я знаю, что ты ценишь музыку и это не твоя вина, но я прошу и требую, чтобы помощник не смел издеваться над музыкантами!
– Верховые! – кричал на сцене Андрей Андреевич. – Где Бобылев?!
– Бобылев обедает, – глухо с неба донесся голос…
Актеры кольцом окружили Романуса и Стрижа. Было жарко, был май. Сотни раз уже эти люди, лица которых казались загадочными в полутьме над абажуром, мазались краской, перевоплощались, волновались, истощались… Они устали за сезон, нервничали, капризничали, дразнили друг друга. Романус доставил огромное и приятное развлечение.
Рослый голубоглазый Скавронский потирал радостно руки и бормотал:
– Так, так, так… Давай! Истинный Бог! Ты ему все выскажи, Оскар!
Все это дало свои результаты.
– Попрошу на меня не кричать! – вдруг рявкнул Стриж и треснул пьесой по столу.
– Это ты кричишь!! – визгнул Романус.
– Правильно! Истинный Бог! – веселился Скавронский, подбадривая то Романуса: – Правильно, Оскар! Нам ребра дороже этих спектаклей! – то Стрижа: – А актеры хуже, что ли, музыкантов? Ты, Фома, обрати свое внимание на этот факт!
– Квасу бы сейчас, – зевая, сказал Елагин, – а не репетировать… И когда эта склока кончится?
Склока продолжалась еще некоторое время, крики неслись из круга, замыкавшего лампу, и дым поднимался вверх.
Но меня уже не интересовала склока. Вытирая потный лоб, я стоял у рампы, смотрел, как художница из макетной – Аврора Госье * ходила по краю круга с измерительной рейкой, прикладывала ее к полу. Лицо Госье было спокойное, чуть печальное, губы сжаты. Светлые волосы Госье то загорались, точно их подожгли, когда она наклонялась к берегу рампы, то потухали и становились как пепел. И я размышлял о том, что все, что сейчас происходит, что тянется так мучительно, все получит свое завершение…
Склока меж тем кончилась.
– Давайте, ребятушки! Давайте! – кричал Стриж. – Время теряем!
Патрикеев, Владычинский * , Скавронский уже ходили по сцене меж бутафорами. На сцену же проследовал и Романус. Его появление не прошло бесследно. Он подошел к Владычинскому и озабоченно спросил у того, не находит ли Владычинский, что Патрикеев очень уж злоупотребляет буффонными приемами, вследствие чего публика засмеется как раз в тот момент, когда у Владычинского важнейшая фраза: «А мне куда прикажете деваться? Я одинок, я болен…»
Владычинский побледнел как смерть, и через минуту и актеры, и рабочие, и бутафоры строем стояли у рампы, слушая, как переругиваются давние враги Владычинский с Патрикеевым. Владычинский, атлетически сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный от злобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал бы страшно, не глядя на Патрикеева, говорил:
– Я займусь вообще этим вопросом! Давно пора обратить внимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят марку театра!
Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей на сцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный, старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчего глаза у него выражали печаль, а лицо физическую боль, сиплым голоском отвечал:
– Попрошу не забываться! Я актер Независимого Театра, а не кинохалтурщик, как вы!
Романус стоял в кулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывал голос Стрижа, кричавшего из кресел:
– Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайте тревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный план срываете!
Андрей Андреевич привычной рукой жал кнопки на щите на посту помощника, и далеко где-то за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожно и пронзительно дребезжали звонки.
Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой * , в это время, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену он проник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался к посту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми на штатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует он здесь уже давным-давно.
– Где Строев? – завывал Стриж. – Звоните ему, звоните! Требую прекращения ссоры!
– Звоню! – отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся и увидел Строева. – Я вам тревожные даю! – сурово сказал Андрей Андреевич, и тотчас звон в театре утих.
– Мне? – отозвался Строев. – Зачем мне тревожные звонки? Я здесь десять минут, если не четверть часа… минимум… Мама… миа… – он прочистил горло кашлем.
Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, а только многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовал для того, чтобы прокричать:
– Прошу лишних со сцены! Начинаем!
Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам. Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как он мужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно уже пора одернуть.








