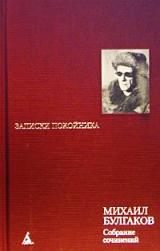
Текст книги "Том 1. Записки покойника"
Автор книги: Михаил Булгаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 41 страниц)
Нежным голосом он произнес:
– Дайте нарзану…
Буфетчик с равнодушно-наглыми глазами брякнул перед ним бутылку. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косо понесло по ковровой дорожке.
– Качает! – весело сказал чей-то тенор в коридоре.
Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула, как куль, на диван.
Мерно… вверх… подпирает грудобрюшную преграду… вниз…
«Черт меня дернул спрашивать бифштекс… * »
Кают-компания опустела. В коридоре, где грудой до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеющая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице:
– Ох… Говорила я, что нужно поездом в Симферополь…
«И на какого черта я брал билет второго класса, все равно на палубе придется сидеть». Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, т. е. палубы.
Там уже был полный разгар. Старуха армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались.
Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий, как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал:
– Ничего, ничего… Дань морю.
Волна шла (издали, из Феодосии, море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с хорошую футбольную площадку, порой с растрепанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под «Игната», и нос его лез… ле-ез… ох… вверх… вниз.
Садился вечер. Мимо плыл Карадаг. Сердитый и чернеющий в тумане, и где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай.
Пробовал смотреть в небо – плохо. На горы – еще хуже. О волне – нечего и говорить…
Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубу и стал засыпать… Горы еще мерещились в сизом дыму.
Ялта
Но до чего же она хороша!
Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, а три огня – в семь, но уже не огней, а драгоценных камней…
В кают-компании дают полный свет.
– Ялта.
Вон она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.
Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножки их. Начинается суета, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.
Конечно – Ялта!
Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта – город-курорт: на приезжих, т. е., я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.
По спящей, еще черной с ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец, – черт возьми!
Наверное, привел в самую дорогую гостиницу. Так и оказалось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все заняты». Есть в три рубля.
– А почему электричество не горит?
– Курорт-с!
– Ну ладно, все равно.
В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вздохнуть – ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха, чем в Ялте!
* * *
Наутро Ялта встала, умытая дождем. На набережной суета больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настежь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тюбетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все в тридорога, все «по-курортному» и на все спрос. Мимо блещущих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.
Морская часть
Хуже, чем купание в Ялте, ничего не может быть, т. е. я говорю о купании в самой Ялте, у набережной.
Представьте себе развороченную, крупнобулыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Но менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!) налеплены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.
Само собою разумеется, что при входе на пляж сколочена скворечница с кассовой дырой и в этой скворечнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.
Диалог в скворечной дыре после купания:
– Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно?..
– Хи-хи-хи.
– Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.
– Что же мы можем поделать!
– Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал.
В Ливадии
И вот в Ялте вечер. Иду все выше, выше по укатанным узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем, как игрушка с косым парусом, застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования.
Море теперь далеко, у ног внизу, совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко, – лежит туман.
Здесь, среди вылощенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый и низкий, шоколадно-штучный дворец Александра III, а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II.
Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова * . На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обоих дворцах их около 200 человек.
Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково – в белые шапочки, в белые куртки и штаны.
И в этот вечерний, вольный, тихий час сидят на мраморных скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря – парковое зеленое, гигантскими уступами – сколько хватит глаз – падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло.
В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом. Голова эта очень мрачно смотрит), вылощенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные.
* * *
Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный.
В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно.
Во всех кондитерских, во всех стеклянно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.
Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб.
«У Антона Павловича Чехова»
В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими уличками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием.
Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов» * .
Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень вежливая и приветливая. Это – Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.
Как странно здесь.
В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов, устала, и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, долго жила в ней.
В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном – он девяностых годов – живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда».
На другом – в сети морщин. Картина – печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.
– Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него, сидели многие: Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художественного театра актеры приезжали к нему репетировать.
В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисеей. Тут Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др.
Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись, – вещь никому не нужная.
С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись:
«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности… Кра…»
Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные: от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом, белоснежный диван, над диваном картина Левитана: зелень и речка – русская природа, густое масло. Грусть и тишина.
И сам Левитан рядом.
При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать.
– В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает: «Ну как вы находите, Антон Павлович?»
А тот был очень деликатный, совестился сказать, что ерунда. Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «Да ничего, хорошо… Работайте». Не то что Шаляпин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете!»
В спальне на столике порошок фенацетина – не успел его принять Чехов, – и его рукой написано «phenal!» – и слово оборвано.
Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф – мать подарила Чехову. Его в семье называли насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду».
На автомобиле до Севастополя
Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурсо. Я пожелал сэкономить два рубля и «сэкономил». Обратился в какую-то артель шоферов. У Крымкурсо место до Севастополя стоит 10 руб., а у этих 8.
Бойкая личность в конторе артели, личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину – я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все были с разных. Правое колесо было «мерседеса» (переднее), два задних были «пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой! Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер – какая-то рвань.
Все это громыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.
И протестовать поздно, и протестовать бесполезно.
Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать негде.
Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности.
Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек: 8 пассажиров с багажом и три шофера – двое действующих и третий – бойкое существо в синей блузе, кажется, «автор» этой первой по быстроходности машины, в полном смысле слова «интернациональной». И мы понеслись.
В Гаспре «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались.
Заключенный в трубу, бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали, как ящерицы на солнце. Зелени – океан; уступы, скалы…
Шина лопнула в Мисхоре.
Вторая в Алупке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы нэпманскими дамами.
Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красу Южного берега.
Севастополь, и Крыму конец
Под вечер, обожженные, пыльные, пьяные от воздуха, катили в беленький раскидистый Севастополь, и тут ощутили тоску: «Вот из Крыма нужно уезжать».
Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клок из пледа. Все-таки при этой дьявольской езде машина «лизнула» крылом одну из мажар * .
Лихие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усеянного звездами Севастополя, в теплый и ароматный вечер, с тоскою и сожалением уехали в Москву * .
Сентябрь 1929 г.
Записки покойника
Тайному другу *
Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцена * .
«Трагедия машет мантией мишурной» * .
I. ОткрыткаБесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы * , каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно – зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти.
II. Доисторические временаВидите ли: в Москве в доисторические времена (годы 1921–1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом.
Профессия у него была такая: он редактор был * чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922–1925!!) частный толстый журнал * ! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была железная неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартирке, он издавал.
Как увидите дальше, издание это привело как его, так и ряд других лиц, коих неумолимая судьба столкнула с этим журналом, к удивительным последствиям.
Раз человек не имеет денег, а между тем болезненная фантазия его пожирает, он должен куда-то бежать. Мой редактор и побежал к одному.
И с ним говорил.
И вышло так, что тот взял на себя издательство. Откуда-то появилась бумага, и книжки, вначале тонкие, а потом и толстые, стали выходить.
И тотчас же издатель прогорел. Но ведь как! Начисто, форменно. От человека осталась только дымящаяся дыра.
Вы спросите, к чему я все это рассказываю? Еще бы мне не рассказывать! Вы спрашиваете, как я сделался драматургом, вот я и рассказываю.
Да. Так вот, прогорел.
Прогорел настолько, что, когда моя судьба закинула меня именно в тот дом и квартиру, где приютился прогоревший, я видел его единственное средство (по его мнению) к спасению.
Средство это заключалось в следующем. На большом листе бумаги были акварелью нарисованы вожди революции 1917 года, окруженные венком из колосьев, серпов и молотов. Серпы были нарисованы фиолетовой краской, молоты черной, а колосья желтой. Вожди были какие-то темные, печальные и необыкновенно непохожие.
Все это нарисовал собственноручно прогоревший страдалец, за коим в это время числилось начету казенного 18 тысяч (Вы сами понимаете, что основное его дело был, конечно, не этот частный журнал), долгу казне 40 тысяч и частным лицам 13 тысяч.
Зачем?!
Оказалось, изволите ли видеть, что какое-нибудь издательство купит это произведение искусства, отпечатает его в бесчисленном множестве экземпляров, все учреждения раскупят его и развешают по стенам у себя.
Впоследствии я нигде не видел его. Из чего заключаю, что не купили.
Впрочем, и сам автор рисунка недолго просидел в комнате на Пречистенке. После того как в этой комнате остался только один диван, страдалец бежал. Куда? Мне неизвестно. Может быть, сейчас, когда Вы читаете эти строки, он в Саратове или Ростове-на-Дону, а может быть, и вернее всего, в Берлине. Но где бы он ни был, нет никакой возможности мне получить одну тысячу с чем-то рублей.
Итак: книжка журнала была в типографии, страдалец в Буэнос-Айресе, редактор…
Вы интересуетесь вопросом о том, где же брал мой редактор деньги до встречи со страдальцем?
Теперь этот вопрос выяснен, и догадался я сам (я вижу мысленно, как Вы смеетесь! Если бы Вы были возле меня, наверное, Вы сказали бы, что вряд ли я догадался. Ах, неужто, друг мой, я уж действительно безнадежно глуп? Вы умнее меня, с этим согласен я…). Ну, догадался я: он продал душу дьяволу. Сын погибели и снабжал его деньгами. Но в обрез, так что хватало только на бумагу и вообще типографские расходы, авторам же он платил так, что теперь, при воспоминании об этом, я смеюсь над собой.
Когда же дьяволовы деньги кончились и страдалец уехал в Ташкент, он нашел нового издателя. Этот не был дьяволом, не был страдальцем. Это был жулик.
Скажу Вам, мой нежный друг, за свою страшную жизнь я видел прохвостов. Меня обирали. Но такого негодяя, как этот, я не встречал. Нет сомнений, что, если бы такой теперь встретился на моем пути, я сумел бы уйти благополучно, потому что стал опытен и печален – знаю людей, страшусь за них, но тогда… Мой Бог, поймите, дорогая, это не было лицо, это был паспорт. И потом скажите, кому, кому, кроме интеллигентской размазни, придет в голову заключить договор с человеком, фамилия которого Рвацкий * ! Да не выдумал я! Рвацкий. Маленького роста, в вишневом галстухе, с фальшивой жемчужной булавкой, в полосатых брюках, ногти с черной каймой, а глаза…
Но редактор, ах, редактор.
Я прихожу к нему.
Он говорит:
– Ну, теперь, дружок, поезжайте в контору к Рвацкому и подписывайте с ним договор. Все наладилось! Ах, какая прелесть.
Я ответил:
– Послушайте, Рудольф Рафаилович. Я видел Рвацкого. Я его боюсь. Рудольф Рафаилович, у него фальшивая булавка в галстухе. Лучше я с вами заключу договор.
Он улыбнулся, он сильный человек, он Тореодор из Гренады.
Нарисовал кружок на бумаге и сказал:
– Ребенок! Вы неопытны в жизни, как всякий писатель. Видите кружок? Это вы.
На бумаге появился второй кружок:
– Это я – редактор.
– Тэк-с.
Третий кружок обозначал, оказывается, издателя Рвацкого.
– Теперь смотрите: я соединяю писателя и с редактором, и с издателем. Видите?
Получилась геометрическая фигура – равнобедренный треугольник.
– От издателя идет нить ко мне, и от него же идет нить к писателю. Мы с вами связаны только художественно: рукопись какую-нибудь прочитать, побеседовать о Гоголе… Денежных расчетов мы с вами никаких вести не будем и не можем вести. Я с вами могу говорить об Анатоле Франсе, а с Рвацким… нет, не могу, ибо он не понимает, что такое Анатоль Франс. Но с вами я не могу говорить о деньгах, и по двум причинам – во-первых, деньги не должны интересовать писателя, а, во-вторых, вы в них ничего не понимаете. Голубь, договоры заключаются с издателями, а не с редакторами, и, кроме того, Рвацкий уезжает в 2 1/2 часа дня в Наркомпрос, а сейчас без четверти два, так что поспешите, а не сидите у меня вялый и испуганный…
Вертелось у меня на языке:
– А почему же первый наш договор я подписал с вами * ?
Но, уже надевая свое потертое пальтишко в передней, я спросил все-таки глухо:
– Но вы видели его глаза? У него треугольные веки, а глаза стальные и смотрят в угол.
Ответил он:
– Следующего издателя я достану с такими глазами, как у вас, – хрустальными. Вы, однако, человек избалованный. Внимательно прочтите то, что будете подписывать, а также и векселя.
Не стану Вам, мой друг, описывать контору Семена Семеновича Рвацкого. Одно скажу, поразила меня вывеска: «Фотографические принадлежности». При чем здесь романы? Оглушительнее гораздо было то, что абсолютно ни одной фотопринадлежности в конторе не было. Лежали пять пакетов небольшого размера, и верхний был вскрыт, и я прочитал на коробочках надпись «Фенацетин». Фенацетин, мой друг, как Вам известно, конечно, не что иное, как пара-ацет-фенетидин, и примениться в фотографии может лишь в одном случае – это если у фотографа случится мигрень. Впрочем, я ведь фотографического дела не знаю, другое интересно: во втором углу лежали штук сто коробок килек. Так вот: Рвацкий, по словам редактора, в 2 1/2 часа должен был ехать в Наркомпрос. Кильки в Наркомпросе предлагать? Да? Или, наоборот, из Наркомпроса ему выдали кильки, и он хотел предъявить претензию, что они тухлые?
Масса народу толклось в конторе Рвацкого. Все были в шляпах и почему-то встревожены. Я слышал слова: «вексель», «Шапиро» и «проволока».
Принял меня Рвацкий как привидение. У меня создалось такое впечатление, что я его испугал. Твердо могу сказать, что ему мучительно не хотелось подписывать ни векселя, ни договор. Выходило из его слов такое: что и договор, и векселя это предрассудок и что неужели я думаю, что он не заплатит мне? Представьте себе, был момент, когда я дрогнул… Вижу, как Вы топаете ногой. Он хотел, чтобы я написал ему бумагу, что разрешаю ему печатать роман. Вы хохочете? Погодите. У меня хватило твердости. Я почувствовал, что я бледнею, и пошел к выходу. Тогда он меня вернул, мучительно пожимая плечами; при общих неодобрительных взглядах послал в лавочку за вексельной бумагой. Словом, я вышел из конторы через час, имея в кармане четыре векселя на четыре ничтожных суммы и договор * . Страшный стыд терзал меня за то, что я у Рвацкого взял векселя, я писатель, и у меня векселя в кармане!
Вы нетерпеливый, пылкий человек и, конечно, знаете, что было дальше: то есть он исчез через месяц, векселя оказались фальшивыми, он не Рвацкий вовсе, роман не вышел…
Нет, нет, ничего такого. Зачем такой примитив. Гораздо хуже вышло.
Врать не стану, по всем четырем векселям я получил, правда, не сполна, а меньше (до срока их выкупили у меня), роман вышел, но не полностью, а до половины! Рвацкий исчез, это так, но не через месяц, а в тот же день. И не в Наркомпрос он ехал, как я узнал потом случайно, а на поезд. И, понимаете, с тех пор я его не видал никогда (однако, надеюсь, что рано или поздно увижу, если буду жив)!
Но из-за того, что я в пыльный день сам залез зачем-то в контору к Рвацкому и, как лунатик, поставил свою подпись рядом с его, я:
1) принимал у себя на квартире три раза черт знает кого * ,
2) был в банке три раза,
3) был у нотариуса,
4) был еще где-то,
5) судился с редактором * в третейском суде. Причем пять взрослых мужчин, разбирая договоры: мой с редактором, редактора со страдальцем, мой с Рвацким и редактора с Рвацким, – пришли в исступление. Даже Соломон не мог бы сказать, кто владеет романом, почему роман не допечатан, какие кильки лежали в конторе, куда девался сам Рвацкий.
Однако сообразить удалось одно: что я на три года по кабальному договору отдал свой роман некоему Рвацкому, что сам Рвацкий неизвестно где, но у Рвацкого есть доверенные в Москве, и, стало быть, мой роман похоронен на 3 года, я продать его второй раз не имею права. Кончилось тем, что я расхохотался и плюнул.
Курьезная подробность: я своими глазами видел в телефонной книжке телефон Рвацкого С. С. Когда же состоялся суд, я, заглянув в ту же самую телефонную книгу, не нашел там Рвацкого.
Богом клянусь – говорю правду!
Этот номер меня потряс. Каким образом можно вытравить свою фамилию из всех телефонных книг в Москве?
Теперь забегаю вперед: прошло несколько лет, и, как Вы сами догадываетесь, Рвацкий отыскался за границей * . И там овладел моим романом и пьесой. Каким образом ему удалось провезти за границу роман, увесистый, как нагробная плита, мне непонятно.
Словом, мне стыдно. Такое разгильдяйство все-таки непростительно.
Но послушайте дальше. В один прекрасный день грянула весть, что редактор мой Рудольф арестован и высылается за границу * . И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не выслали, ибо человек канул так, как пятак в пруд. Мало ли кого куда не высылали или кто куда не ездил в те знаменитые годы 1921–1925! Но все же, бывало, улетит человек в Мексику, к примеру. Кажется, чего дальше. Ан нет, получишь вдруг фотографию – российская блинная физиономия под кактусом. Нашелся! А этот не в Мексику, нет, говорят, был выслан всего только в Берлин. И ни звука. Ни слуху ни духу.
Нету его в Берлине. Нет и не может быть.
И лишь потом дело выяснилось. Встречаю я как-то раз умнейшего человека. Рассказал ему все. А он и говорит, усмехаясь:
– А знаете что, ведь вашего Рудольфа нечистая сила утащила, и Рвацкого тоже.
Меня осенило: а ведь верно.
– И очень просто. Ведь сами вы говорили, что Рудольф продал душу Дьяволу?
– Так, да.
– Ну, натурально, срок-то ведь прошел, ну, является черт и говорит: пожалуйте…
– Ой, Господи! Где же они теперь?
Вместо ответа он показал пальцем в землю, и мне стало страшно.








