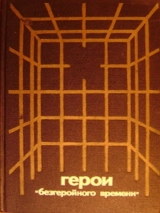
Текст книги "Герои «безгеройного времени»"
Автор книги: Майя Туровская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Но все-таки только сон, и тогда Перри выдумал «черномазого».
Романтическая и чувствительная душа метиса изживала свой комплекс неполноценности – социальной и личной – в утешительных фантазиях. Здесь была и жажда славы – он охотно воображал себя знаменитым певцом или артистом. И страстный эскапизм – он мечтал бежать из общества в детский мир приключений. И мечта о мести – он хвастал несуществующим убийством, совершенным «просто так», от нечего делать, «под настроение».
Жестокая ирония действительности в том, что из всех этих ребячливых мечтаний дано было осуществиться лишь одному: Перри стал убийцей.
Тут тоже есть своя «нормальность», ибо самоутверждение через жестокость, увы, столь же характерно для «преступлений века», как бунтарско-потребительская философия «стопроцентного мужчины»...
Так случилось, что в один прекрасный день два столь несхожих человека, как Дик и Перри, сели в машину и отправились за тридевять земель в незнакомый городишко к незнакомым людям, чтобы убить их и таким образом раздобыть весьма проблематичные десять тысяч долларов для весьма туманных надобностей. Поистине страшное сцепление общественных и личных закономерностей, рождающее столь противоестественные извращения человеческой психики!
Достоевский. Отступление второе
– Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжение всего хода преступления.
– Да-с, и настаиваете, что акт исполнения преступления сопровождается всегда болезнью. Очень, очень оригинально...
Собр. соч., т. V, стр. 268
Дик Хикок – изобретатель и инициатор операции – не тешил себя надеждой, что деньги они получат «на блюдечке с голубой каемочкой». A priori он подсчитал, что «укокошить» придется от четырех-пяти до десяти-двенадцати душ, включая случайных субботних гостей, буде те окажутся на ферме.
При этом, однако, главную роль «практический» убийца Дик отводил романтическому «прирожденному» убийце Перри.
Так оно и вышло на самом деле.
И хотя десяти тысяч на ферме не оказалось и в помине (впоследствии Перри вспоминал, как унизительно искал он закатившийся под стол серебряный доллар), но оба они с какой-то странной податливостью стали убийцами, приведя в исполнение смутное видение стен, «залепленных волосами»...
Кто знает, не есть ли убийство, даже обдуманное заранее и приведенное в исполнение «in cold blood» – в состоянии вменяемости, по авторитетному и несомненному заключению судебной экспертизы, – почти всегда, однако, патология?
Картина убийства Клаттеров, воспроизведенная писателем с подробной объективностью судебного протокола, тому свидетельство.
Противоестественно все. Какая-то фатальная обреченность жертв, даже не пытающихся сопротивляться.
Противоестественно то, как просыпается насильник в обыкновенном, в общем-то даже не злом парне: «...Дик и слушать меня не хотел. Он увлекся своей ролью. Орал на мистера Клаттера, приказывая ему сделать то одно, то другое», – вспоминал впоследствии Перри.
Противоестественна взаимная злоба и подначка, вдруг возникшие между компаньонами: «Меня затошнило, когда я подумал, что раньше восхищался им... я сказал:
– Что ж, Дик, начнем.
Сказал это несерьезно, просто хотелось разозлить его, уязвить, доказать всю его трусость и фальшь. Некоторое время мы словно испытывали друг друга. Кто кого?!»
Противоестественна жалость Перри к жертвам – особенно к девушке – и то, что именно он из какого-то дурацкого бахвальства начал эту оргию бессмысленных убийств. «Стыд. Отвращение... Я не понимал, что делаю, пока не услышал странный звук. Как будто кто-то тонул. Захлебывался под .водой. Я протянул нож Дику. Сказал ему:
– Кончи его. Это придаст тебе бодрости».
Противоестественная легкость, с какой два молодых человека поддались соблазну уже бескорыстного насилия, мало отличного от безумных действий сексуального маньяка.
В какую-то роковую минуту корыстный мотив утрачивает свою силу. Незначительные побочные мотивы, вроде соперничества, страха или ощущения своей минутной власти, запускают психический механизм, в котором практическая надобность уже не играет роли. Попытка ограбления превращается в простую расправу над безоружными.
Позже, когда Дик Хикок и Перри Смит будут ожидать казни в галерее смертников, писатель как бы попутно, почти что невзначай набросает портреты их соседей по этой «тюрьме в тюрьме». И тогда на третьем витке сюжета окажется, что вовсе бескорыстное преступление Чарльза Уитмена тоже в каком-то смысле «норма».
Лоуэлл Ли Эндрюз, «самый милый мальчик Уолкотта», «втайне воображал себя хладнокровнейшим преступником-профессионалом... Он хотел, чтобы в нем видели вовсе не очкастого книжного червя...». В один прекрасный день, вооружившись полуавтоматической винтовкой калибра 22 и револьвером марки «рюгер», он в доме собственного отца, зажиточного фермера, в темноте, при голубоватом свечении телеэкрана перестрелял всю семью. Сестру он убил наповал одним выстрелом, мать – пятью, в отца .выпустил в общей сложности семнадцать нуль. Никакой личной неприязни ни к кому из них он не питал.
«Рядовому Джорджу Рональду Норку было восемнадцать лет; его приятель Джеймс Дуглас Лэтам был на год старше... Хотя молодых людей приговорили к смерти за одно убийство, они хвастали, что во время своего краткого путешествия по стране отправили на тот свет семерых». Первый из них вырос в дружной семье, в зажиточном доме и был счастливчиком; другой, подобно Перри, пережил тяжелое детство. Когда их спросили, зачем они это сделали, «Йорк с самодовольной улыбкой ответил:
– Мы ненавидим весь мир».
Никаких практических целей они не преследовали...
Так, начав с мнимой безмотивности убийства Клаттеров и исследовав все его мотивы – прямые и косвенные, социальные, личные, сознательные и бессознательные, – писатель, снова ставит нас лицом к лицу с ошеломляющей безмотивностью. Убийство перестает быть средством достижения цели, актом мести, гнева или несчастной случайностью. Оно перестает быть разумно детерминированной категорией, как бывает даже в самом плохом криминальном романе. Казалось, введенное беспристрастным и дотошным исследованием в строгую логику причинности, оно снова ускользает в область смутных догадок и иррациональных психических сдвигов...
Второе отступление в кино
Фильм начинается с хроники. Кажется, мы уже не раз видели эти трагические кадры: бомбежки, матери с перепуганными малышами на руках, мечущиеся в слепом ужасе толпы, расстрелы, обучение новобранцев, которым суждено стать не солдатами, а карателями.
Китай, Вьетнам, Африка...
Грубые кованые башмаки коммандос гуляют по спинам связанных пленников, с хряском выбивают зубы, с тупым звуком ударяют в живот.
Такое редко найдешь даже в нацистской хронике. Пытки снимать не полагалось – они должны были остаться за кулисами истории. Фотографии погромов и казней по большей части принадлежат добровольцам-«фотолюбителям», а ужасы лагерей смерти запечатлены на пленку задним числом как грозные улики обвинения.
Здесь пытки и казни отсняты добросовестно и подробно, наездами камеры, с чередованием общих и крупных планов, панорамой (говорят, хроника частично инсценирована, но это не меняет дела).
Безумные, белые от ужаса глаза, пепельные лица, разбитые, кровоточащие. И мухи...
Черно-белый ужас хроники сменяется элегантной простотой загородного отеля. Красная машина модной марки, очаровательная девушка, немолодой, усталый мужчина: «Комнату на две ночи...»
Все объясняется очень просто: герой фильма, знаменитый журналист и телеобозреватель Робер, монтирует хронику. Робер из тех, кто вместе с оператором лезет о самое пекло, пробирается и ту да, куда пробраться, казалось, невозможно: о закрытый лагерь коммандос в Конго и, уж конечно, во Вьетнам, на передний край, где оба они даже попадают в плен. Правда, ненадолго...
Из многих картин я выбираю последний фильм молодого, но уже знаменитого Клода Лелюша 13 . Жить ради жизни», потому что он во всех отношениях находится
на острие моды: по проблематике, по монтажу, по изобразительной культуре, по сюжетосложению. Это ни в коем случае не «массовая продукция», но это некое «среднестатистическое» сегодняшнего экрана.
Кадры хроники, которые снимает или монтирует Робер, не имеют прямого касательства к сюжету, где дело идет о его семейной жизни, разъеденной взаимным непониманием и изменами, о любви молоденькой экстравагантной американки к немолодому, усталому французу, о неловкой попытке его жены уйти от мужа, обрести самостоятельную жизнь и о возвращении.
Фильм снят красиво, очень красиво, изысканно.
Интерьеры парижских квартир, женские портреты – на рядные ила элегические, пейзажи Амстердама, преломленные «сквозь магический кристалл» живописи Ван Рога, экзотика африканской охоты-сафари, воспетой некогда Хемингуэем... И как аккомпанемент, как фон – обучение коммандос, Гитлер, плывущий над рядами штурмовиков, пытки, казни, кровь. Насилие и смерть проходят фоном «сладкой жизни» с ее усталыми адюльтерами, дорогими курортами, ночными кабаками, машинами и туалетами от Сен-Лорана.
Сшибка черно-белого и цветного, игрового и документального, изысканного и натуралистического. Что это – трезвый анализ действительности, где все это несочетаемое противоестественно сочетается, или уже привычка, вкус к насилию, без которого нюансы лишенных драматизма любовных связей покажутся пресными? Должны ли мы отдать должное чутью Лелюша, уловившего и связь торжествующего в мире насилия с нацистской доктриной и нагнетанием расовой ненависти? Или пришла уже пора задуматься об опасности этой непременной сенсационности, этой привычки к виду чужих страданий? Тревожит ли нашу совесть художник? Или, напротив, заставляет ее притерпеться?
Грань тонка, неуловима, стерта до неразличимости.
В апреле 1966 года редакция газеты «Sunday Telegraph» попросила известную английскую писательницу Памелу Хенсфорд-Джонсон побывать в Честере на так называемом «Болотном процессе». Впечатление от чудовищного по своей фабуле дела Иэна Бреди и Миры Хиндли было таково, что вместо простого отчета писательница села за книгу, которая недавно вышла в свет. Название ее «On Iniquity» трудно поддается переводу на русский язык и означает что-то вроде «О пороках» или даже «О грехе». Книга документальна уже не только по материалу, но и по жанру и представляет собой, как гласит ее подзаголовок, «некоторые личные размышления» автора, связанные с «Болотным процессом». Отрывки из книги были опубликованы в № 8 «Иностранной литературы» за 1967 год под названием «Кто виноват?».
Достоевский. Отступление третье
Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце.
Собр. соч., т. V, стр. 475.
«Перл Байндер писала мне (автор цитирует личное письмо. – М. Т.): «Этот процесс – как задача, решенная счетно-вычислительной машиной... Вы закладываете данные и получаете преступление, которого и следовало ожидать. Я нахожу, что непременные атрибуты процветающего общества (машина, транзистор, магнитофон, вино, фотоаппарат) сделали все еще более ужасным. Порнографические книги сыграли здесь не последнюю роль».
Если преступление Дика Хикока и Перри Смита хотя бы в исходном своем пункте может быть объяснено в привычных категориях, если понадобилась вся проницательность писателя, чтобы за «уважительной» причиной социального неравенства разглядеть некие новые сдвиги в области морали, то садистские убийства двух детей и семнадцатилетнего юноши, совершенные Иэном Бреди и Мирой Хиндли без всяких видимых причин, прямо вводят нас в сферу «безмотивности», в пугающий Духовный вакуум современности. социальной ненормальности, а не в смысле личной патологии. Кстати, биографии Иэна Бреди и Миры Хиндли снова обнаруживают два прямо противоположных психологических типа. Если история Бреди – это классическая история правонарушителя, где нежное детство отмечено мучениями беззащитных кошек, отрочество – угрюмостью н первым «приводом» в полицию за хулиганство, то отзывы о Мире Хиндли рисуют веселую девочку с вполне обычной дозой смеха и проказ, потом девушку, делящую свое время между кино, танцами и кавалерами, и, наконец, отличную няню, которую охотно нанимали к младенцам.
Итак, дело, по-видимому, не в патологии личности.
Речь идет о болезни общества, в которой ссылка на «нищету» и «трущобы» уже мало что объясняет.
Достоевский. Отступление четвертое
И что такое смягчает в нас цивилизация? Цивилизация вырабатывает в человеке только многосторонность ощущений и... решительно ничего больше. А через развитие этой многосторонности человек еще, пожалуй, дойдет до того, что отыщет в крови наслаждение.
Собр. соч., т. IV, стр. 151
Как и все прочие, Памела Джонсон обращается к статистике. Она приводит данные о преступлениях против личности (на этот раз дело идет об Англии):
1945 год – 4 743
1955 год – 7 884
1965 год – 25 549
Насильственные действия против личности:
1945 год – 2 459
1955 год – 4 958
1965 год – 15 501
Между 1938 и 1965 годами число этого рода Преступлений выросло больше чем в девять раз!
«Трудно сказать, когда это началось: возможно, плотина прорвалась лет десять назад», – замечает писательница.
Лег через десять после окончания второй мировой войны, добавим мы. Таким образом, границы того, что Памела Джонсон и другие называют «нашим временем», очерчиваются довольно жестко. Писательница рассматривает главным образом то новое, что она связывает именно с этим десятилетием. Она выделяет в отдельные главы такие проблемы, как «Общество равнодушных», «Семьдесят пять видов порнографии», «Агонизирующая романтика» и прочее.
Памела Джонсон называет английское общество «обществом равнодушных» и одновременно «приплясывающим обществом» (определение, впервые употребленное в журнале «Тайм»). Тут нет противоречия, а есть взаимосвязь. Действительно, большинство хулиганских поступков в «наше время» не имеет под собой иных видимых мотивов, как только «для смеха» или «скуки ради». Писательница справедливо замечает, что очень немногие надзиратели в концлагерях действительно были садистами. У прочих всего-навсего исчезла способность видеть в тех, кого они истязали, человеческие существа. Попросту говоря, они больше не отождествляли их с собой. Да и в наше время большинство ужасов совершается скорее благодаря равнодушию (буквально «нечувствительности» – «affectlessness»), резюмирует автор, нежели из патологической жестокости.
Она предостерегает от романтизации зла в деле Бреди и Хиндли и создания мифа некиих «сверхчеловеков» или «недочеловеков». То и другое одинаково мало отвечает сути вопроса, где речь идет все о том же потребительском эгоизме, который и привел на скамью подсудимых Дика Хикока. Никто не любит, чтобы ему причиняли боль, зло или насилие. Но слишком многие разучились отождествлять себя с другими представителями рода человеческого...
Если этот разрыв нормальных человеческих связей, эта атрофия чувств действительно лежат где-то в самой сердцевине проблемы, то Памела Джонсон видит их причину главным образом в парадоксе «тотальной вседозволенности».
В сущности, манная проблема, поставленная в книге, возвращает нас к сакраментальному вопросу об отношениях общества и искусства. Точнее, об отношениях общества и массовой культуры. Еще точнее, о том, что американцы называют mass media, то есть средствами массовой информации.
Памела Джонсон рассматривает эту проблему во всей возможной полноте, не боясь даже прослыть старомодной.
Потоки порнографической, а иногда и просто специально медицинской литературы, обрушивающиеся «а голову малообразованного или – что еще хуже – полуобразованного читателя в любом киоске.
Оглушительная стрельба, все виды насилия и секса, заполняющие кино– и телеэкраны, начиная с передач для детей.
Культ безудержного насилия просто для развлечения, ради прихоти и наслаждения наряду с культом потребительства.
Начав рассуждение с того, что любой запрет, любая цензура означают гитлеризм, не приходим ли мы гуда же с обратной стороны – со стороны тотальной вседозволенности?
Такой вопрос задает писательница.
Но сколь ни убедителен ход размышлений Памелы Джонсон, все же остается по-прежнему открытым вопрос: порнографическая ли литература создает «общество равнодушных» или, напротив, равнодушие общества выплескивается на поверхность волной порнографии и садизма?
Насилие на экране порождает насилие в жизни или просто-напросто экран отражает жизнь?
Ввиду очевидной и непрерывной обратимости процесса, вопрос мог бы показаться столь же схоластическим, как старый спор о курице и яйце. Если бы не одно обстоятельство.
Вынесем на минуту за скобки «тотальную вседозволенность» и установим взамен «тотальную недозволенность», строжайшую цензуру нравов, – не покажется ли запретный плод еще более сладким? Представим себе вполне целомудренный экран и совершенно невинную литературу – изменит ли это существенно статистические кривые? Ликвидирует ли в недрах общества Равнодушие и Насилие – эти две составляющие «безмотивной» преступности (или так называемых преступлений «из хулиганских побуждений»)?
В Америке какой-то остроумный владелец оружейной лавки выставил в витрине плакат: «Ружья не убивают людей. Люди убивают людей».
Что и говорить, свободная торговля оружием способствует преступности. Но опыт показывает, что, когда нельзя купить винтовку с оптическим прицелом, идет в ход самодельный нож. Между тем даже автоматическое оружие не стреляет само...
Эта нехитрая притча всего лишь иллюстрирует банальную мысль о том, что первопричина заключена все же не в экранных или печатных ужасах, сколь они ни ядовиты.
Хотя само наличие всепроникающих mass media, сам факт их существования при этом, как мы увидим, вовсе не безразличен.
Американские и европейские социологи, исследующие весьма пристально и вдумчиво рост юношеской преступности, отвергают ссылку на один какой-нибудь фактор – будь то фактор экономический (нищета и трущобы) или «фактор имитации» (порнография). Они выдвигают теорию «множественного фактора».
В частности, тщательное статистическое изучение вопроса о трущобах приводит к неожиданному выводу, что даже внутри этой частной проблемы речь идет отнюдь не о прямой зависимости от материальных условий.
«...Основное значение жилищного положения... состоит не в его материальных аспектах... но, главным образом и в основном, в его социальных аспектах, как критерии или факторе социальной аномии»14.
Термин «социальная аномия», предложенный классиком американской социологии Мертоном, возвращает нас к истории Лика Хикока и многих, подобных ему.
Мёртон не только предлагает новый термин. Он выводит его из новой ситуации.
Причину наступающей «аномии» Мёртон видит в том соотношении целей и средств их достижения, какое складывается постепенно в цивилизованном обществе. Ибо с возрастанием тотальности гордая формула «каждый посыльный может стать президентом» из «эмпирической теоремы» все больше превращается в идеологический миф.
Когда общество выдвигает определенные символы успеха, общие для всех, а социальная структура фактически ограничивает доступ к ним для большинства его членов, правонарушения резко возрастают в числе.
Так возникают культурный хаос и дезорганизация общества на той ее грани, когда статистическое прогнозирование человеческого поведения становится уже невозможным. Такова в двух словах гипотеза Мертона.
Социальная неустойчивость – вот где, как в фокусе, сходится множество обстоятельств.
Социальная неустойчивость для одних – это стремительная индустриализация, взрывающая устоявшийся патриархальный быт или окостеневшие формы старых полуфеодальных культур.
Социальная неустойчивость для других – это «малые войны», военная истерия, охватившая мир, и существование водородной бомбы с ее тотальной угрозой.
Социальная неустойчивость для третьих – это те самые кино, пресса и телевидение, которые соперничают с ЛСД, марихуаной и прочими наркотиками.
Для четвертых – сами наркотики.
Социальная неустойчивость для пятых – это распад семей, пресловутый «кризис брака», который еще недавно вызывал горячие дискуссии, а ныне находит молчаливое подтверждение в росте статистики разводов...
Социальная неустойчивость для шестых – это как раз улучшение условий, переселение в районы новой застройки, разрывающее старые связи. И прочее, и прочее, и прочее...
Вот странный на первый взгляд факт: в моменты обострения безработицы юношеская преступность не возрастает, как логично было бы предположить, а заметно падает. Социологи связывают это с тем, что в это время отец становится единственным кормильцем, авторитет его увеличивается и семейные устои, так сказать, укрепляются.
Между тем как во времена высокой конъюнктуры, когда дети начинают зарабатывать рано и много, они легко порывают не только с материальной зависимостью, но и с моралью «отцов».
Таковы парадоксы материального прогресса.
И тогда на гребне «социальной аномии», на гребне культурного хаоса и статистической непрогнозируемости дело Иэна Бреди и Миры Хиндли становится вдруг логичным, как простая задача, вычисленная счетно-решающим устройством...
В самом деле, если продолжить линию, отмеченную выстрелами Уигмена, бессмысленной жестокостью Опека (кстати, имена их, как и имя Раскольникова, фигурируют в книге Памелы Джонсон), хвастливой ненавистью Лэтама и Иорка и даже «обыкновенным» преступлением Хикока и Смита, – линию, на оси абсцисс которой отложены кровопролития двух войн, деловитый ад концлагерей, расовая вражда, а на оси ординат – экономические бумы, чудеса техники, невиданный расцвет средств массовой информации и многое еще другое, – то где-то в следующей точке мы неминуемо получим «Болотный процесс». Ибо нет более запрограммированных преступлений в наше время, чем преступления «безмотивные».
Третье отступление в кино
Что питает опустошительную, злобную ненависть этого парня?
Казалось бы, Нильсу и его товарищам созданы сносные условия. Вместо тюрьмы или исправительных работ за ранее совершенные провинности – нечто вроде вполне приличного общежития, снисходительный наставник и необременительные обязанности: являться к инспектору и отвечать на вопросы, входящие в курс психологического обследования несовершеннолетних правонарушителей. Можно сказать, что Нильсу повезло, когда он попал в эту экспериментальную группу.
Почему же в таком случае под угрозой тюрьмы и без всякой практической надобности он сначала крадет магнитофон у священника, пришедшего, чтобы прочитать проповедь, потом пачку за пачкой похищает книги у безобидного и склонного покрывать своих «трудных» подопечных наставника, а под конец уж вовсе нагло вывозит всю его обстановку, в том числе рояль, оставшийся как память от покойной мамы?
Просто «дурные задатки»? Но Нильс отправляется на корабль за контрабандной водкой не для того, чтобы пьянствовать, а, скорее, ради спорта; и с портовой шлюшкой, подобранной там же, на корабле, живет не он, а другой; и если уж говорить о «дурных наклонностях», то это гомосексуалист-инспектор соблазняет и растлевает еще наивного и даже на поверку «невинного» парнишку...
Здесь мы подходим к той неумолимой цепи причин и следствий, которая в конце концов приводит Нильса на скамью подсудимых, хотел он того или нет. Ибо, увы, между социальной обусловленностью и личной ответственностью очень трудно провести границу.
Молодой шведский писатель Ларе Иорлинг назвал свой роман «491-й». Он заимствовал это число из Евангелия, поставив в эпиграф слова: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?
– Не говорю тебе: до семи, но до семижды семидесяти раз».
491-й раз лежит за гранью даже этого поистине божественного долготерпения. Вильгот Шеман – шведский писатель и режиссер, экранизировавший роман. – сделал это роковое число одинаково сакраментальным для несовершеннолетних правонарушителей, и для общества, казалось бы, столь снисходительного к ним.
Ну да, Нильс переходит вге границы, когда, с систематической и последовательной зло бой, оскорбляя лучшие человеческие чувства своего покладистого учителя, продает рояль, завещанный тому покойной матерью. Ну а сам этот весьма порядочный и благонамеренный наставник юношества, который идет к проститутке просить 470 крон, недостающие ему для выкупа рояля?
О, конечно, он не знает, что эта тоже по-своему покладистая девчонка в сопровождении Нильса отправляется на промысел, чтобы за одну страшную ночь в подъездах, чужих машинах, на панели – в буквальном, смысле этого слова – заработать ему 490 (существенная поправка!) крон.
Не знает, а мог бы и догадаться, если бы не привык закрывать глаза, как и все, на лицемерное, равнодушное, конформистское общество, которое он вполне достойно представляет в этом странном вертепе...
А жизнь жестока к своим пасынкам вроде Нильса, который за зло в свою очередь воздает обществу злом. И столь же жесток фильм: его создатели не хотят оставить зрителю никаких иллюзий, ибо кто виноват перед кем в этой цепи зла? Общество, не давшее Нильсу никакого смысла, чтобы жить? Или Нильс, демонстративно продавший скупщику дорогое воспоминание учителя? Или учитель, пославший на панель приблудную шлюху? Или шлюха, обозлившаяся на весь мир и доведшая Нильса и его друга до бешенства и омерзения? Или Нильс и его друг, связавшие разошедшуюся девку и спарившие ее с таким же приблудным псом? – одна из самых страшных сцен, которые видел экран.
...И только кто-то более слабый, не выдержав всего этого ужаса, падает с крыши и разбивается насмерть...
«Для человека благонамеренного15 насильник есть насильник. Наказать насильника, посадить его, убояться его или выбросить из головы – вот и вся игра. Но «хипстер» знает, что изнасилование – тоже часть жизни и даже в самом жестоком и непростительном изнасиловании может присутствовать артистизм, а может и не присутствовать, может заключаться настоящее желание или холодное принуждение и два насильника, как и два насилия, неодинаковы».
Эти столь вызывающие слова принадлежат перу одного из талантливых представителей молодой американской литературы – Нормана Мейлера.
Десять лет назад он написал нашумевшее эссе под названием «Белый негр», в котором постарался сформулировать то, что, по его собственному разумению, формулировке не подлежит и что без всяких формулировок в те же годы выразил на экране одним своим появлением первый и ныне уже легендарный кумир молодежи американский актер Джеймс Дин.
Джеймс Дин, успев сняться всего в трех картинах, разбился в автомобильной катастрофе, навеки запечатлев в своем странном лице образ «бунтаря без причин»; а эссе «Белый негр» обросло откликами, полемикой, комментариями и дополнениями и вошло в книгу Мейлера «Самореклама» как манифест «хипстеров» или «хипа».
Аморализмом в наши дни уже никого не удивишь, и Норман Мейлер при всей своей отъявленной склонности эпатировать «скуэр» претендует, скорее, на роль моралиста.
Достоевский. Отступление пятое
...Да осыпьте его всеми земными благами. 1/топите в счастье совсем с головой, так, чтоб только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничто больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной истории, – так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы... единственно для того, чтоб самому себе подтвердить... что люди все еще люди, а не фортепьянные клавиши...
А в том случае, если средств у него не окажется, – выдумает разрушение и хаос, выдумает разные страдания и настоит-таки на своем!...
Я ведь тут собственно не за страдание стою, да и не за благоденствие. Стою я... за свой каприз и за то, чтобы он был мне гарантирован, когда понадобится.
Соб. соч., т. IV, стр. 157 – 161
До сих пор я говорила о книгах, документальных в прямом смысле, основанных на фактах. Книга Нормана Мейлера тоже по-своему документальна, только она рассматривает не факты, а психологическую ситуацию, из которой могут вырасти те или иные факты.
Какие именно факты – те или иные – взойдут на этой унавоженной историей почве, богатой самыми разными возможностями, зависит от многих привходящих причин (тут я снова отсылаю читателя к началу статьи). Но в отличие от Трумэна Капоте, как и от Памелы Джонсон, Мейлер рассматривает эту психологическую ситуацию изнутри, в ее «готовностях», до того, как они приняли неопровержимую форму фактов. С беспощадной интеллектуальной смелостью он не обходит даже крайние, предельные случаи, когда весь диапазон возможностей катастрофически сужается до лезвия ножа или рамки прицела винтовки. При этом только надо иметь в виду, что теоретически «вычислить» убийство на бумаге не то же самое, что совершить его в реальности.
Бернард Шоу делил свои пьесы на «приятные» и «неприятные». Тогда как Жан Ануй – на «розовые» и «черные».
В критике тоже есть свои «розовые» и «черные», свои «приятные» и «неприятные» темы.
Я понимаю, что углубляться в «безмотивное убийство» – самое, страшное из возможных преступлений – дело черное, неблагодарное и неприятное. Оно неприятно автору, редактору, читателю. Тем более если убийцы на поверку оказываются не чудовищами, а обыкновенными людьми. Тем более если за кажущейся случайностью проступают зловещие контуры закономерности. И дважды и трижды тем более, если оказывается, что закономерности эти берут начало не где-то в изолированных областях человеческой психики или человеческой жизни, а там же – в той же общественной, исторической, личной ситуации, – где берут начало совсем иные, подчас прекрасные человеческие возможности.
Но кто же из нас не понимает, что деление пьес на «приятные» и «неприятные», на «розовые» и «черные» – это не более как уловка, как авторская метафора, ибо материал в тех и других – та же реальная жизнь?..
...Свои «поверхностные размышления» о «хипе» Мейлер недаром озаглавил «Белый негр», ибо американский негр – это тот, кто уже два столетия живет в пограничной области демократии и тоталитаризма, кто обречен опасностям с первого дня своего существования, для кого простейшие символы устойчивости – мать и дом, семья и работа – не более как насмешка, для кого жизнь всегда война и ничего больше, кто не гарантирован от насилия даже на секунду и присужден жить гипертрофированным Настоящим, примитивными, но реальными радостями плоти, выплескивая в музыке джаза свое горе и свое веселье...








