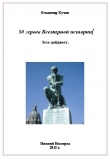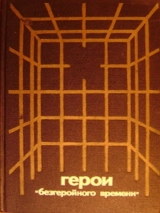
Текст книги "Герои «безгеройного времени»"
Автор книги: Майя Туровская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
«Хипстер» усвоил экзистенциалистский кодекс негра и в практических целях может быть назван белым негром», – резюмирует Мейлер.
В изгойстве «хипа», в его сознательном отклонении от общественных норм, в его демонстративном разрыве с моралью «скуэр» этот моралист навыворот пытается отыскать какие-то пути для человека к самому себе, какой-то прообраз будущего. Он ищет в этом возможность уклониться от мышеловки «отчуждения».
Кто-то заметил: то, что для одного поколения является социальной проблемой, для следующего становится уже психологической. Норман Мейлер – и он не единственный на Западе – склонен видеть в «Капитале» Маркса ключ к современной социо-психологии. Речь идет, в частности, об отчуждении человеческой личности.
Всем известно, что буржуазный человек уже на ранних этапах развития капитализма – человек неполный, частично отчужденный продажей своего времени и своего труда. «Сердитый» американский писатель с горечью констатирует, что в обществе, гордящемся своим самым высоким жизненным стандартом, человек отчужден уже не частично, а полностью, потому что к прежней «вертикальной» эксплуатации бедного богатым прибавилась «горизонтальная» эксплуатация всей массы населения Государством и Монополиями. Два новых вида бизнеса стали особенно популярны на современной «ярмарке житейской суеты»: бизнес Комфорта и бизнес mass media.
Здесь со своей стороны Мейлер подходит к той же проблеме, на которую наткнулась в связи с «Болотным процессом» Памела Джонсон. Но если она задумалась о воздействии порнографической литературы и об опасностях авангардистского экстремизма для массы полуобразованной публики (не забудем, что книга английской писательницы вышла ровно через десять лет после «Белого негра»), то его внимание остановила самая обычная, широкая, вполне конформистская, пошло-сентиментальная продукция, которая получила для своего распространения столь мощное орудие, как современные средства массовой информации: вес то, что можно расширительно назвать «массовой цивилизацией».
Сначала человек дорого платит за комфорт, чтобы освободить себе максимум досуга; потом он платит еще дороже за то, чтобы убить этот досуг с помощью телевидения, комиксов, кино, радио, газет, детективов, мод, спорта и прочая и прочая. Он должен вернуть в оборот плату, полученную за Труд, уплатив за это своим Досугом. Таким образом, если раньше человек продавал лишь свой Труд, то теперь благодаря ухищрениям Комфорта и mass media, создающих множество новых и новейших материальных и психологических потребностей, он продает также свой Досуг, а с ним и свою личность. Она уравнивается, стандартизируется, программируется, перестает существовать...
Как ни странно, но это дает себя знать даже в тех случаях, когда материальные возможности еще далеко отстают от диктата Моды, когда высокий жизненный стандарт есть лишь умозрительный образец (напомню термин «социальной аномии» Мёртона).
Спасение от столь тотального отчуждения Норман Мейлер видит в бегстве в область подсознательных импульсов, которые остаются единственной, еще неотчужденной собственностью человеческого «я».
За примерами недалеко ходить: в пьесах сегодняшних классиков американской драмы Артура Миллера и в особенности Теннесси Уильямса судороги неумолимо стандартизуемой личности – эксцессы темных страстей, наивные, мучительные и самоубийственные порывы уже ненужной человечности – отметили многими драмами этот переход к торжеству практицизма и массовой цивилизации. То, что героями Уильямса разыгрывается снова и снова как бессознательная и тем более безнадежная борьба человеческого «я» за право на существование, Мейлер полагает необходимым сделать сознательно и радикально. Выпасть вовсе из круговорота: продажа труда – покупка досуга – продажа досуга; стать изгоем, парией, «белым негром», загнанным в темные глубины своего «я»; противопоставить тотальной власти общества не только над рабочим временем, но и над рассудком свой безрассудный, эгоистический и даже разрушительный – да, лучше разрушительный, – но своевольный каприз, хотение, сиюминутную потребность – вот вкратце, что такое «хип» и вот почему он выходит на страницы мейлеровского манифеста под развернутыми знаменами джаза, марихуаны, гомосексуализма, насилия и даже убийства, если это надо для «самоосуществления личности». Да, даже убийства.
Это страшно и, может быть, гибельно, но дело здесь, право, не в легкомысленной безнравственности и не в священном моральном негодовании. Это жест скорее отчаяния, скорее самообороны, чем агрессии. И если Мейлер говорит о мужестве, которое потребно, чтобы существовать в столь универсализованном обществе, то нужно иметь мужество вглядеться попристальнее в этот беспорядочный «сексуальный бунт» против социальных условий «общества всеобщего процветания».
Достоевский. Отступление шестое
...Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столько стоит? Да весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка...
И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены.
Собр. соч., т. IX, стр. 304 – 307
Очень легко, констатировав дурное поведение статистических кривых, отделаться от них успокоительной формулой, гласящей, что наряду с неважной молодежью есть-де и хорошая и даже прекрасная. На самом деле, как я уже говорила, разрушительные тенденции берут свое начало из того же Источника, Что и граждански мятежные: и те и другие не выдуманы.
При всем стремлении к оригинальностям и эскападам Мейлер не стесняется добросовестно сослаться в опыте поколения на уроки крушения иллюзий в 20-е годы, в пору экономической депрессии и в послевоенную пору. «Вероятно, мы никогда не сможем вычислить меру психической травмы от концлагерей и атомной бомбы, бессознательно перенесенной каждым, кто только жил в это время».
А спустя десять лет теми, кого еще не было тогда на свете, прибавим мы, теми, кто получил об этом информацию уже, так сказать, из вторых рук – из книг, из кинофильмов, а может быть, каким-то образом уже закодированную природой в наследственных генах тех, кто жил в это время сам (прошу прощения у специалистов за смелую метафору).
Впервые в истории смерть, которая вечно мучила человечество как проблема личная, практическая, отвлеченная, философская, предстала в прозаическом обличье бюрократической системы, обезличивающей, уравнивающей всех и вся, лишенной ореола героизма, печали или трагического, деловито и безымянно подсчитывающей зубы и волосы жертв – гения и труса, доброго человека и мерзавца; предстала как dues ex machina, поражающий не только в сегодняшнем существовании, но и в семени, в будущих поколениях; предстала как глобальная угроза всему живому и навсегда...
И если уж суждено жить вечно со смертью, резюмирует Мейлер этот жестокий опыт своего героя, то из всех угроз – мгновенной атомной смерти, относительно быстрого уничтожения в газовой камере или медленного умирания личности в конформизме – не лучше ли добровольно избрать немедленную опасность, полный разрыв с обществом, существование без корней, подчиненное лишь мятежным порывам собственного «я»?..
Если обозначить суть дела в одной-единственной, всем известной, ставшей общим местом и тем не менее безнадежно правильной формуле, то надо будет сказать об утрате идеала.
Памела Джонсон недаром упоминает о Нагорной проповеди, втоптанной в прах.
Может показаться странным, что «плотина прорвалась», по ее выражению, лет десять назад, иначе говоря, через десять лет после окончания войны. Кажется, было бы естественно искать корни насилия и жестокости в «родимых пятнах» военного времени: в привычке вчерашнего солдата бомбить, стрелять, взрывать. Однако ж «это» дало себя знать через десять лет после войны, когда поколение фронтовиков стало поколением «отцов». «Это» было бурной реакцией на несбывшиеся надежды послевоенного десятилетия, на несостоявшееся торжество разума и человечности в послевоенном мире.
Цинизм рассеивался в воздухе, как радиоактивные осадки эпохи «холодной войны». Послевоенный экономический бум помножился на духовный разброд. Он принес процветание, но не принес счастья, ибо доказал, что Иметь при всех своих преимуществах перед Не иметь, и даже будучи возведенным всяческой рекламой в ранг божества, все же не имеет силы идеала. Взамен прежних экономических кризисов разразился духовный кризис невиданной силы.
Усталость, страх, несбывшиеся надежды, неосвоенные скорости, неожиданные материальные возможности, нескончаемый поток информации создавали то «отчуждение» человека, о котором говорит Мейлер, то Общество Равнодушия, о котором говорит Памела Джонсон.
На этом фоне материального улучшения и морального опустошения возник «хип» с его экстатическим джазом, узаконенными наркотиками и «ménage-a-trois», с его разболтанной походкой (к которой потом по созвучию со словом «hip» – «бедро» – приурочили его название), с его собственной модой одеваться назло всеобщей моде и невнятным языком ассоциаций и намеков, составленным из немногих общепонятных слов, с его «антиморалью», выведенной как антитеза из всего, что исповедуют «скуэр».
«Скуэр» – это благонамеренные люди, мещане, обыватели, это законопослушное общество и общество лицемерное, это посредственности, конформисты, Люди-Как-Люди, и еще как угодно иначе.
«Хип» – это «хип».
Вот кое-что из весьма пространной таблицы ценностей, составленной Мейлером на эту тему:
«хип»
«скуэр»
дикий
романтика
инстинкт
негр
полночь
нигилистический
вопрос
кривая
я
воры
святой
Хейдеггер
секс
тело
дифференциальное исчисление
настоящее
Пикассо
секс ради оргазма
сомнение
убийство
марихуана
практичный
классика
логика
белый
день
авторитарный
ответ
прямая
общество
полицейские
священник
Сартр
религия
разум
аналитическая геометрия
прошлое
Мондриан
секс для удовольствия
вера
самоубийство
алкоголь
и многое еще другое...
Разрыв между «хип» и «скуэр» произошел со скандалом, который Мейлер назвал «сексуальной революцией». И здесь мы подходим к истокам того, что через десять лет Памела Джонсон назвала .«тотальной вседозволенностью».
Секс был последней баррикадой, последней линией самообороны, занятой личностью в ее неравной борьбе с обществом.
Не любовь. Во всяком случае, не любовь в том смысле, в каком мы привыкли ее понимать. Ибо, даже не увенчиваясь законным браком, она была уже причислена к числу общепринятых и общепризнанных, так называемых «вечных» ценностей.
Даже когда она была вызовом предрассудкам, войне, властям, как у Хемингуэя, она тем более требовала гармонии душ.
Любовные истории Хемингуэя, при всей демонстративной вульгарности их лексикона, по большей части идилличны. Когда-то «Фиеста» казалась крайней точкой отчаяния и сексуального бунта. Теперь в отдалении времени она представляется едва ли не мысом Доброй Надежды.
Искусство всегда так много занималось любовью не только потому, что любовь – это любовь, что в ней «все высокое и все прекрасное». Любовь всегда была форпостом свободы в борьбе с тиранией общества.
Формы времени менялись; любовные отношения тоже. Но отношение любовь/общество никогда в искусстве не приравнивалось к единице. Оно всегда питало духовное напряжение личности.
Для героев Хемингуэя секс был формой бунта против традиционного лицемерия, а гармония душ – линией Мажино против угрозы постоянно наступающего хаоса.
Схема! – возразят мне. Как можно втискивать живое чувство в... Быть может. По, увы, гармония душ, как и исступление тел, входит составляющей в общее уравнение эпохи...
После второй мировой войны очередная баррикада традиционной морали без особого труда взята искусством, поскольку добродетельный семейный идеал все больше терпел фиаско в самой послевоенной действительности.
Понадобилось еще усилие духовного напряжения, чтобы молодежь в искусстве международной «новой волны» завоевала право на «свободную любовь». Не внебрачную, как понимали это слово после первой мировой войны, а именно «свободную»; от всего – от обязательств, от будущего, от родительских запретов, от ограничений пола, возраста, родственных отношений, от велений, так сказать, внутрисексуальной этики...
Стоит задуматься, почему в эпохи духовного кризиса искусство так настойчиво обращается к темам инцеста, однополой любви, любви втроем, вчетвером, любви садистической, мазохистской и так далее. Не потому ли, что крушение общественного идеала образует духовный вакуум и тогда сексуальные проблемы приобретают абсолютное значение, а духовное напряжение ищет выхода в завоевании свободы морали?..
...Но вот наступил момент, когда кинематографические и литературные мятежи с их кровосмесительными связями, любовью гомосексуалистов и многолюдными оргиями в свою очередь вошли в быт: всячески свободная любовь получила общественные права и желанная моральная свобода стала скучной свободой от морали; все сделалось можно и ничего не интересно... Духовное напряжение снова упало. Тогда-то Секс устремился на завоевание очередного препятствия: понятие о любви было сброшено, как последний балласт с неудержимо падающего воздушного шара. Тогда на очередь был поставлен Оргазм, Страсть не как чувство, а как прихоть, своевольный каприз, довольствующийся собой и глухой к эмоциям партнера; было поставлено Насилие как крайнее и одностороннее самовыражение личности, порвавшей с обществом.
Дело в том, что «хипа» никто не выдумал. Его создала жизнь как искусство противостоять жизни или лучше – уходить от нее.
...Молодой человек, который может иметь сколько угодно хорошеньких девочек на условиях взаимности, совершает отвратительное изнасилование и попадает в тюрьму.
Кто он? Сексуальный маньяк? Сумасшедший? Или просто донельзя распущен?
...Тот, кто захотел бы увидеть в кодексе «хипа» только бытовую, физиологическую распущенность, ошибся бы. Напротив, это своего рода «мобилизация» ресурсов личности, как бывает в тотальной войне. Никакое коммерческое процветание не восполнит недостатка в «героических добродетелях». Настоящим американцем был «охотник, ковбой, пограничник, солдат, моряк», а в перенаселенных трущобах – гангстер. «Это был человек с пистолетом, добывавший личной доблестью то, в чем отказал ему сложный порядок стратифицированного общества. И дуэль с законом разыгрывалась par exellence в сфере морали»16 – так писал некогда Теодор Рузвельт...
Ныне граница продвинулась в глубь территории традиционной морали, и для Мейлера «хипстер» – тот же «пограничник на Дальнем Западе Американской Ночной Жизни». И то, что мы привыкли называть словом «пороки», стало для «хипстера» замещением героических добродетелей – «героическими пороками».
Порывая с обществом, «хипстер» может противопоставить его универсальной стандартизации лишь апокалиптический Оргазм – крайнюю степень самовыявления и самоудовлетворения личности. Вот почему джаз – экстатическая музыка оргазма; вот почему марихуана – расширение границ подсознательных ощущений; вот почему гомосексуализм – своевольный возврат к подавленным влечениям детства; вот почему насилие – секс для себя одного. И как предельный случай самоутверждения – убийство.
Мейлер назвал своего героя «белым негром», он так же откровенно называет его «социальным психопатом», со своей стороны подходя к сакраментальной проблеме «безумия». Модель общественного поведения «хипстера» он видит в клинической форме поведения психопата, доводя свою мысль до логического и абсурдного конца.
Впрочем, еще в 1923 году В. Шкловский писал: «Говорят, что в психоз люди уходят сознательно, как в монастырь»17. За четверть века парадокс стал манифестом.
Психопат – это предельный случай «хипстера», это «мятежник без причин, агитатор без лозунгов», единственная цель которого – немедленное удовлетворение собственного каприза при полной неспособности к какому-либо усилию во имя других. «Хипстер» – это социальный вариант психопата, для которого самовыявление во что бы то ни стало и любой ценой, судорога оргазма стали единственным и достаточно жестоким божеством. «Психопат убивает, если ему достанет мужества, – из необходимости разрядить напряжение, ибо если он не опустошит свою ненависть, он не способен будет к любви, его существо заморожено неумолимой ненавистью к самому себе за свою трусость».
Так своевольный каприз превращается в деспота; так подсознательные импульсы личности становятся категорическими императивами. Декларированная в исходном пункте свобода превращается в историческую необходимость.
И здесь мы вступаем в область неразрешимых и трагических противоречий этого слепого «мятежа без причин», в область вечной квадратуры круга всякой «антиморали»...
Достоевский. Отступление седьмое
...Отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще, люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными... Это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители, или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны... Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы. и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему, дать себе разрешение перешагнуть через кровь...
– Благодарю-с. По вот что скажите: чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных?.. Я в том смысле, что тут надо бы поболее точности, так сказать, более наружной определенности: извините во мне естественное беспокойство практического и благонамеренного человека, но нельзя ли тут одежду, например, особую завести, носить что-нибудь, клеймы там, что ли, какие?..
Собр. соч., т. V. стр. 270-272
Заметим себе, что «Белого негра» Мейлер написал не в форме романа, а в форме эссе. Он вставил его в книгу, где отрывки собственно художественные перемешаны с газетными столбцами, полемикой и автокомментариями. Заметим также, что из всех произведений этого достаточно шумно знаменитого писателя самым шумным остается по сей день теоретическое, социологическое, психологическое, публицистическое эссе «Белый негр».
Заметим еще, что Трумэн Капоте, как и Памела Джонсон, пожелал, напротив, «остаться при факте», по словам Достоевского.
Между этими двумя областями, пограничными с собственно искусством, – публицистикой и документалистикой – простирается действительность, которую никакая литература абсурда не в состоянии с достаточной точностью описать.
Я не думаю, чтобы каждый «хипстер» добросовестно выполнил всю программу, описанную Мейлером от жаргона до убийства. По само теоретическое обсуждение такой возможности не проходит даром.
Не забудем, что Мейлер апеллирует к опыту двух послевоенных эпох. Он начинает с противопоставления программы «хипстера» фашизму и конформизму. Он искренне считает, что индивидуальный акт убийства всегда предпочтительнее массовых убийств, осуществляемых государством.
Более того, именно страшной памяти о нацистских концлагерях он противопоставляет свое абсолютное «Настоящее» с его абсолютным и беспредельным самовыявлением абсолютно суверенной Личности, вплоть до уничтожения другой Личности.
Мейлер, разворачивая парадоксальную логику своих рассуждений, приводит к случаю такой примерно пассаж: можно предположить, что не так уж много и храбрости надобно, коли два здоровых восемнадцатилетних молодца тяпнут по башке пятидесятилетнего продавца сладостей.
Но дело, оказывается, не в старике, а в полиции и в новых отношениях с обществом. Парень дерзает на неизведанное, и поэтому, как бы жестоко ни было совершенное убийство, оно не трусливо.
Такова самая общая формула «убийства без причин».
Но недаром же Трумэн Капоте, оставаясь «при факте», показывает, с какой пугающей податливостью современный Раскольников даже из прагматической деловитости соскальзывает в мерзкий соблазн насилия над беззащитным, в гадкое наслаждение властью, хотя бы и минутной, и страхом тех, кто, может быть, лучше тебя и, во всяком случае, такой же, как ты, человек.
Недаром и Памела Джонсон, оставаясь «при фактах» «Болотного процесса», почти необъяснимых в границах психической нормы, апеллирует к опыту надзирателей концлагерей, которые насчитывались сотнями: стоит лишь освободить человека от химеры совести и отучить его отождествлять себя с прочими себе подобными, и тогда...
...Случилось так, что Раскольников отправился убивать вредную старуху-процентщицу, а убил вдобавок кроткую Лизавету, о которой и не помышлял.
Итак, оставим на минуту полицию и новые отношения убийцы с обществом: а что же сам-то старик-кондитер – эта вечная Лизавета всех Раскольниковых всех времен? Можно, конечно, не принимать его в расчет как себе подобного, но тогда рушится вся эта система и внутренняя свобода личности обнаруживает свое противоречие: остается винтовка с оптическим прицелом и двадцать седьмой этаж, откуда все прохожие – будь они «хип» или «скуэр» – одинаково кажутся муравьями. И кто знает, не очутятся ли среди жертв такие же точно свободные Личности с их свободной волей и правом на самовыявление, не уравняются ли они с благонамеренными конформистами, как уравнивались в лагерях смерти гении и дураки?
Кстати, среди убитых в Остине была женщина на последнем месяце беременности...
Впрочем, Мейлер и сам со свойственной ему трезвой беспощадностью различает контуры маячащей впереди угрозы. Он сам замечает, что вечно неустойчивый и экстремистский «хип» равно подвержен правому и левому радикализму и скорее даже правому с его культом силы. Он имеет мужество предупредить: «Так как хипстер живет своею ненавистью, вполне возможно, что многие из них – материал для элиты штурмовых отрядов, готовой последовать за первым достаточно притягательным фюрером, который сформулирует идею массового убийства на языке, внятном для их чувств...»
Так жестокие травмы двух войн вновь прорастают в «массовом обществе» жестокостью, как зубы дракона...
Так бунт против тоталитарной власти буржуазного общества в формах индивидуалистического насилия взращивает семена будущей, еще более страшной тоталитарности и еще более страшного насилия...
Четвертое отступление в кино
Все происходит случайно, почти бессознательно. Вез цели, без смысла, без намерении, обдуманного хотя бы за секунду назад.
...Девушка и парень идут по дороге. Им весело. Они молоды и влюблены. Они заняты игрой, немножко странной, потому что в ней фигурирует пистолет. Впрочем, стрелять никто ни а кого, конечно, не собирается – просто они весели идут по дороге, развлекаясь на свой лад.
Ночью в квартире девушки раздается звонок. Ей не хочется открывать: она уже тщательно намазалась кремом, она легла, она спала. Звонок настаивает, входит ее возлюбленный. Ей не хочется заниматься любовью, возлюбленный настаивает. Так же, как утром, она поднимает пистолет, игра продолжается. И вдруг – выстрел! Он падает, как чучело, как кукла, как куль.
Картина молодого немецкого режиссера Шлендорфа называется «Mord und Totschlag» – приблизительно так: «•Убийство умышленное и неумышленное».
Впрочем, неумышленное убийство даже еще не начало действия, это только сюжетный ход, пролог, предпосылка к началу действия. Дальше совершается второе, умышленное убийство уже убитого.
Действие состоит в том, как девушка вывозит из дома труп...
Как она идет в бар и нанимает блатного парня. Как она дает ему деньги, спит с ним. Как он отказывается делать работу в одиночку и приглашает помощника. Как они берут напрокат машину, упаковывают труп в ковер и едут за город.
Как они закапывают его в рыхлую землю карьера. Как едут назад. Как между ними возникают зачатки отношений – симпатий, антипатий, влечений, ревности. Как на пороге ее квартиры все это обрывается. Как она остается одна – опустошенная и вновь возродившаяся к жизни. Как вечером она стоит за стойкой бара, выслушивая комплименты клиентов, а стрела экскаватора зацепляет в карьере наспех зарытый труп и возносит его высоко в небо...
Убийство неумышленное, убит возлюбленный. В картине есть момент, когда девушка плачет, рыдает, бьется в истерике – маленький эпизод, все остальное – ликвидация мертвого тела. Вопрос преступления и наказания вынесен за скобки сюжета. Трагедия, угрызения совести, переживания вынесены за скобки психологии. Труп не психологическая, а вещественная проблема – чучело, кукла, куль, который надо удалить.
Девушка не плохая, скорее, наоборот, и нанятые ею помощники не плохие, нормальные ребята, но тот, кто умер, – мертв.
Убийство не трагедия, которую надо пережить, убийство – травма, которую надо изжить, вытеснить, как необходимо вынести из комнаты мертвое тело.
Еще один фильм-метафора? Да, метафора, но и житейская история, где ценность человеческой жизни не то чтобы поставлена под сомнение, но просто удалена, ампутирована. отрезано. Картина не то чтобы аморальна. Просто она не о морали.
Прошло десять лет со дня мейлеровского «Белого негра». Поколение бунтовщиков влилось так или иначе в круговорот действительности; одни преуспели, другие кое-как приспособились, третьи остались неудачниками, кое-кто – мятежниками. А из иных романтиков, по словам того же Достоевского, вышли «такие деловые шельмы... такое чутье действительности и знание положительного вдруг оказывают, что изумленное начальство и публика только языком на них в остолбенении пощелкивают»18. Общество располагает столь совершенным аппаратом принуждения, столь мощными соблазнами, столь неутомимой силой инерции, что каждое следующее поколение незаметно вовлекается в игру; продажа труда – покупка досуга – продажа досуга, оставляя себе на память какое-нибудь доступное хобби, какой-нибудь невинный, вполне прирученный каприз, вроде этикеток от мыла, бутылок от виски или путешествий по экзотическим местам. Кое-кто, конечно, попадает при этом в сумасшедший дом, в тюрьму, на виселицу, на Бауэри (квартал бродяг) или всерьез становится наркоманом...
Но следующее поколение вновь встает перед теми же «проклятыми вопросами», и «проблема молодежи» не сходит с повестки дня. Она меняется, как неумолимо и очевидно меняется весь облик жизни.
Меняется и «хип», обращаясь от насилия к «ненасилию», ища опоры в дзен-буддизме, в откровениях ЛСД и других галлюциногенов, в полигамии и просто во внешней экстравагантности, в отпадении от общества не только индивидуальном, но и массовидном. И если десять лет назад речь шла о сердитом молодом человеке, о «мятежном негерое 50-х годов», о «бунтаре без причин», то теперь говорят о «бунте без бунтарей», о мирном и незаинтересованном сосуществовании, а не о конфликте поколений. Очень часто современные «хиппи» выступают застрельщиками в борьбе за мир, против войны во Вьетнаме, и их лозунг «Занимайтесь любовью, а не войной!» стал крылатым.
Между тем именно за эти же десять лет юношеская преступность в мире стала расти в такой угрожающей прогрессии, что давно превысила все прогнозы. Через десять лет после «Белого негра» появилась книга Памелы Джонсон «On Iniquity». Убийство без причин перестало быть теоретической посылкой, обсуждаемой на страницах мятежных манифестов. Оно стало полицейским фактом.
Молено искать корень роста преступности в порнографической литературе или кинематографе ужасов, но, вероятно, они больше отражают ситуацию в мире, нежели формируют ее. Поистине «ружья не убивают людей – люди убивают людей».
Однако ж если взглянуть .на mass media не просто как на новейшие технические средства информации, а в том расширительном толковании, которое дает им Норман Мейлер19, то надо будет признать, что, по-видимому, само существование средств массовой информации не безразлично к происходящим процессам.
Отношения людей с ими же созданной могущественной империей средств информации – это одна из кардинальных, отнюдь не только технических, но и психологических и далее моральных проблем сегодняшнего дня. Канадский профессор Мак-Луэн, пророк телевизионной эры, замечает, что дело даже не только в том, каково содержание информации, – дело в самой ее тотальности, в ее массе, в том, как она окружает человека со всех сторон, оказывая на него непреодолимое воздействие.
Дело же не в том, что в кино показывают, как надо убивать. Дело в том, что mass media в широком смысле продолжают свою работу отчуждения, не останавливаясь на стандартизации вкусов и морали в духе конформизма. Со временем могущественный аппарат информации и рекламы так же неумолимо отчуждает ему же противопоставленные мятежные порывы, бунты, «проклятые вопросы»...
Точно так лее, как скачок в технике на глазах преобразил и унифицировал мир, наводнив его доступными синтетическими материалами, транзисторными приемниками, подчинив предметы обихода лаконичной функциональной форме, лишив жизнь старомодных, ненужных и милых излишеств, точно так же попытка уклониться от общепринятого в сторону самобытного благодаря средствам информации сегодня снова клишируется, становясь предметом всеобщего потребления.
Погоня за синтетическими материалами сменяется погоней за натуральными; лаконичные современные формы взрываются бурным возвратом к старине; самобытность становится предметом стадного повторения; экстравагантные причуды модельеров вроде мини-юбок или платьев поп-арт выбрасываются на рынок в грандиозных масштабах серийной продукции. Хобби – это последнее прибежище интимного, личного каприза – становится повальной инфекцией...
То же самое происходит в области морали.
Книга Памелы Джонсон отразила в этом смысле последующий этап, когда волшебная палочка «отчуждения» коснулась святая святых нонконформизма. Так случилось, что авангардистские дерзания породили смуту в умах той полуобразованной массы, которую писательница называет «взбесившимися клерками», ибо всякого рода авангардистские метафоры духовного гниения, принимающего облик физических зверств, часто приобретают для этой категории читателей и зрителей не переносный, а самый прямой смысл. И если культ де Сада создается снобами и для снобов, отнюдь не принимающих к действию изыски безумного маркиза, то какой-нибудь полуграмотный Иэн Бреди может понять их вполне буквально. «Весьма приятно шагать в лад популярной мелодии, даже если она кажется мелодией нонконформизма. По не худо и помнить, что в любом виде, по самой своей природе «мода вульгарна», – замечает писательница не без яда. Даже нонконформизм, сведенный до вульгарного уровня моды, становится шикарной приправой того же конформизма...
Достоевский. Отступление восьмое