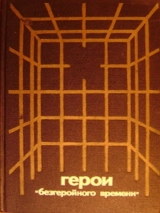
Текст книги "Герои «безгеройного времени»"
Автор книги: Майя Туровская
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
* * *
Во время одного из интервью в Плимуте Чичестера спросили: «Зачем вы совершили это путешествие?» Он потер подбородок и попросил немного времени, чтобы обдумать ответ.
«Я мог бы вам дать целых шестьдесят ответов, и каждый из них был бы верен. – сказал он после паузы. – Но разве можно ответить на такой вопрос одной-единственной фразой? Я не могу. Извините».
Журн. «Англия», 1968, №1
* * *
Было время, когда юная европейская буржуазия переживала свой героический период. Тогда ей нужны были подвиги. Подвиги путешественников – мореплавателей и исследователей – лежали на главной магистрали истории. Знаменитые и безымянные мореплаватели снаряжали каравеллы, бриги и фрегаты и отправлялись во все стороны света на поиски новых земель, богатств и познаний. Без этого жизнь просто не могла бы двигаться вперед. Ей были необходимы бескорыстные и самоотверженные исследования «черного континента», Индии и Австралии. Хотя бы ради последующей экспансии.
Вызывающе прозаическая, полемическая к слащавой романтике экзотика Киплинга обозначила собой момент истории, когда повседневный, стоический героизм британского Томми, когда героический и одинокий авантюризм разведчика Кима одинаково были необходимы Государству и одинаково освящены идеей строительства империи. Когда путешественники, углублявшиеся в опасные и враждебные дебри, искатели приключений, покидавшие европейский комфорт ради неведомых стран, – изгои и пасынки цивилизованного общества, менявшие его блага на жестокую борьбу за существование в джунглях Индии или Африки, – одинаково несли на своих плечах проклятое и гордое «бремя белых».
Они отпадали от общества – они служили ему.
Сейчас необязательные и добровольные подвиги и приключения все больше становятся частной инициативой одиночек. Они существуют сами по себе, на периферии жизни, поддерживаемые упорством их авторов, частной благотворительностью падких на сенсацию меценатов, получая помощь от фирм, если это может послужить испытанием какого-либо нового вида снаряжения или рекламой.
Из общественной необходимости подвиг в буржуазном обществе все более становится делом личным и лишним нормальному распорядку действительности.
При этом я вовсе не хочу подвергнуть сомнению моральную ценность подвига, которую так пристально и всесторонне рассматривала и утверждала в своей статье И. Соловьева.
Но, как всякая моральная, этическая категория, подвиг есть в то же время категория историческая. Неизменными остаются человеческое мужество, воля к борьбе, стремление к познанию. Вечны жажда приключений, авантюризм, «охота к перемене мест». Но меняется место подвига в социальной действительности.
Согласимся с И. Соловьевой, что «самый материал, с которым имеют дело авторы этих книг, предопределяет некоторую отстраненность от социальной проблематики, некоторую абстрагированность в решении вопроса о смысле героического деяния».
Но попробуем в таком случае вернуть подвиг в его социальное буржуазное лоно, в недра той действительности, из которой он вырывается, оставаясь в то же время причинно с нею связанным. Попробуем преодолеть невольную абстрагированность в решении вопроса о смысле героического деяния, взятого лишь в одном нравственном, этическом аспекте, и заглянем для этого по ту сторону подвига, в обыденность, с которой он так или иначе связан.
* * *
«В отличие от большинства романов, в этой книге нет ни одного вымышленного образа или события... Автор стремится создать абсолютно правдивую книгу...»
«Зеленые холмы Африки» – книга, у которой документальность жанра путевых очерков, помноженная на документальность обычной хемингуэевской манеры, все же не отняла черт своеобразной художественности, представляет как бы формулу перехода, средостение между бесхитростным жанром путешествий и приключений и литературой в собственном смысле слова. Хемингуэй не только описывает, он размышляет.
«Я любил Африку и чувствовал себя здесь как дома, а если человеку хорошо в какой-нибудь стране помимо родины, там ему и нужно жить...
С нашим появлением континенты быстро дряхлеют... Земля устает от обработки... Стоит только человеку заменить животное машиной, и земля быстро побеждает его. Машина не в состоянии ни воспроизводить себе подобных, ни удобрять землю, а на корм ей идет то, что человек не может выращивать...
Я бы приехал еще раз в Африку, но не для заработка... Я вернулся бы сюда потому, что мне нравится жить здесь – жить по-настоящему, а не влачить существование. Наши предки уезжали в Америку, так как в те времена туда все стремились. Америка была хорошая страна, а мы превратили ее черт знает во что, и я-то уж поеду в другое место... Пусть в Америку теперь переезжают те, кому невдомек, что они задержались с переездом».
Герой Хемингуэя, охотник, путешественник, спортсмен, – потомок американского пионера, завоевателя Дальнего Запада, лишившийся своей общенациональной цели и вынужденный к эмиграции в поисках цели хотя бы личной.
Можно также сказать, что герой Хемингуэя, охотник, путешественник, спортсмен, – прямой потомок киплинговского завоевателя, лишившийся своего государственного идеализма и сохранивший всего лишь идеализм персональный. Выезжая куда-нибудь на сафари, он больше не везет в своем багаже тяжкое и высокое «бремя белого человека». Его багаж – не более как багаж частного лица, отпавшего от общества.
Документализм прозы Хемингуэя, еще более жесткой, чем киплинговская прозаизированная экзотика, обозначил собой момент истории, когда общество перестало нуждаться в услугах героического характера и предоставило его самому себе.
Возможно, фанатики кибернетики, фантасты и футурологи поправят Хемингуэя. Но всякий, кто надевал рюкзак, чтобы отправиться в путешествие, на рыбалку или хотя бы на прогулку, поймет его. Африка для Хемингуэя «хорошая страна» не только потому, что «там много всякого зверья, много птиц», что там хорошая охота и рыбная ловля.
«Хорошая страна» – это страна, где еще можно, соизмеряя свои человеческие силы в единоборстве с природой, «жить по-настоящему, а не влачить существование».
«Хорошая страна» – это страна, где человек не до конца отделился от природы, не окончательно обезличен механизированной цивилизацией.
Головокружительная техника, реализующая в цифрах и фактах все старые романтические сказки человечества, сказочная техника, все более делающая человека господином природы, в то же время превращает своего творца в своего же раба. Таков многократно описанный и оплаканный парадокс технического прогресса.
Даже те, кого, казалось бы, прогресс этот обслуживает, даже та верхушка, которая в первую голову пользуется его плодами, – даже она, будучи главным потребителем материального прогресса, сама становится жертвой своего потребительства.
Хемингуэй, подобно своему герою, писателю из рассказа «Снега Килиманджаро», отправляется в Африку в надежде, что «ему удастся согнать жир с души, как боксеру, который уезжает в горы, работает и тренируется там, чтобы согнать жир с тела».
Но зачем отправляется в Африку, покидая американские бары и парижские отели, Фрэнсис Макомбер со своей светской супругой («Недолгое счастье Фрэнсиса Макомбера»)? Они, как выразился репортер «светской хроники», «полагая, что элемент приключения придаст остроту их поэтичному, пережившему года роману, отправились на сафари в страну, бывшую Черной Африкой до того, как Мартин Джонсон осветил ее на тысячах серебряных экранов; там они охотились на льва Старого Симбо, на буйволов и на слона Тембо, в то же время собирая материал для Музея Естественных Наук».
Обычная заметка из «светской хроники», за которой последовал трагический конец.
Если бы не этот конец, путешествие в Африку Фрэнсиса Макомбера и его жены, светской красавицы Марго, осталось бы всего лишь эскападой богатых бездельников из той «веселящейся верхушки общества», которую и до них обслуживал профессиональный охотник мистер Уилсон.
Но меткий выстрел миссис Макомбер, уложивший на месте мистера Макомбера, проясняет многое.
Простая истина: выйдя в первый раз на льва, Фрэнсис Макомбер струсил. Он бросился бежать, позорно предоставив Уилсону добивать раненого и потому особенно опасного льва.
Но лев убит, и Макомбер остался со своей трусостью, с откровенным презрением жены и скрытым презрением Уилсона.
Жена уходит ночью к Уилсону, и может показаться, что это извечная история мужчины и женщины, всегда предпочитающей сильнейшего.
Но тут, собственно, и происходит то, ради чего (вероятно, даже не сознавая этого) Макомбер приехал в Африку.
На следующий день, преследуя буйволов, Макомбер внезапно понимает, что страха в нем больше нет.
«Страха больше нет, точно его вырезали. Вместо него есть что-то новое. Самое важное в мужчине. То, что делает его мужчиной».
В наши дни жизнь идет быстро, и ныне даже прозаизированный романтизм хемингуэевского «настоящего мужчины», размененный и опошленный эпигонами, вдруг стал казаться старомодным, как в свое время стал старомоден героический империализм киплияговского «белого человека». Так воспринимает его, например, Колфилд, герой романа Сэлинджера «Над пропастью во ржи».
Ныне и экзотическое слово «сафари» потеряло свой загадочный, романтический ореол, став рекламным обозначением очередного фасона брюк.
Для лучших из тех пасынков цивилизации, кто отправился в Африку искать свою «хорошую страну», стало вдруг очевидным, что убить по лицензии, выданной чиновником, какого-нибудь несчастного льва, выслеженного и загнанного десятком наемных «боев», убить под надежной охраной наемного охотника – значит принести свою цивилизацию с собой. «Omnia mea mecum porto», как говорили римляне.
Ныне стало вдруг очевидным, что приручить льва и сделать его своим другом – больший подвиг, чем привезти домой его продырявленную шкуру, и что возвращение к природе, быть может, следует понимать как-то иначе, – • как изучение и охрану. Сошлюсь для примера на книжку Джой Адамсон «Рожденная свободной», где знаменитый рык льва, повергающий в трепет героев сафари, описан как один из естественных и не лишенных приятности ночных звуков джунглей и где, проснувшись, можно невзначай увидеть царя зверей возле своей походной койки...
Можно было бы привести еще немало книг и рассказов, авторы – они же и герои – которых отправляются в Африку или еще куда-нибудь, чтобы охранять четвероногих и крылатых представителей фауны от хищнического истребления чрезвычайно размножившимися и измельчавшими потомками хемингуэевского «настоящего мужчины».
Забегая вперед, скажу так же, что и самый термин «настоящий мужчина» оказался не столь уж однозначным и за первым его героическим смыслом, закаленным: в огне двух мировых войн, стали вдруг брезжить иные, сомнительные и опасные возможности...
И даже само понятие героического утеряло свою непреложную общность для всех и стало многозначно, чревато неожиданностями или, согласно моде на ученые слова, – амбивалентно...
Но об этом речь впереди.
Пока замечу, что не случайно большинство живых героев этой главы принадлежит к поколению, прошедшему войну, где добро и зло были явно обозначены линией фронта; к поколению, для которого Хемингуэй был не только хорошим писателем, но и властителем дум. К поколению, для которого слова «настоящий мужчина» не таили еще сомнительного оттенка очередной легенды, некоей романтизации жестокости, некоего пошлого клише «супермена», а заключали, напротив, простые и ясные нравственные ценности.
...Итак, Фрэнсис Макомбер отправляется в Африку не столько на поиски приключений, сколько на поиски самого себя. Ибо до тридцати пяти лет у него было много досуга и денег и мало случаев стать человеком.
Изнеженный всеми благами цивилизации, забывший, что такое борьба, когда цена этой борьбы не спортивный приз и не признанная светская красавица, ставший трусом, еще не успев испытать истинную меру своих возможностей, он идет помериться силами с природой, чтобы вернуть себе то, что отняла у него дряхлеющая цивилизация.
Пусть охотничьи подвиги Макомбера под надежной защитой штуцера мистера Уилсона кажутся нам не только бесцельными, но и не столь уж героическими и даже просто хищническими. Но, глядя в налитые кровью свиные глазки буйвола, он освободился наконец от половинчатости и соглашательства, трусости и бессилия, от всего, что так долго сопутствовало его конформистски налаженной душе. И тогда раздался выстрел миссис Макомбер...
Человек, впервые ощутивший меру своих сил, способен ведь не только бросить жену. Мало ли на что он способен... Вот почему так трагически кончилась эта охота.
Нет, Фрэнсис Макомбер не герой. Он не из тех, кто опускается в пропасти или штурмует вершины. Но именно потому, что он довольно заурядный, средний буржуазный человек, его путешествие так многозначительно.
В нем современная западная цивилизация как бы изживает себя изнутри. Она обнаруживает внезапную несостоятельность там, где, казалось бы, ее наибольшая сила. Ибо, даже предоставляя своим баловням максимум материальных благ, она рождает своего рода духовную нехватку – нечто вроде нравственной кислородной недостаточности. Процессу повального омещанивания, или, как говорят теперь, создания «общества потребителей», сопутствует исподволь нарастающее разочарование в основном стремлении потребителя – максимальном удовлетворении материальных желаний.
В 1960 году, во время недели французских фильмов, нам показали комедию, поставленную знаменитым мимом Таги, – «Мой дядюшка». О природе и путешествиях в ней может напомнить разве что птица, поющая под солнечным лучом у дядюшки в мансарде, да груды оранжево-экзотических апельсинов на тележке парижского зеленщика. И все же стоит вспомнить этот фильм, популярность которого кажется чрезвычайно симптоматичной2.
«Мой дядюшка» – остроумная и очаровательная пародия на пластмассовый рай современного западного потребителя.
Миниатюрный семейный рай этот опрятен, удобен и рационализирован до предела. Новейшие пластмассовые стулья, такие гладкие, что, кажется, пылинке не за что уцепиться. Новейшая суперкухня, оборудованная столь совершенной кухонно-электронной аппаратурой, что бифштекс на сковородке, подпрыгивая по-лягушачьи, сам послушно переворачивается на другой бок. Даже сад оборудован по последнему слову техники, и разноцветная (тоже, по-видимому, пластмассовая) травка на аккуратных газончиках куда удобнее полевой, дикорастущей, нахальной и буйной травы. Все для удобства обитателей. И только ручной, укрощенный, послушный нажатию кнопки голубой фонтанчик иногда пытается взбунтоваться и вспомнить, что когда-то он был частицей могучей водной стихии...
Так живут: отец – служащий пластмассовой компании, мать – блюстительница этого семейного электро-очага, сын и собака.
Но мальчику отчего-то не по вкусу яичко в нейлоновой... ну да, рюмочке (хотя, кажется, посели здесь курицу, и она станет нести яйца в нейлоновой скорлупе). Он мается в этом модернизированном домашнем раю, где желания исполняются прежде, чем успели зародиться, а воображение, смелость и мускулы покрываются жиром и атрофируются за ненадобностью. Его мечта – прогулка к дядюшке, в мансарду, на окраину, где нецивилизованные, «дикие» мальчишки на пустыре предаются своим исконным мальчишечьим забавам и мечтают о дешевом пироге с повидлом, испеченном тут же, на примитивной жаровне, и захватанном жирными пальцами уличного продавца...
Живой, нормальный мальчик, не успевший еще вырасти в механизированное среднестатистическое, не может примириться с нирваной пластмассового рая.
Смешной и грустный парадокс этого фильма заключается в том, что, достигнув как будто максимального удовлетворения своих материальных потребностей, современный человек, вместо того чтобы освободиться от власти быта, более, чем когда-либо, становится его рабом. По мере того как он обставляет свою физическую жизнь все большими удобствами, духовная жизнь его целиком уходит на обеспечение этих же удобств.
Нужно возвращение к «естественному», так сказать, «асоциальному» состоянию, чтобы этот порочный круг был прорван. Нужно возвращение к детству, чтобы обитатель пластмассового домика захотел высунуть нос за его автоматизированные ворота. Племянник выходит за ворота и отправляется в гости к дядюшке.
Нелепый, длинноногий и наивный, этот дядюшка (его играет Тати), расстраивающий налаженный ход пластмассового производства, обламывающий по рассеянности симметричный декоративный кустарник и приводящий в замешательство благонамеренных гостей, олицетворяет в фильме современного «естественного» человека. Увы, для того чтобы во взрослом состоянии сохранить свою свободу, этот «естественный» человек должен в неприкосновенности сохранить и свою инфантильность. Все, что он может предложить племяннику, – это старая поэзия парижской мансарды и еще не застроенный новейшими коттеджами грязный пустырь своего детства...
Миниатюрное «путешествие на пустырь», предпринятое мальчиком из пластмассового дома, конечно, весьма далеко не только от героического плавания через океан или головокружительного спуска под землю, но даже от увеселительной поездки какого-нибудь Макомбера на сафари, где львы все-таки настоящие. Но и оно имеет самое непосредственное отношение к нашей теме, потому что в своей эксцентрической и пародийной форме свидетельствует, с одной стороны, как далеко зашел процесс дегероизации, а с другой – каким широким становится протест против этой дегероизации жизни... Процесс двуедин: протест нарастает с той же шквальной и угрожающей скоростью, с какой ширится равнодушие и духовная нирвана.
...Человек выходит на дорогу, на поиски своей «хорошей страны», где можно жить по-настоящему, а не влачить существование. Для одного – это Гималаи, для другого – Африка с наемным охотником мистером Уилсоном, для третьего – хотя бы пустырь, смотря по обстоятельствам, возможностям и просто масштабу его человеческой личности.
Напоминаю читателю, что речь идет о буржуазном человеке. Но тема подвига побуждает невольно к пафосу, а пафос влечет за собой риторическое преувеличение: человек!..
Впрочем, подвиги редки, а «путешествий на пустырь» становится все больше. Разве шведские «раггары», мчащиеся сломя голову на своих допотопных машинах по отличным дорогам одной из самых обеспеченных стран Европы, или английские «моды», или американские «дикие ангелы» на своих мотоциклах – не те же «путешественники на пустырь»?
Грозные гималайские вершины – и накатанные шоссе; подвиги во славу человека – и бесцельная гонка на высоких скоростях за сильными ощущениями... Это всего лишь два полюса, две крайности выражения того духовного вакуума, который становится все очевиднее.
Молодые люди, у которых впереди холодильник и образцовый семейный рай, сознательно или бессознательно пытаются этой бешеной скоростью и бессмысленными дорожными приключениями восполнить то же сосущее чувство кислородной недостаточности... Молодые люди с собственными машинами уже не верят, что «хорошую страну» можно создать. Пока они молоды, они стремятся лишь уехать от того, что создано для них их отцами и дедами. Они выходят на дорогу. Дорога, дорога, дорога никуда...
...Вчера на просторах Атлантического океана с норвежского парохода заметили маленькую лодку. На ее борту были два молодых англичанина – Доконстон и Хоар, которые пытаются переплыть океан и уже находятся в плавании 69 дней и ночей. Они подавали отчаянные сигналы, и норвежцы, заподозрив несчастье, приблизились к лодке. Оказалось, что мореплаватели не терпели бедствия, они только спросили:
– Скажите, Англия вышла в финал всемирного чемпионата по футболу?
После этого челн, именуемый «Паффин», продолжал плавание.
«Правда», 1966, 30 июля
Человек отправляется на поиски своей «хорошей страны». По мере того как цивилизация продвигается все дальше, «хороших стран» остается все меньше: путешествие на Луну пока еще не под силу даже самому щедрому меценату. «Хорошие страны» приходится изобретать, спускаясь в жерла вулканов или отправляясь через океан на первобытном плоту.
«И почему это вас так тянет в море? – спрашивают нас часто практичные люди, – пишут Кусто и Дюма, энтузиасты подводных исследований, герои и авторы книги и кинофильма «В мире безмолвия». – Джорджа Меллори спросили как-то, почему ему так хочется влезть на Эверест. Он ответил: «Потому, что он существует!»
Чем дальше, тем путешествия становятся всё фантастичнее.
Регулярные (хотя от этого ничуть не менее невероятные) спелеологические исследования Кастере или приуроченные к нуждам местного населения охотничьи подвиги Корбетта столь же характерны для эпохи первой мировой войны, как одинокие и героические авантюры Хейердала и Бомбара – для второй.
Едва ли случайно, что биографии по крайней мере половины экипажа «Кон-Тики» связаны с антифашистским движением. Это не случайно хотя бы потому, что, подбирая возможных участников плавания, Тур Хейердал обратился именно к военным воспоминаниям. Торстейиа он впервые встретил в Финмаркене, где тот с маленьким передатчиком работал в фашистском тылу, имя Кнюта связано со знаменитым взрывом завода тяжелой воды в Норвегии.
Людям, закалившим волю и мужество в суровых военных испытаниях, просто некуда девать их в будни. «Могу поклясться, что им обоим осточертело слоняться без дела дома и они с радостью согласятся прокатиться на плоту». Хейердал не ошибся. Так появилась знаменитая телеграмма: «Еду. Торстейн».
И значит, добровольный подвиг какого-нибудь путешественника и исследователя есть в то же время бунт – сознательный или бессознательный – против утилитарности, против рациональности, против дегероизации, против бесцельности существования.
Одних существующая капиталистическая действительность устраивает, и они всю жизнь работают на все более полное удовлетворение своих материальных потребностей. Другие вступают на путь непосредственно социальной борьбы. Третьи, наконец, пытаются искать выход на путях индивидуального героического деяния. Их невольный протест чуждается открыто социальных форм. Напротив, из сферы жестких социальных отношений они как бы вырываются в «асоциальное», где человек находит себя в единении и противоборстве с природой, а человеческие связи сводятся к простейшим и наиболее надежным. Они «выламываются» из привычной рутины существования, чтобы в прямом столкновении со стихийными силами природы найти иное, свое, человеческое, а не общераспространенное представление о счастье, осуществить свои личные, индивидуальные поиски идеала.
«Далекий путь! Далекий путь! По какова его цель? Для чего я построил этот плот и плыву все дальше и дальше в глубь Тихого океана, в тех его просторах, где редко проходят корабли?»
Вот и еще один плот из семи бальзовых бревен под названием «Семь сестричек» вышел в океан, неся на себе кошку Микки, попугая Икки и единственное человеческое существо – Вильяма Виллиса, шестидесяти лет от роду. Зачем он вышел в свой долгий стопятнадцатидневный путь?
«Это не прихоть и не простое приключение. Я не хочу доказать какую-либо научную теорию или открыть новый путь, чтобы по нему шли другие. Я хочу доказать этим путешествием, что всю жизнь шел по правильному пути.
Я пришел в мир с крепкой верой в природу и всегда был убежден, что если стану вести деятельную и простую жизнь сообразно ее законам, то смогу еще больше к ней приблизиться и почерпнуть у нее силы. Для меня это была дорога к счастью... И теперь, пока я еще полон духовных и физических сил, мне хочется подвергнуть себя суровому испытанию, какому должен, по-моему, подвергать себя каждый человек»
Пройдет несколько лет, и одинокий мореплаватель Виллис погибнет. Погибнет, как подобает герою, – в морской пучине, окруженный тайной и осененный бесконечностью.
А Фрэнсис Чичестер вернется героем на своей яхте «Джипси Мот IV» и получит громкий титул от английской королевы.
А неугомонный Тур Хейердал задумает и осуществит новое, еще более фантастическое путешествие в бумажной лодочке из папируса...
Доказал ли Виллис то очень частное, но и очень общее, что хотел доказать? Доказал ли он, что человек может быть человеком, если захочет?
Ибо сама бесцельность была целью его путешествия. И если с точки зрения практической, научной и какой угодно другой его подвиг может быть назван бесполезным, то не есть ли это высокая и поучительная бесполезность?..
Человеку свойственно желание ощутить себя человеком. Познать и измерить истинную меру своих сил. И, минуя сложную систему буржуазных общественных отношений, которые унизительно обезличивают его и делают рабом службы, привычки, комфорта, рекламы, общепринятых мнений, он вступает в прямое единоборство с природой.
Недаром те, кто сохранил в душе потребность героического, так охотно возвращаются к опыту ранних эпох человечества и так остро чувствуют свою преемственность с далекими доисторическими предками, отстоявшими право человека называться человеком. В глубине пропасти, на ледниках Гималаев, под водой или на плоту среди океана – всюду, где жизнь зависит лишь от его личного мужества, выдержки, силы, путешественник снова ощущает себя Атлантом, держащим мир на своих плечах.
Человек также хочет измерить истинную цену человеческих связей. Кто рядом с тобой – сослуживец, сосед, собутыльник, сожитель или друг в точном смысле этого слова? И, минуя ложь социальных отношений, которые делают его жертвой предательств, игры корыстных интересов, карьеризма, страха, общественного мнения, он ищет товарищей там, где цена товарищества есть цена жизни. Альпинистская связка – наглядное, почти символическое выражение этих первичных человеческих связей, где жизнь одного – не фигурально, а буквально – в руках другого.
Человеку свойственно стремление познать нечто более высокое, нежели только личное благополучие, нечто, ради чего стоит рискнуть даже жизнью; нечто, что когда-то называли идеалом, ну хотя бы целью или задачей. И если выдохшаяся идеология больше не в силах предоставить ему такой общий, скажем, общественный идеал, он отправляется на поиски своего личного идеала, цели, задачи, наконец, ради которых не жалко рискнуть далее жизнью. «Мы были равны в труде, в радостях и в горе. И мое самое горячее желание, чтобы, сплотившись перед лицом смерти, мы остались братьями на всю жизнь, – пишет в предисловии к своей книге победитель первого из гималайских восьмитысячников Аннапурны Морис Эрцог («Аннапурна – первый восьмитысячник»). – Переступив пределы своих сил, познав границы человеческого мира, мы осознали истинное величие Человека.
В самые ужасные моменты агонии мне показалось, что я постиг глубокий смысл жизни, который прежде был от меня скрыт. Я понял, что правда важнее силы...
Эта книга нечто большее, чем рассказ, это – свидетельство. То, что кажется лишенным смысла, порой имеет глубокое значение. Таково единственное оправдание бесцельных на первый взгляд поступков».
1961
«Что происходит, когда на рынке торговли именами появляется живой герой типа Чичестера? «Тогда, – говорит один коммерсант, – вы приходите и говорите, что можете сделать ему деньги, которые сам он сделать не в состоянии».
Так пишет об английском национальном герое сэре Фрэнсисе Чичестере еженедельник «Observer». И уточняет:
«Этим летом на рынке имен будет большое оживление. Вступят в борьбу «Конкорд» – сверхзвуковой воздушный лайнер, «Кью-4», который должен заменить устаревшую «Куин Мэри», Чичестер и возобновленный «Тарзан». Фирма «Грэм Бейтсон» надеется использовать Тарзана как символ силы, здоровья и жизнеспособности. Однако после своего кругосветного плавания Чичестер будет достойным соперником».
Такова циническая житейская поправка к проблеме подвига в современной действительности.
Я понимаю, сколь это может быть неприятно читателю, хотя, право же, это нисколько не умаляет смысл героизма самого по себе. Но мы привыкли к определенному контексту слов, и понятие «подвиг» в соединении с понятием «рынка», хотя бы и торговли именами, кажется нам оскорбительным.
Беда, конечно, не в том, что кто-то будет носить рубашку или свитер типа «Чичестер».
Но героический поступок, который наедине с самим собой, с океаном, с вечным холодом неприступной вершины, с другом служит поискам идеала и поискам истины, отчуждаясь, становится основой современной мифологии.
Бесстрастное божество сенсации равно превращает в героев дня отважных мореплавателей, законодателей моды, преступников и кинозвезд; оно равно предлагает читателю и зрителю научные открытия и вздор – при этом вздор часто выступает в импозантном обличье науки, а смелые научные гипотезы низводятся до степени вздора, обывательских слухов. И в свою очередь становятся основой современной мифологии. Непрерывный процесс отчуждения, сопровождающий эту непрестанную гонку сенсаций, есть, конечно, процесс опошления. Но не выражает ли в то же время эта неутолимая потребность в мифах какую-то более глубокую человеческую потребность?
глава 2
Мифология технической эры
Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается.
Екклезиаст, 6
Чудеса в последние годы часто появляются на зарубежном экране: «Чудо в Милане», «Чудо отца Малахиаса», «Призраки», «Джульетта и духи» и прочее, тому подобное. Лукавые сказочные чудеса, врывающиеся в прозаическую повседневность, чудеса – прозрачные аллегории, иронические чудеса, нужные авторам как утонченный прием, как трюк, как остроумная мистификация реальности...
В 1950 году в фильме Дзаваттини и Де Сика чудеса, совершающиеся на окраине современного индустриального города («в Милане», как точно указано в заглавии), были буффонно-сказочными и в то же время вполне человеческими.
Добряк Тото устанавливал мир и взаимопонимание среди нищих и сварливых обитателей игрушечного поселка безработных собственным терпеливым и самоотверженным примером. Напротив, злые и жадные богачи в пышных меховых горжетках – Мобби и Брамби – все время интриговали друг против друга и потому даже с помощью предателя Раппи (которому за это тоже жаловали горжетку) никак не могли завладеть нефтяным фонтаном, внезапно забившим на улице под названием «Пятью пять – двадцать пять». Дело при этом, разумеется, не обходилось без прямого волшебного вмешательства, и тогда полицейские, вместо того чтобы стрелять по безработным, заливались колоратурой, а традиционная Золушка-служанка щеголяла в одной нарядной туфельке, поскольку, заботясь об окружающих, она так и не удосужилась высказать до конца собственную скромную нужду... Одним словом, обыкновенные сказочные чудеса вмешивались в реальность современных обстоятельств.








