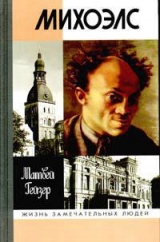
Текст книги "Михоэлс"
Автор книги: Матвей Гейзер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
Надо ли рассказывать сегодняшним читателям, что ни в Минске, ни в ночном поезде из Минска в Москву я ни на миг не заснул… Много лет до этого я перестал писать стихи… А здесь, в поезде, написал:
Мне снится по ночам Михоэлс,
Я с ним беседую во сне.
И той январской ночи холод
Навек застыл, застыл во мне.
Я вижу, как его убийцы
Трусливо правят ремесло…
И окровавленные лица
Кровавым снегом замело.
И в вечность канули герои
Когда-то явленные им…
И вечный плач Иеремии
Из Минска плыл в Ерусалим…
Прошли годы, и когда в канун столетия со дня рождения Михоэлса вокруг его имени поднялся шум, когда его стали произносить все те, кто боялся, чурался этого еще совсем недавно, я вспомнил последние строки этого своего стихотворения:
Но это горе не утешить
На юбилейных вечерах.
Горят в сердцах печали свечи,
А ум охватывает страх.
* * *
Будучи редактором «Международной еврейской газеты» в Москве, в 1995 году я получил потрясшее меня письмо от журналиста Ильи Резника. Оно пришло в редакцию из Минска и было озаглавлено: «Сорок семь лет тому…» Привожу его полностью.
«Эти горестные заметки написались бессонной ночью с двенадцатого на тринадцатое января. В ту ночь, сорок семь лет назад, на минской мостовой – угол Ульяновской и Белорусской – умирал король Лир-Михоэлс. О том, как это было, буднично рассказывал в своих показаниях еще один палач, еще один Лаврентий с ненастоящей фамилией Цанава… Еще один великий актер-мученик Вениамин Зускин на „суде“ по „делу“ Еврейского антифашистского комитета приведет слова академика Збарского о том, что смерть Михоэлса последовала вследствие автомобильного наезда и если бы ему оказали сразу помощь, „то, может быть, можно было бы кое-что сделать. Но он умер от замерзания, потому что лежал несколько часов в снегу“».
* * *
Журналистский поиск привел меня в архив литературы и искусства Беларуси. Передо мною четыре машинописных листа с пометкой в описи: «Воспоминания. Неопубликованное. На еврейском языке». Я, к великому сожалению и стыду, не умею читать на идиш. Но, слава богу, в Минске еще есть люди, умеющие это делать! Репортаж из морга, так я окрестил его для себя, привожу в переводе кинохудожника, заслуженного деятеля искусств Беларуси Евгения Ганкина:
«В это утро весь мир был завален снежным потопом и, казалось, что люди спасались в ковчеге, только что из него вышли и теперь делают свои первые шаги по заснеженной земле… У театрального сквера, сквозь белую пелену, я увидел идущих мне навстречу актеров минского еврейского театра. Они были взволнованы, в глазах ужас. Без всяких предисловий они мне сразу выпалили: „Михоэлса убили!“ Потом мы пошли в морг. Было нас немного: я, старый актер Наум Трейстман и несколько молодых артистов – бывших воспитанников московской Еврейской театральной студии, которые теперь работали в Государственном еврейском театре БССР. Молодой санитар, которого нам удалось разыскать на заснеженных дорожках, открыл перед нами дверь. Сразу же у входа первым лежал Соломон Михоэлс. Он был в шубе, одна пола наброшена на другую. Из-под шубы торчали ноги: одна в ботинке с калошей, вторая – в одном носке, рядом лежала вторая калоша (был ли второй ботинок – не помню). В воротнике шубы покоилась непокрытая голова Михоэлса. Нижняя губа, хорошо знакомая по фотографиям, была опущена, будто он чем-то недоволен, обижен. Левая щека опухшая, заплыла кровоподтеком, как после кровоизлияния… Санитар, молодой человек в белом халате, вдруг выпалил плачевным голосом, будто ища справедливости у кого-то: „Автомобиль? Нате, смотрите!“ И он двумя руками приподнял голову Михоэлса, немного повернул ее к нам. На середине черепа была глубокая дыра размером с пятерню и глубиной в три пальца… Нам велели покинуть морг, а врачи приступили к вскрытию…»
Не так-то легко было установить автора репортажа «Последняя роль Михоэлса». Им оказался известный еврейский поэт Исаак Платнер.
В этом же архиве хранился ответ Главной военной прокуратуры при Прокуратуре СССР от 17 февраля 1956 года за № 12–37789-49: «Сообщаю, что дело в отношении Вашего мужа Платнера И. X. 30 января 1956 года пересмотрено и за недоказанностью обвинения производством прекращено. По этому делу он реабилитирован и из-под стражи подлежит освобождению, о чем указания даны.
Военный прокурор отдела ГВП подполковник юстиции Шадринцев».
Исаак Хаимович умер в Минске в 1961 году.
* * *
Мне посчастливилось познакомиться с Валентиной Ивановной Карелиной, кандидатом медицинских наук, известным в республике судмедэкспертом. Первым делом попросил прочесть репортаж поэта. Как она его критиковала! Во-первых, никто, кроме экспертов, санитара и представителя правоохранительных органов, в секционный зал морга не допускается. В санитары идут обычно люди немножко опустившиеся, почти все пьющие. Правда, если это был Борис Янчевский, то он парень неплохой. Но не думаю, говорила Валентина Ивановна, чтобы для него имя Михоэлса что-то значило, что он переживал чуть ли не со слезой. Это уже немножко фантазия поэтическая. Автору хотелось, чтобы все окружающие относились к Михоэлсу так же, как он сам. Хотя, когда кругом стоят родственники и плачут, санитар тоже ж человек… Если ему еще заплатили, то он, нетрезвый, мог, допускаю, впустить в морг и Михоэлса показать.
Вот какой рассказ Валентины Ивановны записан на магнитофонную ленту:
«В толпе не только плакали и молились.
Наум Трейстман: – Помните его Тевье-молочника, его золотые слова: „Знаете ли вы, что есть Бог на свете? Я не говорю мой Бог или ваш Бог, я говорю о том Боге, об общем нашем Боге, который там наверху сидит и видит все подлости, что творятся здесь, внизу…“
Первый голос: – Наум, умоляю вас! Говорите шепотом.
Второй голос: – Вы нас всех погубите!
Третий голос: – А что, разве уже нельзя читать Шолом-Алейхема?
Наум Трейстман: – А его великий король Лир: „Нет, не дышит! Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе. Тебя навек не стало, навек, навек, навек, навек, навек! Мне больно…“ Эдгар: „Он умер“. Кент: „Удивительно не то, а где он силы брал, чтоб жить так долго“. Лир: „Боги, в высоте гремящие, перстом отметьте ныне своих врагов! Преступник, на душе твоей лежит сокрытое злодейство. Опомнись и покайся! Руку спрячь кровавую, непойманный убийца!“
Второй голос: – Эти актеры всех нас погубят.
Снежная буря усиливается. И у всех в толпе, стоящей неподвижно, уже по две шапки: своя и снеговая. Бешеный порыв ветра сносит корону из снега с головы короля Лира – Михоэлса – Трейстмана…»
Илья Резник написал еще несколько писем в редакцию. В одном, коротком и трогательном, он сообщал, что пришел с цветами на место гибели Михоэлса. То ли это место? Видимо, окончательной истины мы никогда не узнаем. А версии все множатся… Уже новые поколения лепят их, как соученики Пастернака: «Из валящихся с неба единиц и снежинок, и слухов, присущих поре». Мысленно вижу метель в Минске, утоптанный и разутюженный тяжелыми колесами грузовиков снег, сыплющий хлопьями с небес…
СКРИПАЧ НА КРЫШЕ
Москва. Январь. День тринадцатый.
«13 января в начале десятого два актера, срочно приехавшие за мной на работу, – рассказывает Анастасия Павловна Потоцкая, – бормотали что-то об автомобильной катастрофе и о том, что мне нужно немедленно лететь в Минск. Они привезли меня на Белорусский вокзал, где рыдающий и заикающийся Зускин тоже что-то говорил…
Они все не знали одного… Когда у выхода из здания института я увидела выражение лица шофера ГОСЕТа Николая Федоровича, я узнала правду.
Пока я ждала сведений о том, летит ли самолет в Минск или нет, я вспомнила почему-то сентябрьскую ночь сорок первого года, когда академик Н. Збарский вез нас на Тверской бульвар. Во время этой поездки Михоэлс вдруг произнес: „Если мне придется умереть до смерти Гитлера – считайте мою смерть преждевременной“».
«13 утром раздался страшной силы междугородный звонок в кабинете Михоэлса. Я вбежал туда, – рассказывает Б. А. Гиршман, в то время заведовавший репертуарной частью. – Я снял трубку и услышал знакомый голос. Это звонил из Минска Исаак Фефер и прокричал в трубку: „Старик умер!“. Не помню, что было со мной, но очнулся я от крика Зускина: „Что ты орешь на весь театр, мешаешь репетировать?!“»
«13 утром мы начали репетицию в театре и вдруг услышали страшный крик в кабинете Михоэлса. Разговаривал по телефону директор: „Кто? Что? Погиб! Оба? Михоэлс? Кто говорит?“ Мы вбежали в кабинет, и он нам сказал, что в 7 часов утра шли рабочие на работу и в снежном сугробе нашли, вернее обнаружили, два трупа, которыми оказались Голубов и Михоэлс. Затем директор позвонил в соответствующие инстанции и там узнал, что оба эти человека погибли в результате автомобильной катастрофы», – говорил Зускин на суде 6 июня 1952 года. И еще на этом заседании он сообщил: «11 января меня вызвал директор театра и сказал, что звонил Михоэлс из Минска и просил меня, чтобы я внимательно проследил за постановкой предстоящего спектакля, так как на нем будут присутствовать важные лица. Директор мне сказал, что Михоэлс будет в Москве 14-го числа».
«13 января я вела урок французского языка в театральной студии Еврейского театра.
– Вас срочно вызывают в дирекцию.
Беленький сидел за столом растрепанный, страшный, как серая замазка.
– Погиб Старик, – сказал Беленький. – Попал под машину. Подробностей нет…
Не успела я прийти домой, как зазвучал непрерывный зуммер междугородного телефонного вызова. Звонила из Минска Ирина Трофименко.
– Все правда, – сказала Ирина, – Михоэлс погиб» (Э. Лазебникова-Маркиш).
«Узнав о его гибели в Минске, – вспоминает С. В. Гиацинтова, – мы ночью помчались на московскую квартиру к жене Соломона Михайловича. Там было много людей, они приходили, уходили, сидели, плотно прижавшись друг к другу, и никто не произносил ни слова. Эта противоестественная при таком скоплении людей, никем не нарушаемая тишина была странной, как ночной кошмар. Мне казалось, что я глохну или вижу все это во сне».
«Двери дома были открыты днем и ночью для всех. Незнакомые и знакомые лица. С. В. Образцов, И. Г. Эренбург, актеры ГОСЕТа, вижу академика Браунштейна. Узнав о смерти Михоэлса, он пешком прошел путь в 20 км (электрички в ту морозную ночь не ходили). Запомнила высокого роста девушку, которая долго о чем-то беседовала в коридоре с Талой (позже я узнала, что это была племянница Л. М. Кагановича, который передал свои соболезнования и просил нас не интересоваться подробностями смерти Михоэлса). Не могу сказать, сколько людей приходили к нам в эти дни, сколько слез пролито на моих плечах, на плечах дочек…» (воспоминания А. П. Потоцкой).
«14 утром в Москву прибыл гроб с телом Михоэлса, – рассказывал на суде Зускин. – Перед этим нам позвонил академик Збарский, который был дружен с Михоэлсом, и сказал, что, как только прибудет гроб с телом в театр, чтобы позвонили ему, так как он хочет осмотреть, в каком состоянии находится тело и можно ли его выставлять для прощания. И в 11 часов, как только прибыло тело, прибыли академик Збарский, Вовси (брат Михоэлса), Зускин и художник Тышлер.
Когда раскрыли оцинкованный гроб, около гроба мы были впятером, мы увидели проломанный нос, левая щека сплошной кровоподтек, и тогда мне академик Збарский заявляет, что он заберет труп к себе в институт, где обработает лицо, чтобы можно было выставить. В 6 часов вечера академик Збарский приехал вместе со своими ассистентами и привез гроб с телом Михоэлса. Гроб поставили на пьедестал. Зажгли все прожектора и, в общем, создали такую обстановку, при которой он должен был лежать».
Рассказ Зускина не во всем верен, но если вспомнить, что говорил он это после четырех лет пыток и бессонницы, неудивительно, что дату прибытия гроба с телом Михоэлса в Москву он назвал неточно – это случилось 15 января.
«15 января гроб с телом Михоэлса привезли на Белорусский вокзал. На площади вокзала необычная тишина. Десятки тысяч людей, собравшихся на вокзале, не нарушают ее. Гроб привезли к театру, но неожиданно для всех его не вносят туда… Мороз. Слезы замерзают на щеках… Около театра все время была толпа. Наконец началась гражданская панихида. Перед самым ее началом в наступившей тишине подошла к гробу маленькая женщина с седой головой. Она положила лилии у ног Михоэлса, и я вдруг увидела ее лицо и ее слезы… Это была Екатерина Павловна Пешкова…
Вел панихиду И. Н. Берсенев. Весь текст гражданской панихиды хранится у меня, но я помню не всех и не все. Помню, как рыдающий Зускин назвал Михоэлса именем Алексея Михайловича (Грановского). Помню, что пел И. С. Козловский, играл Эмиль Гилельс, и последнее, что я вспоминаю, – это худенькую фигуру человека, стоявшего на крыше двухэтажного дома напротив ГОСЕТа, играющего на скрипке! В такой мороз!
Когда я несколько лет спустя открыла подаренную мне книгу Шагала, была потрясена репродукцией его картины „Похороны“, датированной 1908 годом. На крыше соседнего дома над похоронной процессией стоит человек, играющий на скрипке!
…Глядите, там на крыше домика
Появился седой скрипач.
…И взвилось синее пламя волос!
И запела скрипка —
Золотая рыбка!
Плачь, рыбка, плачь.
Над лицом короля – тайной тайн…
Этот старый скрипач.
Был великий Эйнштейн.
Но шуты не ведали этого.
Шуты
Несли
На своих
Плечах
Прах
Короля
Лира…
(Овсей Дриз)
В крематории в густой толпе я была рядом с Берсеневым. Дочери были здесь. Актеры были здесь, родные и друзья были здесь. И нельзя было сосчитать, сколько человек заполнило зал крематория и его двор. С моего согласия Берсенев не дал снова открыть гроб. Я боялась истерики толпы.
Последние слова, крики, рыдания, чьи-то речи… и все это как во сне. „Нет! Мы не могли похоронить Михоэлса!“» (А. П. Потоцкая).
Над гробом говорили последние слова.
Народный артист РСФСР Зускин: «Общественное служение его и жизнь его в искусстве настолько переплетались, что даже трудно было отделить одно от другого. Он нас учил жить, он нас учил любить жизнь. Поэтому мы себе никак не можем представить нашего дорогого Соломона Михайловича вот лежащим здесь… Он был весь – жизнь, и не может быть такого сочетания – Соломон Михайлович и – смерть…»
Генерал, граф Игнатьев: «Восстает передо мной впервые в жизни образ не ветхозаветного библейского пророка, вдохновившего великого писателя на одно из лучших его творений, а образ современного, ушедшего от нас, и, увы, навеки, мыслителя, мастера слова и друга человечества Соломона Михайловича Михоэлса.
Пушкина пленила та уходящая в глубь веков еврейская культура, которая дала нам в наши дни этого достойного наследника мудрых мыслителей, выходивших с незапамятных времен из среды еврейского народа. Впрочем, они принадлежали не ему, а всему человечеству, и потерю Михоэлса оплакивает не один еврейский народ, а все гордившиеся им народы Советского Союза и его зарубежные друзья и единомышленники».
Народный артист СССР Зубков: «Михоэлс излучал из себя свет, все его существо светилось теплом, участием, дружбой, лаской. Он был нам добрым другом и верным товарищем. И этого мы никогда не забудем…
Малый театр поручил мне сказать, что он никогда не забудет его творческой помощи в построении трудного спектакля „Ивана Грозного“. По нашей просьбе он пришел к нам и помогал решать труднейшие задачи».
Генеральный секретарь Союза писателей Фадеев: «Ушел от нас прекраснейший художник, осиянный славой, величайшей славой, выпадающей на долю немногих избранных, на долю тех мастеров, о вдохновенном творчестве которых будут написаны книги, чьи имена будут долго, века, быть может, живы для всех, кому дорого искусство.
Но Михоэлс был не только большим художником, он был человеком большой души и исключительной цельности. В нем сочеталось огромное жизнелюбие с необычайной душевной чистотой. Потому-то и был он непререкаемым авторитетом для всех работников искусств.
…Мы должны всегда помнить о его любви к искусству, о его любви и преданности народу, мы должны сберечь этот священный огонь и высоко поднять знамя нашего искусства».
Из воспоминаний А. В. Зускиной: «Через несколько дней в театре устроили вечер памяти. В первом отделении – речи; во втором – концерт, разумеется, в минорных тонах.
Меня в этой концертной программе потрясла прима-балерина Большого театра Галина Уланова. Как оказалось, не меньше меня были потрясены и отец, и даже мама, привыкшая „разбирать по косточкам“ все, что связано с хореографией.
Уланова танцевала „Умирающего лебедя“ Сен-Санса. Танцевала на темной сцене, внутри светового круга, „брошенного“ на сцену прямо под огромным портретом Михоэлса; движения ее рук были рассчитаны так, чтобы они все время были протянуты к портрету, и как бы у подножия портрета в конце танца Лебедь „умирал“. Это было то высокое искусство, от которого становилось страшно».
* * *
«Он погиб для всех внезапно и, как все внезапное, эта смерть на какое-то время остановила дыхание людей его знавших и любивших, изменила ритм их сердец, нарушила нормы поведения живых, живущих», – написала Анастасия Павловна уже много лет спустя после смерти Михоэлса, когда готовила второе издание книги «Михоэлс. Статьи. Беседы. Речи. Воспоминания о Михоэлсе».
Летом 1981 года я принес Анастасии Павловне гранки своей книги. Ей уже трудно было читать, но она, просматривая гранки, сказала: «В моих воспоминаниях нет многого, о чем хотелось бы рассказать. Еще не время. Я уже написать не успею. То, о чем я вам сейчас расскажу, не знает никто… Запомните мой рассказ. Вот все вырезки (или почти все) с некрологами Михоэлса. Просмотрите их!»
В некрологах, в большой статье С. В. Образцова «Слава актера-гражданина» не было слов «трагически погиб» («умер» – в «Известиях», «смерть вырвала из рядов» – «Правда Украины», «ушел из жизни», «остановилась жизнь»).
«Когда я узнала об автомобильной катастрофе, – продолжала свой рассказ Анастасия Павловна, – я вспомнила о том, что попытки „убрать ненужных людей“ этим способом уже были (Фрунзе в 1925 году, С. М. Киров в 1934-м в Казахстане – попадали в автокатастрофы, но с „благополучным“ исходом).
Много лет спустя я прочла у С. И. Аллилуевой: „В одну из тогда уже редких встреч с отцом у него на даче я вошла в комнату, когда он говорил с кем-то по телефону. Я ждала. Ему что-то доказывали, а он слушал. Потом, как резюме, он сказал: „Автомобильная катастрофа“. Я отлично помню эту интонацию, это был не вопрос, а утверждение, ответ. Он не спрашивал, а предлагал это, автомобильную катастрофу. Окончив разговор, он поздоровался со мной, а через некоторое время сказал: „В автомобильной катастрофе разбился Михоэлс“. Но когда на следующий день я пришла на занятия в университет, то студентка, у которой отец долго работал в еврейском театре, плача, рассказала, как злодейски был убит вчера Михоэлс, ехавший на машине. Газеты же сообщали об „автомобильной катастрофе““. Для меня в ее воспоминаниях не было никаких „открытий“. Я, узнав о смерти Михоэлса, сразу поняла, что убийство совершено намеренно, с заранее обдуманной целью».
В газетах об автомобильной катастрофе писали осторожно. Рассказала мне Анастасия Павловна и о том, что гроб с телом Михоэлса до панихиды повезли в лабораторию академика Збарского. Когда гроб открыли, кто-то, увидев «неповрежденное» тело Михоэлса (кажется, Зускин или Маркиш), крикнул: «Посмотрите, какая ссадина на правом виске! А как сжаты кулаки! Это убийство!»
«Был цинковый гроб. Этот цинковый гроб с большим трудом раскрыли, и представилась ужасная картина изуродованного лица Михоэлса с выколотыми глазами. Впоследствии был приглашен знаменитый – не знаю, как они называются, эти реставраторы лиц, – Герасимов, который работал над Михоэлсом и восстановил лицо, кроме глаз. И гроб открытый был поставлен на сцену…
После этих похорон, на которых присутствовала и конная милиция – невероятное количество народу, были почти все знаменитости театра, – была панихида в театре назавтра. Ночь он провел в театре на сцене. Потом увезли гроб в крематорий, где Михоэлс был кремирован».
«Уже после двенадцати Маркиш стремительно взбежал по лестнице в зал, где профессор Збарский, бальзамировавший когда-то Ленина, что-то делал с Михоэлсом (в книге Э. Лазебниковой-Маркиш неточность – гроб с телом Михоэлса в действительности повезли в лабораторию академика Збарского. – М. Г.).
Малое время спустя Маркиш вернулся в фойе. Он был бел, как снег.
– Не подымайся туда! – Маркиш указал на закрытую дверь зала. – Ничего общего со Стариком…
До пяти часов вечера Збарский „чинил“ разбитую голову Михоэлса, стараясь придать ей человеческий вид…» (Э. Лазебникова-Маркиш). Маркиш уединился в комнате на втором этаже театра и вскоре написал:
…Разбитое лицо колючий снег занес.
От жадной тьмы укрыв бесчисленные шрамы.
Но вытекли глаза двумя ручьями слез,
В продавленной груди клокочет крик упрямый:
– О Вечность? Я на твой поруганный порог
Иду зарубленный, убитый, бездыханный.
Следы злодейства я, как мой народ, сберег.
Чтоб ты узнала нас, вглядевшись в эти раны…
В сороковую годовщину со дня смерти С. М. Михоэлса на его могиле, как всегда в этот день, собрались близкие, друзья, актеры ГОСЕТа. Александр Евсеевич Герцберг, в прошлом актер ГОСЕТа, рассказал мне в тот день: «Не помню точно, но, кажется, в 1947 году я был свидетелем разговора между академиком Збарским и С. М. Михоэлсом. Збарский: „Люблю я этого еврея“. Михоэлс: „Не дай мне бог попасть в твои руки. Ты из меня сделаешь красавца!“. Черный юмор Михоэлса оказался пророческим».
Вскоре после похорон Михоэлса начались массовые аресты: взяли Гофштейна, Маркиша, Квитко, Беленького, Шимелиовича, тяжелобольного Зускина забрали ночью из больницы. Анастасия Павловна решила, что настал ее черед: «Не помню точно, в феврале или марте 1948 года ко мне пришли двое мужчин, очень похожих друг на друга (позже мы этот день назвали днем близнецов): стального цвета габардиновые плащи, велюровые шляпы и выражение лица между этими одеяниями оставили неизгладимое впечатление. Они интересовались моим материальным положением, спрашивали, вернули ли мне вещи погибшего мужа. Ушли буквально через 5–7 минут, а 16 марта, в день рождения Михоэлса, мне преподнесли истинный „подарок“: звонок в дверь. Я поняла – это за мной (существовал для своих условный звонок – один длинный, два коротких, а в тот день раздался обычный звонок). Я быстрым шагом подошла к двери (а в голове мысль: иду на эшафот. Что будет с детьми?). За дверью стоял пожилой человек в форме милиционера. Он, не переступая через порог, поставил на пол чемодан и дал мне расписаться в какой-то книге. Отдал честь и ушел. Я позвала Талу и Нину (дочерей Соломона Михайловича), мы открыли чемодан. Как же мы удивились: в первую же минуту мы увидели бумагу, на которой почерком человека, окончившего ликбез в зрелом возрасте, было написано: „Список вещей, найденных у убитого Михоэлса“. Мне казалось, что люди этих служб не допускают промахов ни в прямом, ни в переносном смысле. Увы! „Убитого Михоэлса“ (Дмитрий убиенный! – вдруг вспомнилось мне). Нервный плач и смех охватили меня… Когда я пришла в себя, мы начали вынимать вещи из чемодана. Сложены они были аккуратно, но явно по-мужски: сверху лежала шуба. Вдруг я увидела на воротнике след застывшей крови. Все поплыло перед глазами, только мелькал шарф Михоэлса, на котором я тоже заметила след запекшейся крови. О Боже! Да, с бдительностью у палачей дела плохи. Впрочем, может быть, они все просчитали: нас предупредил об „обете молчания“ сам член политбюро Каганович! А если мы „возникнем“, есть возможность предъявить нам обвинение „за клевету“. Может быть, таков их расклад!
Из вещей, найденных в чемодане, помню: палка сломана (она до сих пор хранится у меня), часы остановились в 8.40. Смотрим содержимое карманов. Чего только нет в них! (Я шутя называла карманы Соломона Михайловича „лавкой древностей“.) И среди всего содержимого в карманах талисманы. Слезы навернулись на глаза, когда мы брали в руки очередной талисман. Порой суеверный, как ребенок, верил Михоэлс в их всемогущество! Документы: командировочное удостоверение, свидетельство о смерти. Паспорта нет. Почему? И вдруг замечаем: в свидетельстве о смерти фамилия „Михоэлс“. Но ведь в паспорте – Вовси. Значит, свидетельство о смерти было выписано без паспорта (паспорт забрали как „свидетельство“ о выполненном задании), а свидетельство о смерти выписали на основании командировочного удостоверения. Снова „прокол“ у сотрудников служб».
Многим позже в своих воспоминаниях Э. Лазебникова-Маркиш расскажет некоторые новые подробности об убийстве Михоэлса. Жена генерала Трофименко, командовавшего в то время Белорусским военным округом, рассказала ей о том, что Трофименко не разрешили даже послать телеграмму соболезнования, которую он хотел отправить Анастасии Павловне. В МГБ знали, что Трофименко дружил с Михоэлсом. Знали прекрасно и о том, что последний день своей жизни он провел в доме Трофименко (кто знает, может быть, Михоэлс в тот день решил следовать любимому латинскому изречению «лови день»…). Из дома Трофименко он пошел в театр на просмотр спектакля, которому суждено было стать последним в его жизни. В 1956 году Ирина Трофименко рассказала Э. Маркиш, что убийство Михоэлса организовал генерал Цанава, в то время министр госбезопасности Белоруссии, выполняя приказ Берии. А телеграмму генералу Трофименко «категорически» не советовали посылать, видимо, из-за того, что не были уверены до конца, какова будет реакция на убийство Михоэлса «наверху» и, главное, какая версия случившегося будет одобрена.
Летом 1980 года мы с Анастасией Павловной были на Новодевичьем кладбище. Увидев памятник Льву Шейнину, она сказала: «Здесь хранится, и, наверное, уже навсегда, тайна убийства Михоэлса».
«Один из известнейших советских следователей, – пишет в статье „Заслуженный деятель“ (ЛГ. 1989. 15 марта) Аркадий Ваксберг, – рассказывал мне, что в бериевском ведомстве существовал особый отдел для подготовки и проведения таких операций. Во главе стояла тщательно законспирированная супружеская чета. Именно этот отдел и организовал убийство Михоэлса. В начале 1953 года, по словам моего собеседника, было подготовлено и убийство П. Л. Капицы, но смерть Сталина помешала осуществлению этого плана…»







