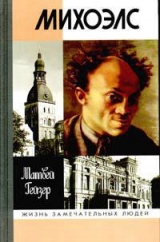
Текст книги "Михоэлс"
Автор книги: Матвей Гейзер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 25 страниц)
ШЕДЕВР ГАРМОНИИ И РИТМА
Время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать.
Екклесиаст
После очередного просмотра спектакля «Фрейлехс» великая Галина Уланова сказала: «Этот спектакль – шедевр гармонии и ритма».
Михоэлс слыл этаким Донжуаном. Действительно, в него влюблялись, его любили многие женщины.
Из рассказа Е. М. Абдуловой: «Я была свидетелем разговора Фаины Наумовны и Анастасии Павловны:
– Как Вы все это терпите, графиня? Я сижу у вас десять минут, а уже было сто звонков, и все – от женщин.
– Никогда ни к кому не ревновала, кроме Улановой: он не умел, даже не пытался скрыть свою влюбленность в нее. Когда в 1940 году он выступал с речью в Комитете по сталинским премиям, доказывая, что Уланова достойна этой награды, многие были против. Но он так сказал о ней, о ее искусстве, что премию ей присудили».
Вот отрывок из этого выступления Михоэлса 24 ноября 1940 года:
«Уланова – это болезнь моей души. Не могу о ней говорить спокойно. Дело не в том, что она неповторима. Конечно, она неповторима. Но я бы сказал, что она – божественна.
Уланова мне напомнила Комиссаржевскую. А что было в ней? Выходил человек на сцену, не произнося еще ни единого слова. Но вы сразу же ощущали появление целого мира.
Я не случайно говорю, что она божественна. После „Ромео и Джульетты“ в зале осталась даже, так называемая „галошная“ часть публики, – осталась та публика, которая обычно, не дожидаясь конца, бежит к вешалке. Есть предел аплодисментам и вызовам, можно вызвать десять-двенадцать раз. Но нет, ее вызывали без конца. В чем дело? От того ли, что хотелось высказать ей свою благодарность? Нет, хотелось лишний раз посмотреть на Уланову. Вот впечатление, которое она произвела.
Станцевать Шекспира и так, чтобы об этом потом говорили, что это действительно шекспировский образ, что такой Джульетты не было даже в драме, – значит открыть новую страницу балетного искусства. Это и сделала Уланова».
* * *
Еще в трагически тревожном сорок первом году, зимой, в гостинице «Москва», Михоэлс сказал писателю В. Лидину: «Когда снова откроются театры, надо будет начать с чего-нибудь шумного, веселого, чтобы люди встряхнулись. Довольно этого мрака».
О постановке «веселого» спектакля, совсем другого, чем те, которые ставились в ГОСЕТе в начале двадцатых годов, Михоэлс мечтал давно. Если бы не война, он бы, наверное, поставил такой спектакль, как потомок хасидов, помня слова Бешта: «Кто живет в радости, выполняет волю Создателя».
Надо сказать, что идея постановки «веселого» спектакля не всеми была принята восторженно. Можно ли говорить о веселье, когда земля еще стонет от бабьих яров, от печей Освенцима, и хотя сценарий «веселого» спектакля «Фрейлехс» был готов (его написал ученик Михоэлса Леонид Окунь), приступить к его постановке было непросто. Во всех театрах, в том числе и в ГОСЕТе, ставились спектакли на военную тематику. В ГОСЕТе шли «Восстание в гетто» Переца Маркиша, «Леса шумят» А. Брата и Г. Лынькова. А в это время Михоэлс уже мечтал о двух непохожих, даже противоположных спектаклях. Это «Принц Реубейни» и «Фрейлехс». Сценарий «Фрейлехса» был уже готов, и Михоэлс тайно договорился с Пульвером. Партийному функционеру, еврею по национальности, настоятельно рекомендовавшему Михоэлсу не ставить веселый спектакль в такое трудное время, он ответил словами Шолом-Алейхема: «Смеяться полезно». Партийный функционер фыркнул: «У вас же не местечковый театр, а еврейский государственный». Михоэлс промолчал, а придя домой, рассказал об этом Анастасии Павловне. Она ему напомнила слова И. Бабеля: «У каждого глупца хватает причин для уныния, и только мудрец разрывает смехом завесу бытия».
Немногие в Москве знали, что спектакль «Фрейлехс» в тяжелые военные годы был поставлен Вениамином Зускиным в Ташкенте. Конечно, это был совсем не тот спектакль, который увидели зрители в театре на Малой Бронной. И хотя в нем все было, по существу, сделано сызнова, ташкентские спектакли «Фрейлехса» не прошли бесследно, и свою первую репетицию Михоэлс начал с пословицы, как он нередко это делал: «Плакаться нужно перед Богом, а перед людьми – смеяться».
Михоэлс понимал, что память людская, и актеров театра в том числе, еще переполнена горькими воспоминаниями о недавно закончившейся войне. Каждый второй еврей СССР погиб в годы Великой Отечественной войны. Освенцим, Майданек, гетто на территории Украины и Белоруссии унесли жизни шести миллионов евреев, и эту трагедию по-настоящему понять могли только те, кто все это пережил. С этой точки зрения в будущем спектакле зрители и актеры были едины. О многом хотел Михоэлс напомнить своим спектаклем. В гетто расстреливали стариков – хранителей вековой мудрости еврейского народа; детей – наследников, надежду, будущее. Простить? Забыть? Горькая память о прошедшей войне стала для евреев СССР не только «Черной книгой», но и самой жизнью. Знаток Священного Писания, Соломон Михоэлс всегда помнил слова из Второзакония: «Только берегись… чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и поведай о них сынам твоим…» Он понимал, что в заповеди этой историческое таинство судьбы еврейства.
Убеждать зрителей в том, что самое страшное позади, нечестно и негуманно. Никогда нельзя думать, что существует простой путь положить конец горьким воспоминаниям, так же как невозможно простить людскую ненависть, злодеяния. Но вера в то, что надежда жива, пока жива память человека, должна оставаться в людях. Вот почему так вдохновенно работал Михоэлс над постановкой «Фрейлехса».
«Фрейлехс» – не только свадьба… В начале спектакля звучал кадиш, вечный кадиш, сопровождающий евреев в течение многовековой истории. «Фрейлехс» – спектакль с трагедийными мелодиями, но трагедия даже целого поколения не должна, не может остановить жизнь: извечная библейская мысль о любви к жизни пронизывает весь спектакль. Обряд поминания и замечательно показанное свадебное торжество в спектакле естественно сочетаются; в нем органически уживаются танец бывшего рекрута царской армии, рассказавший зрителям об изуродованных судьбах тысяч юношей черты оседлости, и виртуозно исполненный народный танец фрейлехс. «Нужно, чтобы весь человек пел, тогда заиграет скрипка», – говорит на свадьбе бадхен.
Первоначально Михоэлс выстраивал «Фрейлехс» иначе. Вот заметки из архива:
«I. Общий вихревой танец.
Музыка доносится как бы издалека, постепенно притихающая. Появляются мелькающие вдали фигуры, которые постепенно занимают арьерсцену, а потом подвигаются на авансцену. Темпы растут, и музыка ширится.
В момент, когда музыка и танец достигли… бадхен, реб Екл как бы загораживает общее движение собой. Платком он загораживает занавес. Музыка обрывается. Реб Екл один на сцене.
II. Остановись, мгновение, ты прекрасно.
Дай запомнить мне пляс отцов и матерей. Танец – это разговор».
Тема скрипки, еврейской скрипки, звучит в спектакле постоянно, ибо этот тончайший инструмент может прочувствовать только человек, познавший многовековую грусть народа, грусть, ставшую естеством. Люди, недавно пережившие Катастрофу, поняли глубокий гуманный смысл спектакля, зал театра в течение сезона 1945/46 года снова был переполнен, как в лучшие времена.
Один из зрителей, Г. Гольденберг, написал в письме Михоэлсу 2 апреля 1946 года: «Меня угнетала мысль, что будет с нашим народом, – сумеет ли он вынести муки пережитого, воскреснет ли он вновь, как в те далекие годы, когда полчища Тита разрушили Храм Соломона – или не хватит сил больше, и усилится процесс ассимиляции. И я сижу в театре, в нашем родном театре. И на своем родном языке слушаю призыв, и каждый в зале говорит то же самое: „Не будем стесняться своей крови“. Больше того, в нашей стране мы, евреи, не бедные родственники. В этот момент крепло убеждение – жил, живет и вечно будет жить Израиль. И на глазах появляются слезы. Это не слезы горя, а радости, Гитлер пропал без вести, Геббельса нет в живых… но яд их продолжает действовать…»
Немного раньше Д. А. Драгунский писал Михоэлсу о том, что Антифашистский еврейский комитет должен уделить больше внимания увековечению памяти евреев, погибших в годы войны: «Мне кажется, что эти мероприятия явятся фактором, ослабляющим отдельные моменты антисемитизма, внедренные геббельсовской пропагандой в дни оккупации. Поставьте этот вопрос перед соответствующими организациями. В этом деле обязуюсь оказать всяческую поддержку. С приветом, уважающий Вас дважды Герой Советского Союза полковник Драгунский».
Следует заметить, что, став в 80-е годы во главе Антисионистского комитета, Д. А. Драгунский словно забыл о своих словах, написанных после войны, и уж менее всего склонен был признать причастность сионизма к национально-освободительному движению в Палестине. Скорее наоборот. Он разделял мнение тех, кто отождествлял сионизм с фашизмом. Можно было бы сказать по этому поводу: «Генералу – виднее», но среди оппонентов Давида Абрамовича оказался даже Мейер Вильнер, генеральный секретарь коммунистической партии Израиля, который в своей статье в «Литературной газете» (декабрь 1989 года) заявил: «Я не считаю, что сионизм – это фашизм».
Сотни писем, полных благодарности и восторга, получал Михоэлс в те годы. Люди писали ему о своей жизни, обращались с самыми различными просьбами, просили приехать к ним в Бердичев, Винницу, Шполу, Бершадь и показать «Фрейлехс» у них в местечке, чтобы все оставшиеся в живых посмотрели этот «спектакль о человеческом сердце, впитавшем в себя события разных времен, события большой жизни…». Все они были наслышаны о «Фрейлехсе», спектакле «о неугасимой душе, неиссякаемой воле к счастью, о мечте человеческой и народной» (Ю. Головащенко).
5 июня 1946 года за постановку «Фрейлехса» Михоэлсу была присуждена Сталинская премия.
Здесь уместно вспомнить два эпизода, ярко характеризующих Михоэлса тех лет. Михоэлс был выдвинут на соискание премии еще в 1945 году. Но тогда возникла еще одна кандидатура – А. М. Бучмы за исполнение роли Задорожного в «Украденном счастье». Михоэлс как член Комитета по сталинским премиям ратовал за присуждение премии Бучме, даже «показывал» куски из спектакля, и премию Бучме присудили. Таков был человеческий дар Михоэлса.
Второй эпизод имел место на заседании Комитета по сталинским премиям незадолго до присуждения ее Михоэлсу. Приводим отрывок из стенограммы:
« МихоэлсС. М.: – Список исчерпан.
МясковскийН. Я.: – Может быть, я допущу бестактность по отношению к театральной секции, но мне кажется, что список неполный, я не вижу фамилию одного из выдающихся артистов, который еще работает, – Михоэлс.
МихоэлсС. М.: – Разрешите дать объяснение. Наша секция обсуждала кандидатуру, но я просил снять. За последние годы я ничего выдающегося не сделал, годы же у меня не очень большие – 54-й, впереди дорога, могу работать. За последние годы не сделал выдающегося, потому что был занят общественной работой.
МухинаВ. И:. – Разрешите напомнить, почему первый раз не прошло. Тогда было неизвестно во время голосования, как исключаются авторские голоса. Мы советовались с Соломоном Михайловичем, должны ли мы выключить свои голоса. Я выключила и Соломона Михайловича. Оказывается, наши голоса механически исключаются. Я напоминаю потому, что это была чистая случайность. Два голоса вместо одного.
МихоэлсС. М.: – Я очень прошу вопрос обо мне снять. Это мое глубокое убеждение. Я могу подождать».
В словах Михоэлса не было и тени ложной скромности, кокетства тем более. Вполне вероятно, что он любил награды, успел привыкнуть к почестям, но понимал, какова может быть расплата.
* * *
7 января 1949 года, выйдя из комнаты и прощаясь с Анастасией Павловной, суеверный Соломон Михайлович, не решившись вернуться, сказал: «Запиши, Асенька, мой маленький рассказ „Скрипка“; я хотел его поместить в сценарий „Фрейлехса“, но не успел, а сейчас боюсь, что не сумею рассказать никогда».
Вот этот рассказ.
«Бывало так, что в жизни накопится столько, что словом не выскажешь, тогда и появилась песня. А уж если и голос не выскажет всего, тогда человек обращается к ней, к скрипке.
Древнейший виртуоз с весьма неважным социальным положением, прямо скажем, подмоченным, царь Давид, к ней обратился, на ней псалмы слагал, Всевышнему похвалы посылал, на ней песню любви сложил и послал эту песню прелестной Батшеве. Он-то и открыл нам секрет своего искусства, он-то и утверждал, что когда он песню слагает на скрипке, все кости его разговаривают.
Нет нужды в костях сегодня! Печи Майданека и Треблинки их создали вдоволь. Если эти кости заговорят, скрипок на свете не хватит.
Можно сыграть образ молчаливого человека. Человека, который всегда молчит. Если он и может говорить, то разве только петь скрипкой.
Женщина, зовущая к жизни, и женщина его мечты встречаются на его пути. Он безумно любит и тянется к первой, а второй говорит: „Говорить не могу и играть не могу, все загрязнено на пути, чистым остался только снег“. И женщина мечты ответила: „Тогда играй снег“. Но снег играть не пришлось. Позвали играть на свадьбу. И скрипка была настроена, и песня была готова. Но, придя на свадьбу, он увидел невестой другого ту женщину, которую любил и к которой тянулся…
И скрипка была разбита: „Надоело играть на чужих свадьбах! На своей играть хочу, а своей свадьбы нет!“
И народу надоело играть на чужих свадьбах. Только надо ли разбивать скрипку?..»
Однажды эту притчу он уже читал Елизавете Моисеевне Абдуловой в Ташкенте. Со свойственным ей оптимизмом она сказала: «У нас, Соломон Михайлович, еще будут свои свадьбы».
* * *
В журнале «Театр» (1946. № 9) опубликована речь Михоэлса по поводу постановления ЦК ВКП(б) о фильме «Большая жизнь». На каком-то высоком совещании по идеологическим вопросам он выступил после Храпченко, тогдашнего «командира» в вопросах искусства, и Фадеева, «вождя» писателей. Возможно, это была очередная «дань» за будущий спектакль.
В те же дни он выступал и перед актерами своего театра – читал им новую пьесу Д. Бергельсона «Принц Реубейни».
ПОСЛЕДНИЕ ВСТРЕЧИ
Почему перед отъездом в Минск Михоэлс навещал, звонил давним друзьям, с которыми подолгу не встречался… Вопросительный знак снял в своей статье «Посмертная автокатастрофа» журналист Евгений Жирнов: «Обласканный советским государством артист не мог не чувствовать, что его затягивает водоворот какой-то странной кремлевской интриги. А уж то, что убийцы с Лубянки ходят за ним по пятам, Михоэлс знал совершенно точно».
* * *
Одним из самых близких друзей Михоэлса был академик Капица.
Из воспоминаний А. П. Потоцкой: «Перед самым отъездом в Минск, в январе 48-го года, неизвестно почему, без всякого предлога Михоэлс позвонил Петру Леонидовичу по телефону и сказал ему свои последние приветственные слова. Повторяю: без всякого предлога и повода.
Может быть, просто Михоэлс не мог выбрать другой формы оплатить свой долг – не состоявшийся на русском языке спектакль „Гамлет“ – и выразить неиссякающее уважение, теплоту и восторженный интерес к тому, чем живет и над чем работает Петр Леонидович…
Вспоминается заздравный тост Михоэлса за Петра Леонидовича Капицу на банкете в честь его пятидесятилетия. Соломон Михайлович поднял бокал и сказал: „Дорогой Петр Леонидович! Моя жена всегда говорит…“ Здесь он сделал паузу, от которой у меня побежали мурашки, физик справа налил рюмочку водки, а физик слева – бокал белого вина…
„Так вот, – продолжал удовлетворенный всем этим Михоэлс, – моя жена говорит, что никогда не надо пить всю рюмку разом. Если пить ее глотками, то в одной рюмке можно уложить несколько тостов. Поэтому разрешите мне разделить этот бокал на три глотка и три тоста…
Я никогда не забуду ваше замечательное выступление на антифашистском митинге, бесконечно перед вами в долгу, и хотя я немало приложил сил для того, чтобы развеять версию о том, что вы – еврей, и добился этой цели, остаюсь вашим должником. Счет, предъявленный вами, – спектакль „Гамлет“ на русском языке – оплачу!
Второй мой тост… Дорогой Петр Леонидович! По опыту своему говорю вам: из-за пятидесяти лет не грустите! Выпьем лучше за то, что настоящая молодость приходит с годами.
И, наконец, третий мой глоток-просьба!.. Пожалуйста, создавайте тяжелую воду, переводите жидкость в газ, в твердое тело, во что хотите, только оставьте нам нормальные спиртные напитки!“»
Когда в середине 30-х годов Соломон Михайлович и Анастасия Павловна поселились в большой комнате на первом этаже старого дома на Тверском бульваре – Михоэлс уважительно называл ее «кабинетом», а хозяйка дома бесцеремонно окрестила «книгоплощадью» – Петр Леонидович Капица, недавно вернувшийся из Англии, стал наряду с А. А. Вишневским, Л. С. Штерн, академиком Тарле, Браунштейном частым гостем Михоэлсов. («…Талантливые люди самых разных профессий, разного возраста всегда тянутся друг к другу», – заметила в своих воспоминаниях А. П. Потоцкая.)
Когда перед роковой поездкой в Минск, прощаясь с близкими людьми и сотрудниками в театре, Соломон Михайлович позвонил Петру Леонидовичу, звонок этот несколько озадачил Капицу, особенно когда он узнал, что Михоэлс уезжает ненадолго. Он думал, что Соломон Михайлович звонит, чтобы пригласить его в гости. А тут вдруг: «…скоро приеду, Гамлет – за мной».
13 января 1978 года Петр Леонидович со своей женой Анной Михайловной пришел к Анастасии Павловне в ее «купе» – маленькую комнатку в доме на Ленинском проспекте. В тот день исполнилось тридцать лет со дня гибели Михоэлса. Капицы и Потоцкая долго беседовали, вспоминали друзей, общих знакомых, юбилеи. Кроме Петра Леонидовича и его жены к Анастасии Павловне никто в тот день не пришел. Звонили, правда, многие.
* * *
Среди близких друзей Михоэлса был поэт Самуил Яковлевич Маршак. 14 ноября 1947 года в Колонном зале помпезно отмечалось шестидесятилетие Маршака. Председательствовал на вечере Фадеев, что свидетельствует о степени значимости события. Выступил на нем и Михоэлс. Он со свойственным ему юмором выразил сожаление по поводу того, что для ГОСЕТа Маршак еще ничего не создал. Вот цитата из его выступления: «Самуила Яковлевича называют здесь детским писателем, поэтом, драматургом, переводчиком. Я думаю, у него есть еще более общее качество и более высокое. О царе Соломоне (да простит мне Самуил Яковлевич это сравнение), которого, однако, называли мудрецом, несмотря на то, что он был царем, говорят, он был знатоком семидесяти языков. Он знал все языки мира. Кроме того, он знал язык птиц, язык зверей, язык животных. Нет, Маршак не переводчик – Маршак знаток языков. Мало того, что он знает свой русский язык, знает английский язык, французский язык, блестяще владеет ими, – он еще знает язык детей, знает язык советских детей и умеет разговаривать с врагами нашей Родины, умеет остро оттачивать слово, как стрелу».
Михоэлс звонил Маршаку в новогоднюю ночь 1948 года. Самуил Яковлевич тогда был в больнице, и свои поздравления и объяснения в любви Соломон Михайлович передал через Иммануэля Самойловича – сына поэта. Уже спустя время, когда погиб Михоэлс и Маршак узнал об этом звонке в новогоднюю ночь, он с обидой в голосе сказал сыну: «Элик, почему ты не дал ему мой больничный номер телефона?!»
Вскоре после гибели Михоэлса Маршак написал проникновенные стихи «Памяти Михоэлса»:
…Вот он лежит, неподвижный и суровый.
Но этой смерти верится с трудом!
Здесь много лет я знал его живого,
Но как переменился этот дом!
Не будь афиш, расклеенных у входа,
Никто бы стен знакомых не узнал.
Великая трагедия народа
Вошла без грима в театральный зал…
Ты, сочетавший мудрость с духом юным,
Читавший зорко книги и сердца, —
Борцом, актером, воином, трибуном
С народом вместе шел ты до конца…
Не на поминках скорбных, не на тризне
Мы воздаем любимому почет.
Как факел, ты пылал во славу жизни,
И этой жизни смерть не оборвет!
Когда готовился сборник воспоминаний о Михоэлсе, Анастасия Павловна обратилась к Самуилу Яковлевичу с просьбой, чтобы и он написал заметки об этой книге. Вот отрывок из его письма Анастасии Павловне: «Вы знаете, как глубоко я чту Соломона Михайловича – великого художника, истинного поэта и безупречного, с большой буквы человека. Мы с ним нежно любили друг друга, радовались друг другу и находили общий язык, но встречались мы, к сожалению, мало и редко – ведь времена-то были какие! – и поэтому деталей, необходимых для того, чтобы не ограничиваться в воспоминаниях чувствами, у меня мало. Да и чувства, связанные с его прекрасной жизнью и трагическим концом этой жизни, не так-то легко еще предать тиснению. А писать общо, отвлеченно я не умею. Все же, как я сказал уже в этом письме, постараюсь…»
Сделать этого Самуил Яковлевич не успел. Письмо написано в Ялте 27 июля 1963 года. Самуил Яковлевич в ту пору был уже тяжело болен. 4 июля следующего года он умер.
* * *
О великих актерах, Соломоне Михайловиче Михоэлсе и Фаине Георгиевне Раневской, написано немало статей, книг. И все же есть малоизвестная общая страница их биографий, оставшаяся за пределами исследований и публикаций – дружба этих двух замечательных людей. Дружба не в том общепринятом понятии, которое сводится к частым встречам, постоянному общению, беседам… Скорее, это была та редкая истинная дружба, которая возникает между людьми, на первый взгляд далекими друг от друга и по образу жизни, и по ее восприятию, но в основе которой таится что-то непостижимое, позволяющее скрашивать горести и умножать радости.
«Дорогой, любимый Соломон Михайлович! Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы вы скорее оправились от болезни, мне знакомой… Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь докучать моей любовью. Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну. Душевно Ваша Раневская».
Ниже я приведу еще один отрывок из этого письма, написанного в 1944 году. Пока же хочу рассказать о другом.
В марте 1965 года в ВТО был проведен вечер, посвященный 75-летию Михоэлса. Это был особый вечер и по содержанию (достаточно сказать, что на нем выступили Ю. А. Завадский, А. Г. Тышлер, И. С. Козловский, П. А. Марков), и по царящей на нем атмосфере. Все ожидали выступления Ф. Г. Раневской, но его так и не было.
– Я, как, впрочем, и многие, была не только в недоумении, но даже расстроена, – рассказывала Анастасия Павловна. – Попыталась встретиться с Фаиной Георгиевной, но поговорить с ней не удалось – она, видимо, ушла сразу же после окончания вечера. Надо ли вам объяснять состояние моей души?.. Конечно же заснула только под утро, да и то сидя в кресле. И тут звонок: «Анастасия Павловна, милая, замечательная моя! Не спала всю ночь после вчерашнего. Думала о Михоэлсе. Счастью моему не было предела. И волнению тоже… Боялась, что не выдержит сердце, так была взволнована. Простите, что звоню в такую рань – это не в отместку за звонок, который сделал мне Соломон Михайлович в два часа ночи после спектакля „Капитан Костров“… Так вот, дорогая Анастасия Павловна, я вчера не выступала не только из-за волнения, но помешало что-то еще: моя излишняя застенчивость и очень яркие выступления на этом вечере… Я хотела после вечера отдать вам свои записи – наброски к выступлению, но вы были окружены людьми, а у меня не было сил еще ждать… Я непременно передам вам эти свои записи».
К сожалению, Фаина Георгиевна свои записи о Михоэлсе так и не передала. Но, по счастью, в архиве Раневской сохранилось ее письмо к Анастасии Павловне: «Дорогая Анастасия Павловна! Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича. Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть и слушать его.
В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко „Капитан Костров“, роль, как я теперь вспоминаю, я обычно играла без особого удовольствия, но, когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть – Соломон Михайлович смотрит на меня.
Придя домой, я вспоминала с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла. В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: „Ведь вы все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать и спите спокойно – совсем неплохо играли“. А я подумала, какое это имеет значение – провалила ли я роль или нет, если рядом добрый друг, человек – Михоэлс. Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, нет, никто так больше и никогда так не поступал. Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной. Он сказал мне, знаете, я получил письмо с угрозой меня убить. Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище – одна комната, без солнца, за стеной гудит лифт денно и нощно. Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека. Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ. Он был озабочен, печален… Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки? „Жене привез подопытных мышей для научной работы“. А себе? „А себе кепку, в которой уехал…“».
Письмо это не закончено, а уж почему Фаина Георгиевна к нему не вернулась, нам сегодня остается только гадать.
Вот письмо Потоцкой, написанное Раневской 6 января 1979 года, по возвращении со спектакля «Дальше – тишина»: «А ведь Вы – действительно удивительная, дорогая Фаиночка! Вы дороги тысячам людей, дороги поколениям актеров! Вы бесконечно дороги Михоэлсу и мне, и сегодня я не могу не написать Вам. Спектакль „Дальше – тишина“ я смотрела трижды и каждый раз уходила с ощущением огромного нового дыхания, того самого, которое так нужно, чтобы жить и быть человеком. Это то дыхание, украденное зрителем от таланта актера, которое помогает не существовать, а жить, жить, думать и работать.
Меня иногда упрекают в том, что о ком бы, о чем бы я ни писала – я обязательно „свожу все к Михоэлсу“. Это не так плохо, Фаиночка, если в этом письме я напомню Вам о том, каким Михоэлс был провидцем, как он умел предвидеть. В день его 75-летия Вы позвонили мне и сами напомнили о поразительном звонке Соломона Михайловича, свидетелем которого я была. Это было в три часа утра (или ночи – как хотите). Он звонил Вам, я пыталась удержать его: „В три часа!“ „Нет, – сказал Михоэлс, – она поймет, что я рядом, и ей станет легче, а разве лучше, если она будет метаться в одиночестве?!“ И тогда состоялся этот самый телефонный разговор: „Фаиночка, я знаю, что ты не спишь. Ты сегодня играла не так, как ты умеешь! Ну и что? Я тебе говорю очень серьезно – это все ничего не значит. Подумаешь – „Капитан Костров“! Ведь ты такая актриса, которая… ну обязательно, обязательно… словом, ты сыграешь, и сыграешь не одну роль. И сыграешь замечательно! Да, это я – Михоэлс. Обнимаю“. Мне к этому прибавить нечего. Вы играете замечательно, как и обещал Соломон… Спасибо! Обнимаю, целую Вас, Фаиночка, очень-очень Вас люблю „одна за двоих“».
14 июня 1978 года, в день памяти Осипа Наумовича Абдулова, в его доме обычно собирались его друзья. Все, кто бывал в квартире Абдуловых после смерти Осипа Наумовича, непременно отмечали особое умение Елизаветы Моисеевны, вдовы актера, сохранить ту атмосферу, которая была при жизни хозяина. В небольшой комнате справа от прихожей, где собралось много людей, особо выделялся Ростислав Янович Плятт. Он был еще статен, выпивал и курил. Он бурно приветствовал появление Анастасии Павловны, и тут же произнес тост в память о тех, кто всегда жив в этом доме: «Я и сегодня не мыслю, что нет среди нас двух гостей, Осипа Наумовича и Соломона Михайловича. Мне кажется, сейчас они войдут в эту дверь и обнявшись споют свой любимый дуэт „Распрягайте, хлопцы, коней“»:
Распрягамо хлопщ конев
Тай сидаймо водку пить.
Я до дому не пойду —
Дуже жiнка будет быть.
Застолье было в разгаре, когда раздался длинный, требовательный звонок. «Это наверняка Фаина Георгиевна», – уверенно сказал Ростислав Янович. И она вошла быстро, шумно, заполнив собой всю комнату:
– Я поднимаю тост за Елизавету Моисеевну, сумевшую сохранить неповторимую абдуловскую ауру в этом доме.
Тут слово попросила Анастасия Павловна:
– Как старшая за этим столом, я прошу разрешения на второй тост.
– Вы делаете мне комплимент, графиня Потоцкая, – бархатно прозвучал низкий голос Раневской. – Но старшая за этим столом, безусловно, я!
– Извините, дорогая Фаина Георгиевна! Меня «старшей» назначил сам Соломон Михайлович. Он сказал мне в первые месяцы нашего знакомства, что мы с ним родились «старшими», то есть ответственными за многих и за многое. А сейчас, знаете, что мне вспомнилось? Наши встречи в Ташкенте, и как мы все жили там во время войны, и какую веру, надежду в нас поддерживали и Осип Наумович, и Соломон Михайлович. Всех нас, собравшихся здесь, объединяет память о прошлом, о людях, которых нет сегодня с нами; я предлагаю тост за память – единственную возможность победить время…
И она напомнила о том, как в Ташкенте, в Театре оперы и балета, 4 и 5 апреля 1942 года была организована благотворительная акция «Работники искусств эвакуированным детям», в которой принимали участие Б. Бабочкин, Н. Черкасов, М. Штраух, Л. Свердлин, Т. Макарова, X. Насырова, В. Зускин и О. Абдулов… На вечере 5 апреля выступили и А. Толстой, С. Михоэлс, Ф. Раневская. Об этом же Анастасия Павловна написала в своих воспоминаниях о Михоэлсе:
«Последним номером поистине великолепной программы вечера была небольшая пьеса, написанная А. Толстым и поставленная Протазановым и Михоэлсом.
Перед самым началом мы с Людмилой Ильиничной Толстой пробрались за кулисы, запасшись буханкой черного хлеба, так как знали, что наши актеры с утра ничего не ели.
Хлеб очень пригодился. Нашелся какой-то немыслимый нож из тех, которые бывают только у мясников!.. С его помощью огромные ломти буханки быстро исчезли, несколько подкрепив силы актеров.
И вот занавес открыт.







