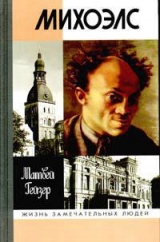
Текст книги "Михоэлс"
Автор книги: Матвей Гейзер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
И Михоэлс 5 февраля 1935 года сыграл Лира. Премьера, на которой были маршал Тухачевский, Карл Радек, потрясла театральную Москву.
«Мы горячо приветствуем… замечательного мастера Михоэлса, режиссера Радлова с этой большой победой, мы приветствуем также то, что лучшие московские актеры собираются совместно посмотреть и продискутировать спектакль, чтобы учиться у своих еврейских коллег» (Карл Радек).
«Своей игрой Михоэлс оправдал мою юношескую любовь к „Лиру“, дав в этом образе сочетание легкости и глубины» (О. Пыжова).
«„Король Лир“ в ГОСЕТе – выдающееся событие в театральной жизни. Несмотря на незнание языка, я полностью ощутил страсти и гармонию мыслей шекспировских персонажей.
Я необычайно рад за еврейский театр и его актеров. В постановке классической пьесы они полностью преодолели национальную ограниченность. На этом спектакле я ощутил такую трепетность исполнения, какая бывает у актера только в юношескую пору его творчества.
Михоэлс больше всего понравился мне в III действии, сцене воображаемого разговора с дочерью. Смена состояний, переход от одного состояния к другому были сделаны изумительно» (Д. Орлов, заслуженный артист республики).
«Спектакль „Король Лир“ в ГОСЕТе показал огромные возможности этого театра. Прежде всего нужно отметить четкость актерского исполнения и большую культуру речи. Театр впервые выступает с классическим репертуаром. Однако спектакль целиком выдержан в старых классических тонах, на которых я воспитана. Поразила меня удивительная ритмичность спектакля, согласованность с музыкой не только движения, но и речи.
Из актеров мне больше всего понравились Михоэлс (в роли короля Лира), Зускин (в роли Шута) и Финкелькраут (в роли Кента). И прежде всего Михоэлс. Его влияние чувствуется на всем спектакле» (Е. Турчанинова, заслуженная артистка республики).
«Он создал глубокий, философский, художественный образ Лира… С огромным мастерством раскрыл Михоэлс не только внутренний мир Короля, но и характерные особенности всего того мира, в котором жил и погиб величественный слепец. Какие глубокие мысли окрыляли эту работу артиста! Какой волнительный, напряженный путь философских поисков!» (Н. Охлопков).
«Я видел в Московском государственном еврейском театре превосходную постановку „Короля Лира“, с крупным артистом Михоэлсом в главной роли и с замечательным Шутом Зускиным, – постановку, блестяще инсценированную, с чудесными декорациями» (Л. Фейхтвангер).
«Я помню великого артиста Соломона Михоэлса по моему первому посещению Москвы… Я помню, конечно, его великий спектакль „Король Лир“ Шекспира. Я думал о нем, как о появлении в России нового Ира Олдриджа – великого американского актера, негра по происхождению, исполнявшего эту же роль в середине XIX века» (П. Робсон).
Сдержанный в оценках Гордон Крег, посмотрев весной 1935 года «Короля Лира», писал о спектакле:
«…Подлинной неожиданностью, без всякого преувеличения – потрясением оказался для меня „Король Лир“! Должен сказать, что эта пьеса является наиболее близкой и любимой мною из всего шекспировского репертуара. Поэтому я шел в театр на спектакль с нескрываемым недоверием. Я даже предупредил Михоэлса, чтобы мне было оставлено такое место в театре, с которого я мог бы подняться и уйти, когда мне это заблагорассудится. Но вот я в партере. Я понял сокровенный трагический смысл жеста рук актера Михоэлса во второй сцене первого акта, и я понял также, что с такого спектакля уходить нельзя. Со времен моего учителя, великого Ирвинга, я не запомню такого актерского исполнения, которое потрясло бы меня так глубоко до основания, как Михоэлс своим исполнением Лира. Я не умею и не люблю говорить комплиментов даже там, где имею для этого достаточно основания.
Но какие бы похвалы ни были сформулированы по адресу актера Михоэлса, это не будет преувеличением» (Советское искусство. 1935. 5 апреля).
Все эти слова Михоэлс прочел, услышал уже после премьеры, а до нее даже люди, высоко ценившие талант Михоэлса, сомневались:
«Когда Михоэлс говорил мне о своем намерении играть „Короля Лира“, я отнесся к этому очень скептически. Я боялся, что эта драма Шекспира, являющаяся не только хронологически одной из последних его пьес, но и венцом его художественной мощи, не дойдет до массового зрителя, как не дошла бы, быть может, „Антигона“ Софокла» (Карл Радек).
Радек был не одинок в своих опасениях: к моменту начала работы над постановкой «Короля Лира» никто из актеров ГОСЕТа не поддерживал Михоэлса в его начинании, полагая и высказывая вслух, что Шекспир – не для еврейского театра. Но Соломон Михайлович оставался тверд в своих намерениях. Он рассказывал А. Дейчу: «На очереди „Король Лир“. Я уже не могу без него. Но в театре все против меня, даже Зускин: боятся провала, говорят, что это не наше дело, что надо питаться национальным репертуаром. Сегодня мне удалось сломить упорство. Я убедил их, что „Король Лир“ – это, собственно говоря, библейская притча о разделе государства в вопросах и ответах».
«8 марта 1934 года Соломон Михайлович поздравил нас с праздником и шутя заметил: мужчины должны дарить женщинам счастье, – рассказала мне Э. И. Карчмер, – а счастье для истинной актрисы – сыграть в „Короле Лире“. „Сопротивлению“ нашему пришел конец. Первой „сдалась“ Берковская (жена Зускина), за ней С. Д. Ротбаум (она, со свойственным ей юмором, сказала: „Если в спектакле нет роли жены Лира, я сыграю его старшую дочь…“).
Одна за другой актрисы Минкова, Розина, Ицхоки согласились участвовать в спектакле.
– Ну, теперь я уверен, мы поставим „Короля Лира“ на сцене ГОСЕТа. Если мужчины наши не с нами, то мы их заменим другими.
– Кто вам сказал, Соломон Михайлович, что мы не хотим играть в „Лире“? Я всю жизнь мечтал о роли графа Кента, – сказал М. Штейман. – Просто чуточку боялся…
Гертнер, Шехтер, Гукайло дружно скандировали: „Лир в ГОСЕТе!“ В глазах Михоэлса просияла улыбка победителя…
– Первая читка „Короля Лира“ завтра в фойе в 10 утра…»
О распределении ролей он думал уже давно.
В статье «Моя работа над „Королем Лиром“ Шекспира» Михоэлс подробно рассказывает о своей работе со многими актерами.
«Ротбаум – актриса, в прошлом получившая образование у Рейнгардта. Она усвоила в школе Рейнгардта одно из наименее выгодных направлений, в котором все внимание актера было обращено на произношение слова… Ротбаум, сохраняя полную неподвижность рук, все время делает усиленные движения головой, стремясь как бы подчеркнуть смысловую сторону слова.
Но именно в трагедии Шекспира эта сдержанность жеста может создать некую монументальность и с особой силой раскроет в образе Гонерильи ее надменность и то особое, циничное равновесие, с которым Гонерилья мучила своего отца.
Если бы образу Гонерильи придать подвижность, он сразу стал бы суетливым и мелким. Таким образом, дефект обычной манеры актрисы даст здесь некоторую прибыль.
Гертнер – актер одаренный, хотя внешние данные у него небогатые. У Гертнера несколько глухой голос, посредственная музыкальность, чисто внешнее чувство ритма… Все, что он знает, он постиг „в порядке самообразования“. Знает он довольно много, хотя его знания довольно эмпиричны, разрозненны: как и большинство актеров нашего театра, Гертнер относится к людям пассивной мысли. У него нет способности к обобщению…»
Но в том-то и заключалось искусство режиссера-педагога Михоэлса, что даже слабости актеров он превращал в достоинства…
«Есть у Эдгара такие слова: „Я ленив, как свинья, / Я хитер, как лиса, / Я зол, как пес“.
Задача Гертнера-Эдгара разыграть притворное безумие. Гертнер при слове „свинья“ – хрюкает, при слове „лиса“ ловко переворачивается, иллюстрируя движением хитрость, „извилистость лисы“, а при слове „пес“ – начинает лаять.
Но парадокс заключается в том, что в роли Эдгара этот прием оказался более уместным и удачным».
О Зускине в статье написано особенно тепло:
«…Особняком в этой нашей работе над Шекспиром стоит Зускин – актер с исключительно ярким дарованием. Природа дала ему бесконечно много…
В творчестве Зускина преобладающее значение всегда имеет не разум, а интуиция. Внутренний мир, мир чувствований и ощущений играет для него решающую роль. И именно это качество очень часто делает его искусство чрезвычайно народным… Первое, что он замечает в человеке, это то, что в нем трогательно. Второе – то, что в человеке смешно и что делает его живым. Смешное, пожалуй, по мнению Зускина, отличает живого человека от мертвого. Вообще чувство юмора чрезвычайно сильно в Зускине, но его юмор почти всегда окрашен в лирические тона. Он редко прибегает к острому оружию сатиры. Это происходит не потому, что Зускин обладает большой терпимостью по отношению к человеку вообще. Будучи актером с головы до ног, он социальное всегда персонифицирует. На месте явлений, абстрактной идеи у него всегда вырастает конкретный образ человека. Часто это человек очень маленький, с ограниченными требованиями и крошечными целями. А для обрисовки такого человека пользоваться огнем сатиры было бы так же неуместно, как стрелять из пушек по воробьям. Вполне достаточно здесь довольствоваться уютным игрушечным „пугачом“ юмора.
В беседе с Радловым Зускин очень часто останавливался на вопросе о национальном колорите Шута – в этом образе он хотел подчеркнуть национальные еврейские черты. Для Зускина такое желание было более чем естественно, ибо лучше всего он знал еврейскую среду. Самые острые, самые важные впечатления он вынес из своего детства – из своего родного города, из родной семьи.
Сергей Эрнестович Радлов считал, что Шут должен создавать двойное впечатление. Это должен быть не только английский шут, лучше всего сделать его английско-еврейским шутом. На том и порешили».
Работать с Радловым актерам ГОСЕТа было интересно и привычно, но путь театра к Радлову на сей раз был длинным и сложным.
Михоэлс когда-то думал поставить этот спектакль вместе с Лесем Курбасом, основателем и руководителем киевского театра «Березиль», изгнанным из Киева за «национализм». О знакомстве с Курбасом Михоэлса сохранились воспоминания О. Мандельштама:
«На днях в Киеве встретились два замечательных театра: украинский „Березиль“ и Еврейский камерный из Москвы. Великий еврейский актер Михоэлс на проводах „Березиля“, уезжающего в Харьков, сказал, обращаясь к украинскому режиссеру Лесю Курбасу: „Мы братья по крови“… Таинственные слова, которыми сказано нечто большее, чем о мирном сотрудничестве и сожительстве народов.
Между тем оба театра совершенно непохожи, даже полярны. Еврейский камерный, приехавший в Киев на шестинедельные гастроли, прикоснулся к родной почве: здесь он у себя дома и бесконечно выигрывает, когда кругом кипит еврейская толпа, звучат еврейские голоса, царит еврейский вкус: покрой одежды, жест».
Пригласить в Государственный еврейский театр опального режиссера, гонимого за украинский национализм, – поступок воистину отважный. От Курбаса отвернулись и театральные деятели, и многие бывшие его друзья. Хотя, разумеется, не только желание помочь талантливому человеку побудило Михоэлса пригласить Леся. Он знал прежние работы Курбаса, и не исключено, что, как предположил искусствовед В. Семеновский, Курбас больше, чем кто-либо другой, напоминал Михоэлсу Грановского. В ГОСЕТе Курбасу довелось проработать совсем недолго – во время репетиций «Лира» его арестовали (он погиб в ГУЛАГе в 1942 году).
Первым за постановку «Лира» в ГОСЕТе взялся Волконский. В его мыслях о Лире было немало интересного. Он первым предположил, что Лир, деля государство на части, экспериментирует. Лир так велик в своих деяниях, что может себе позволить и это. (Эта мысль Волконского импонировала Михоэлсу, он считал, что существует параллель между судьбой Лира и Толстого.)
Вслед за Волконским за постановку «Короля Лира» взялся немецкий режиссер Эрвин Пискатор. Он хотел перенести действие пьесы в Палестину, в далекие библейские времена. Михоэлс сам сближал историю Лира с библейскими сюжетами, «но насилия над пьесой» Шекспира он не допускал даже в мыслях, и переговоры с Пискатором вскоре прервал.
Михоэлс допускал, что с Радловым ему будет работать непросто: во-первых, Радлов жил в Ленинграде; во-вторых, Михоэлсу казалось, что Радлов не представлял себе тех трудностей, которые могли возникнуть в процессе работы. Он не предвидел, как трудно будет работать над «Лиром» труппе, никогда раньше не прикасавшейся к Шекспиру, и какую сложную работу нужно будет проделать, чтобы поставить Шекспира на еврейском языке.
Но главная опасность заключалась в том, что в трактовке «Короля Лира» Михоэлс с Радловым находились, по его словам, «на разных позициях».
(После выступления Михоэлса в Коммунистической академии, в котором он изложил свою концепцию постановки «Короля Лира», Радлов написал Михоэлсу письмо и в нем, в частности, сообщил: «Чувствую, что мы расходимся настолько глубоко и ты выступаешь настолько самостоятельно, что мне не придется, очевидно, работать…»)
Письмо Радлова было написано резко и определенно. Но Михоэлс, памятуя, что «лучше с умным потерять…», ответил Сергею Эрнестовичу, что расставаться с ним не собирается.
«Перед тем как окончательно решить вопрос о постановке „Лира“ в нашем театре, я прочел множество книг и статей о Шекспире вообще и о „Короле Лире“ в частности…
И пусть не покажется удивительным, если я признаюсь, что на специальное изучение Лира, на аналитическую и синтетическую работу мысли мною было потрачено свыше года. Но эта работа было отнюдь не только рациональной.
Серьезным препятствием для меня было незнание английского языка. Оно сделало для меня недоступным изучение Лира в подлиннике. Специально изучить английский язык я не мог. Для этого потребовалось бы слишком много времени. Поверхностное же, формальное знание языка не дало бы мне настоящего представления о произведении…» Казалось, продумано все: концепция спектакля, состав актеров. С. Э. Радлов приступил к репетициям. Но… «должен заметить, что, приступая к работе над образом Лира, я испытывал огромное недоверие к своим физическим данным. Обладая низким ростом, я не мог передать образ королевского величия ни при помощи гордо поднятой головы, ни при помощи монументально-величавых движений».
Творческие муки, колебания, размышления изводили Михоэлса, порой наступало отчаяние. В такие минуты художник театра Александр Григорьевич Тышлер незаметно подходил к нему с просьбой попозировать: «Понимаешь, Миха, когда я рисую тебя, я просто учусь, я становлюсь как художник лучше, я лучше рисую, я очень много приобретаю»… Михоэлс с улыбкой и глубоким вздохом усаживался…
«Споров с Тышлером в процессе работы было очень много. Он относится к разряду тех художников, которые больше всего доверяют своему, правда, чрезвычайно изощренному, но и чрезвычайно субъективному внутреннему ощущению. Пьесу он, очевидно, прочитывает только один раз и затем всецело отдается первому впечатлению. Мне кажется, что при чтении он в пьесе даже не видит слов…
Сразу перед ним возникает сценический объем, он как бы читает пространство.
…Первый эскизный набросок декораций к „Королю Лиру“, принесенный Тышлером, был чрезвычайно похож на его же эскиз к „Ричарду III“, появившийся в печати значительно позже. Очевидно, и в „Лире“, и в „Ричарде III“ (работал он над этими трагедиями одновременно) Тышлер видел главным образом „Шекспира вообще“. Набросок напоминал нечто чрезвычайно далекое от нас, нечто легендарно-сказочное. Но где-то и в чем-то набросок этот перекликался с тем, что я продумал и что было мне близко…
Должен признаться, что эскиз этот в одинаковой мере озадачил и меня и Радлова. Устремления Сергея Эрнестовича и мои в конце концов были различны только в понимании проблематики трагедии. Но мы с Радловым уверенно сходились в желании создать спектакль глубоко реалистический. Эскиз Тышлера никак не соответствовал этому намерению. Настолько не соответствовал, что это могло повлечь за собой разрыв между театром и художником.
Когда Тышлер спросил Радлова, что именно, по мнению режиссера, должно стать лейтмотивом оформления спектакля, Сергей Эрнестович уверенно и твердо сказал, что для него главное – это ворота замка, закрывающиеся перед Лиром».
Однако расхождения между Михоэлсом и Тышлером, неизбежные для талантливых людей, удалось преодолеть, так что и декорации, и костюмы к спектаклю делал именно Тышлер, по собственному признанию, мобилизовав весь свой творческий потенциал. Михоэлс и Тышлер проработали вместе более 10 лет, их творческий союз не был случайным. Михоэлс не побоялся пригласить в театр Александра Григорьевича сразу после выхода в свет печально знаменитой книги О. Бескина «Формализм в живописи».
Тышлеру «всегда казалось, что он (Михоэлс. – М. Г.) репетирует слишком долго», и когда терпение Александра Григорьевича иссякало, он «посылал ему записку без слов с изображением папиросы с крылышками».
Перевод «Короля Лира» на идиш Михоэлс предложил сделать Самуилу Галкину. Это решение вызвало немало суждений – ведь еще совсем недавно находились еврейские «литературоведы», которые считали библейское начало в его поэзии явлением реакционным. Вот отповедь, данная Михоэлсом по этому поводу: «Наивно было думать, что Галкин – поэт реакционный по той причине, что в его творчестве находят свое продолжение лучшие традиции еврейской литературы. Это свойство его таланта я считал необычайно ценным для перевода „Короля Лира“.
Следует заметить, что Галкин осуществил свой перевод на идиш с имеющихся русских переводов, но ему своими советами помог С. Э. Радлов, который к тому времени „уже неплохо справлялся с еврейским языком… Радлов очень быстро и умело ориентировался в тексте и неоднократно подсказывал переводчику пути использования тех или иных очень характерных для Шекспира приемов“» (Михоэлс).
«…Стиль Галкина-поэта оказался удивительно соответствующим стилю шекспировской трагедии. Особенно удалась Галкину та сцена, где Лир произносит проклятия. Эти проклятия по форме перекликаются с разделом Библии, который называется по-древнееврейски „Той-хо-хо“ и в котором перечисляются проклятия, адресованные вероотступникам.
Лир, в чем-то, безусловно, напоминающий Иова, извергает проклятия, обобщенность и образность которых удивительно напоминают „Той-хо-хо“.
Большую пользу принесла мне, как актеру, и работа с композитором (Л. М. Пульвером. – М. Г.).
Основные музыкальные моменты спектакля – это охотничьи рожки, фанфары, церемониальный марш, музыка поединка, музыка погони за Эдгаром, песенка шута, упомянутая в тексте, музыка, звучащая во время пробуждения Лира. У Шекспира есть тут специальная реплика в сторону оркестра. „Снова играй“, – говорит врач, ожидая с минуты на минуту пробуждения короля.
Я был убежден, что звуковая и шумовая имитация бури будет противоречить стилю всего нашего спектакля. Для меня сцена бури является высшим моментом философского прозрения Лира, высшей точкой трагедии. Мне казалось, что шумовая имитация дождя, грома, а также световые эффекты молнии отвлекут зрителей, помешают им воспринять центральную идею этой сцены. Что же касается музыкального „изображения“ бури, то поначалу я склонен был на это пойти, но потом решил, что Шекспиру подобные приемы в принципе чужды. Возможно, я и ошибался.
Настоящая буря разыгрывается лишь в воображении Лира, который страстно взывает к ветру, мечтает, чтобы ветер все смел на своем пути, чтобы дождь затопил всю землю, чтобы в бурных потоках погибло самое зло».
О «Лире», поставленном и сыгранном Михоэлсом, написано много. Сохранились кинофрагменты, рецензии, воспоминания зрителей. Все сошлись во мнении, что такого Лира, такой концепции спектакля еще не было:
«Под звуки церемониального марша торжественно шествуют придворные. Когда все собираются, музыка замолкает. И тогда в полной тишине, откуда-то сбоку, незаметно появляется старый король. Съежившись, запахнувшись в мантию, как в простой плащ, Лир скромно направляется к трону. Он идет, ни на кого не глядя, погруженный в свои думы. Подойдя к трону, замечает взобравшегося туда Шута, ласково берет его за ухо и стаскивает вниз. Только после этого король поднимает глаза и обводит взглядом склоненные головы придворных. Наконец видно его лицо, отрешенное и ласковое, лицо самоуверенного пророка и скептического философа. Тут кончался придворный церемониал и начиналась притча…
Сев на трон, король начинает пересчитывать собравшихся, по-хозяйски тыча в каждого пальцем. Кого-то он пропустил, и счет начинается снова.
Лир безуспешно ищет глазами Корделию и неожиданно находит ее, спрятавшуюся за спинкой трона. Тогда раздается интимный, добрый старческий смешок.
Мудрый и проницательный Лир настолько убежден в абсолютном превосходстве над окружающими, что может позволить себе пренебречь торжественными эффектами. Впрочем, иногда старый король принимает величественные позы, но для того только, чтобы их спародировать, показать, как мало придает им значения…
…Безучастным михоэлсовский Лир перестает быть, когда очередь доходит до Корделии. Его руки становятся мягкими и ласковыми; он снимает с головы корону и протягивает ее любимой дочери. Но Корделия оказывается скупой на слова. Тогда из уст Лира второй раз вырывается короткий старческий смешок. Только теперь задавленный, изумленный и недобрый, Лир думал слегка поиронизировать над дочерьми, заставив их заплатить за земли и власть признаниями в любви. И вдруг шутка оборачивается против него самого. Тогда король становится серьезным, надевает корону себе на голову, тяжело кладет руки на подлокотники трона и сурово предупреждает: „Из ничего не выйдет ничего“» (Б. Зингерман).
«Раньше он был король – „король с головы до ног“. Он спрашивал у Освальда (дворецкого Гонерильи): „Кто я такой?“ И когда Освальд отвечал: „Вы отец моей леди“, – он бил его, потому что это унижало его королевское достоинство. А теперь Лир сам приходил к выводу, что он двуногое животное. Таков путь, который он проделал, и на этом пути он пришел к новому ощущению своей отцовской любви к Корделии. И самое страшное для него заключается в том, что из-за своей ложной идеологии он потерял самое любимое, самое дорогое, самое ценное, что было для него на земле, – Корделию» (Михоэлс).
Лир проносит на руках мертвую Корделию перед стоявшими в безмолвии воинами и тихо восклицает: «Горе! Горе! Горе!» Он, прощаясь с умершей дочерью, шепотом произносит слова: «Собака, лошадь, мышь – они живут, а ты, ты не живешь, не дышишь!»
И снова Лир безумен: он напевает свою охотничью песенку, которая постепенно переходит в смех со стоном. Лир ложится рядом с умершей Корделией, прикладывая палец к ее губам, тихо шепчет: «Уста, уста, уста!» Слова эти Михоэлс произносит как благодарность человеку, из уст которого он услышал правду.
«…Плач его над трупом Корделии – почти библейское прощание с телом… (У Михоэлса умерла молодая жена, он провожал ее, шел за гробом и разговаривал все время… и теперь играет это отчаяние над трупом дочери.)… Он кричит тонким голосом, тихим от того, что напряжение слишком велико… о-о-о-о… кричит и ложится около дочери, а руки ему оправляют уже служители…» (Афиногенов).
«Шекспир всегда дает любовь как нечто огромное, величественное, что возвышается над всеми страстями мира. Любовь всегда побеждает, она побеждает даже смерть, ибо у Шекспира любовник никогда не может пережить любовницу, так же как и любовница всегда погибает одновременно с ним.
Так погибают Ромео и Джульетта, так гибнут Гамлет и Офелия, Отелло и Дездемона… И даже отцовская любовь – безмерна. Лир и Корделия умирают вместе… И именно через любовь проходит ревность – в этом не только образ Отелло, в этом и дыхание самого Шекспира, и подлинно шекспировское понимание любви и страсти» (Михоэлс).
Надо отметить, что Шекспиру Михоэлс был верен всегда. Он не раз подчеркивал, что при всей любви к Толстому не разделял его мнения о том, что гениальность Шекспира – это легенда. Не понимал он, как Толстой не верил Шекспиру, считал, что страсти его героев театральны, слезы глицериновые, люди и их речи неестественны. Михоэлс не раз повторял: «Шекспир независимо ни от кого, ни от театроведов, ни от самих театров, останется навсегда, и это говорю я, человек, не знающий английского языка». В своем выступлении на шекспировских чтениях в 1940 году (Шекспировский сборник за 1958 год) Михоэлс задался вопросом: «Что же такое безумие?» И ответил на него так: «Это хаос разрушения старых воззрений на жизнь и вихрь становления каких-то новых представлений о жизни. Хаос, мировой хаос». (Будем помнить: в ту пору, когда Михоэлс приступил к репетициям «Короля Лира», фашизм в Германии уверенно пришел к власти, а Сталин расправился с Кировым, проложив тем самым путь к террору 1937 года. И время было шекспировское, и герои тоже.)
Исполнение Михоэлсом короля Лира, несомненно, заслуживает самых высоких похвал, а может быть, оно выше всяких похвал. И все же главное достижение видится в том, что тогда, в 1935 году, тема Лира была раскрыта им как современная, сегодняшняя, он показал, к каким последствиям ведет обожествление собственной личности.
Михоэлс был восхищенным современником изумительного русского Серебряного века. Цветущее время, но, по словам вспоминавшей молодость Ахматовой, «… всегда в глухоте морозной жил какой-то будущий гул». В 1913 году Федор Сологуб написал дивный сонет о Шекспире:
Мудрец мучительный Шекеспеар,
Ни одному не верил ты обману,
Макбету, Гамлету и Калибану.
Во мне зажег ты яростный пожар.
И я живу, как встарь король Леар,
Лукавых дочерей моих, Регану
И Гонерилью, наделять я стану,
Корделии отвергнув верный дар.
В мое, труду послушливое тело
Толпу твоих героев я вовлек.
И обманусь, доверчивый Отелло,
И побледнею, мстительный Шейлок.
И буду ждать последнего удара,
Склонясь над вымыслом Шекеспеара.
В этих стихах идет речь как бы только о личной судьбе. Но вечно шекспировское несут в себе и целые народы. «Иудаизм испытал трагическую судьбу короля Лира» (слова еврейского историка С. Дубнова). Михоэлсу было суждено создать величественный и страдальческий образ «еврейского» короля Лира. Здесь, пронзенный трагической болью, он достиг высшей достоверности. Эта актерская работа Михоэлса получила мировое признание, вызвала восторг и поклонение актеров многих стран и зрителей разных национальностей. Часто эти поклонники Михоэлса не знали ни слова по-еврейски… И здесь кажется уместной маленькая притча о цадике, приведенная в «Хасидских преданиях» М. Бубера: «Однажды, когда раввин Пинхае читал вечернюю молитву и дошел до слов „Хранящий Израиль“, из глубин его души вырвался крик. Случилось, что в это время мимо синагоги проходила графиня, владелица тех мест. Она подошла, наклонилась, пытаясь заглянуть в низенькое окошко, и прислушалась. Затем сказала свите: „Как истинен этот крик! В нем нет и тени фальши“. Когда об этом рассказали равви Пянхасу, он, улыбнувшись, заметил: „Все народы мира узнают правду, когда слышат ее“».
Вот что писал искусствовед и мыслитель С. Н. Дурылин о подлинных истолкованиях мировой драматургии, о роли не переводчиков, но великих актеров: «…есть еще Шекспир, Мольер, Шиллер. Не Н. Полевой, не Кронеберг и Жуковский были их переводчиками для России, а Мочалов, Щепкин, Ермолова…»
Для еврейского зрителя таким подлинным истолкователем – лучшим и, пожалуй, единственным – несомненно был Михоэлс. И не только для еврейского…
Как сказал, побывав на спектакле, Гордон Крег: «Теперь мне ясно, почему в Англии нет настоящего Шекспира на театре. Потому, что там нет такого актера, как Михоэлс».







