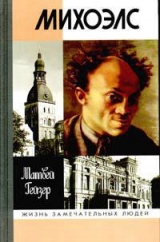
Текст книги "Михоэлс"
Автор книги: Матвей Гейзер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
Михоэлс, безусловно, знал цену этой «большой удачи»… Понимал, как далека правда жизни от «правды» поставленного спектакля: один из сыновей Зайвла Овадиса, Шайка, уехал в Палестину, второй сын работает секретарем райкома партии, а сам Зайвл, председатель колхоза, называет уехавшего сына чужаком и отщепенцем. Можно догадываться, какие чувства обуревали Михоэлса, когда он писал в газете «Советское искусство» от 17 ноября 1937 года: «Роль Зайвла Овадиса даст мне возможность по-новому осмыслить и показать подлинного сына еврейского народа старого поколения, которое приходит к пониманию новой исторической правды». Что поделаешь, оказывается, «правда» бывает разной, в том числе – «новой»!..
Но Михоэлс уже вжился в роль, и не только Овадиса. «Михоэлс отчетливо видел на горизонте мрачные тучи фашизма и войны. Он понимал, что одно только искусство немногое способно противопоставить близящимся грозным событиям. И артист стал оратором, общественным трибуном… Его речи, как и его роли, были своего рода притчами… Актер и оратор говорили об одном» (К. Рудницкий). И если роль Зайвла явилась для Михоэлса «новым творческим достижением», то его участие в фильме Г. Л. Рошаля «Семья Оппенгейм» (по роману Л. Фейхтвангера) было самой жизнью: он ненавидел фашизм и вступил с ним в борьбу задолго до начала Великой Отечественной войны.
В 1938 году Михоэлсу не было еще и пятидесяти. Сегодня мы бы сказали «восходящий возраст». А Михоэлс все больше спешил. Четыре роли, четыре образа, им не сыгранных, не давали ему покоя, в их числе Гамлет: он утверждал, что не понимать Гамлета – значит не понимать Шекспира. «В Гамлете соединено абсолютно все. Мне иногда представляется, что „Гамлет“ – произведение почти автобиографическое. В Гамлете есть многое, что Шекспир узнал, изучая самого себя».
Михоэлс был убежден: подвиг Гамлета состоит в том, что он раскрыл страшную правду ценой жизни. После Овадиса играть Гамлета? Нет, он уже стар. Гамлет навсегда останется для него юностью, непроходящей любовью, символом человеческой чистоты. Гамлета Михоэлс не сыграет…
А Ричарда III? По убеждению Михоэлса, роль эта не была так актуальна в нашей стране, как в конце 30-х годов. «Я хочу попытаться психологически разгадать природу, характер, душевный строй врага – врага всего человечества, всего прекрасного, врага морально устойчивого и сильного, нашего сегодняшнего врага. Однако, мне кажется, что сводить вопрос только к оправданию или осуждению „злодея“ в Ричарде III – слишком маленькая задача. Конечно, его следует показать таким, как его задумал Шекспир. Но на советской сцене Ричарда надо играть не как „автономное“ проявление пусть и свихнувшегося „человеческого духа“, а как уродливое и тусклое порождение социальной среды его эпохи» (Михоэлс С. Мечта о роли // Литературная газета. 1939. 20 апреля).
Он понимал, что, если Лир ему «сошел», то Ричард III может стоить жизни. И все же приступил к работе над этой ролью в конце 1938 года.
Михоэлс разработал детально не только свою роль, но и весь спектакль. О Ричарде он думал повсюду: дома и в театре, на заседаниях и наедине с собой. Чуть позже, в 1941 году, Михоэлс написал в своей записной книжке: «Работа над Ричардом в первый же момент должна отталкиваться от противоположности Ричарда всему окружающему миру. Пир, празднество огромного скопления богатых, красивых, могущественных и одаренных природой людей – еще больше подчеркивает уродство, обездоленность и полное одиночество Ричарда. В этом столкновении праздника и одиночества, красоты и уродства, могущества и кажущейся никчемности – есть начало пьесы.
Встреча с Анной решает судьбу Ричарда, судьбу его силы воли. Неимоверное напряжение, с которым Ричард захватывает в свои руки все тончайшие нити, ведущие к полновластию, ничто по сравнению с той силой воли, с которой он яростно бросается в борьбу за обладание Анной. Мысль об уродстве и хромоте никогда не покидает его.
На вершине своей власти, на вершине славы и победы он потихоньку униженно подглядывает и подслушивает окружающих, подозревая их в насмешках над его уродством. Случайно встречая уродство, напоминающее его собственное, он делается беспомощным и жалким и вместе с тем загорается дикой яростью, так как он почти уверен в том, что встреченный им уродливый человек нарочно косит и дразнит его хромотой (встреча со слугой). Ричард создает себе богов, наделяет их своей хромотой, своим уродством и пытается поклоняться этим богам. Но однажды, постигнув, что и уродливые боги побеждают как символ прекрасного, Ричард отбрасывает богов с присущей ему яростью. Походка Ричарда идет как бы от горба, от которого он всегда стремится уйти. Ричард отождествляет свое уродство со злом. Он навсегда прикован к нему. Его походка – Менахем-Мендель с обрезанными крыльями. Менахем-Мендель стремится вверх, ввысь, вперед. Ричарда как бы удерживает его собственный горб, подрезающий его полет. Попытка возвеличить зло не удается, и он остается способным лишь мстить и уничтожать прекрасное».
Роль Ричарда III была настолько созвучна времени в конце 30-х, что сыграть ее Михоэлс решил немного позже. А пока вернулся к еще одной из четырех несыгранных ролей, к Тевье-молочнику.
ЛИР ИЗ АНАТОВКИ
Племя иудино переселяется по причине бедствия и тяжкого рабства, ищет пристанища между народами и не находит покоя…
Библия, Плач Иеремии, 1:3
К постановке спектакля «Тевье-молочник» Михоэлс приступил еще в 1937 году, сразу же после «Суламифи» и «Семьи Овадис». Инсценировку по книге Шолом-Алейхема написали И. Добрушин и Н. Ойслендер, оформление спектакля Михоэлс предложил И. М. Рабиновичу. Годы 1937–1938 – не лучшие для постановки этого спектакля, но Михоэлсу было к этому не привыкать. Михоэлс понимал, что без Вениамина III, Менделе Мойхер-Сфорима и Тевье Шолом-Алейхема еврейский театр, дающий спектакли на идиш, не выполнит своего назначения. Помнил он и о том, что ГОСЕТ, по сути, начал с Шолом-Алейхема, и без Тевье-молочника этот творческий союз окажется неполноценным.
Среди образов, созданных Шолом-Алейхемом, Тевье, по убеждению Михоэлса, – самый трагический и самый народный. Приступая к работе над ролью, Михоэлс учитывал и то, что к концу 30-х годов исчезло не только сочетание «черта оседлости», но и понятие «местечко» с его печальным юмором и нищетой, с его трудовыми буднями и тихими субботними вечерами, ушла навсегда философия его обитателей (то, о чем так прозорливо предупреждал Михоэлса молодой Юзовский еще в 1927 году).
В 1938-м, когда Михоэлс ставил «Тевье-молочника», он был убежден, что еврейский вопрос не может быть решен путем активной ассимиляции. Он знал в то время многих евреев, которые гордились тем, что забыли не только иврит – язык Библии, но и идиш. Нередко Ройтеры становились Красновыми, Зисеры – Сладковыми. (Что поделаешь – не все читают Шекспира, а он давно предупредил: «Крестя евреев, мы набиваем цену на свинину».) Михоэлс понимал, что если не поставить спектакль сейчас, то очень скоро не будет зрителей, которые смогут понять и воспринять философа из Анатовки, так ненавязчиво учившего окружающих мудрости веков.
«Да, образ Тевье глубоко народен, в его чертах мы узнаем облик народа, в его мудрости – мудрость народа. И поэтому столь органичным кажется оптимизм его финальной фразы: „Пока душа в теле, езжай дальше, вперед, Тевье!“» – писал Михоэлс в журнале «Огонек» (1938. № 35) незадолго до премьеры спектакля. И одна из главных мыслей, которую Михоэлс хотел донести до зрителей, заключена в словах Тевье: «Ибо что такое еврей и нееврей? И зачем им чуждаться друг друга?»
Кто только и как не пытался ответить на этот вечный вопрос! В 1916 году американский еврей, юрист по образованию, Мейер Сульцбергер в одной из своих публикаций заявил: «Евреи – это факт, и он нуждается в определении». Еще лаконичнее сказал немецкий поэт Готхольд Лессинг: «Еврей есть еврей». Вроде бы просто. Но Тевье задавал себе этот вопрос и мучился им. Ему вторили и Тевье-Михоэлс, и, много позже, Тевье-Ульянов, столь блистательно сыгравший эту роль в телеспектакле.
Михоэлс был уверен, что для того, чтобы евреи остались как нация, необходимо прежде всего сохранить язык и хотя бы элементы самобытной культуры. Поэт Семен Израилевич Липкин рассказывал, вспоминая об одной из своих встреч с Михоэлсом: «Однажды я спросил Соломона Михайловича, почему в репертуаре его театра нет спектакля о евреях, которые не знают языка, истории своего народа, то есть об евреях ассимилировавшихся, но не отрицающих не только своего еврейского происхождения, но и причастности своей к еврейству». Михоэлс не задумываясь ответил мне: «Эти люди меня не интересуют». Рассуждая сегодня о Тевье, явленном Михоэлсом, надо помнить, что спектакль этот ставился в той же стране и в ту же эпоху, когда снимался знаменитый кинофильм «Цирк», где рефреном проходила мысль: «за столом никто у нас не лишний». Правда, к тому времени подавляющее число евреев России уже считали своим родным языком русский, были закрыты еврейские школы (в Ленинграде последняя еврейская школа закрылась в 1937 году). Государство тем самым как бы отвечало на вопрос Тевье, что такое еврей и нееврей… Что такое еврей без языка, без традиций, не говоря уже об иудаизме.
Михоэлс, не раз во всеуслышание отрекавшийся от веры в Бога, исподволь, играя Тевье, воплотил мысль английского ученого Монтефиоре: «Израиль – народ религии». И еще, как ни покажется парадоксальным, путь к Тевье в значительной степени шел через «Лира». Приступить к постановке «Тевье-молочника» Михоэлсу в некоторой степени помогли и позволили два предстоящих юбилея: близилось 80-летие со дня рождения Шолом-Алейхема и 20-летие ГОСЕТа.
Что думал сам Михоэлс о Тевье? Вот отрывок из его интервью:
«Глава большой семьи Тевье борется с окружающей его тяжелой действительностью. Вырос Тевье в условиях старорежимной обстановки, где извне жизнь душила царская „тюрьма народов“, а изнутри – религиозно-патриархальный уклад. Дочери же росли, и через них стучалась в двери дома Тевье революция 1905 года, вторгались совершенно новые социальные идеи, строились новые формы отношений людей нового поколения. А у Тевье в запасе для объяснения так грозно надвигающейся на него действительности имелись лишь обломки старого еврейского, синагогального знания.
Но в глубине у Тевье мудрость народная. Постепенно он убеждается в том, что нельзя уложить все многообразие противоречий жизни в прокрустово ложе библейских изречений. Все ярче и отчетливее формируются в его мозгу новые понятия, входят новые представления о жизни, возникают новые мотивы поступков. Глаза его от неба переводятся на землю, где Тевье находит не отвлеченных, а конкретных врагов. Врагов своих, врагов трудового человека, врагов народа» (Декада Московского зрителя. 1938. № 34).
Какие расхожие слова для тех дней. И произнес их Михоэлс не в кругу друзей и даже не на репетиции, а для печати. Была ли необходимость Михоэлсу представлять Тевье этаким чекистом конца 30-х годов, который находит вокруг себя совершенно конкретных врагов, «врагов народа»?
Отдавал ли он себе в этом отчет? А может быть, решил, что бумага не краснеет?
Ответить на эти вопросы можно лишь зная истинное положение вещей. Негласным «куратором» и главным цензором ГОСЕТа, его «идеологическим направляющим» считал себя «главный еврей» страны Л. М. Каганович. Актеры, бывшие участниками и свидетелями работы над спектаклем, прекрасно помнили, как лихорадило театр, и говорили, что от той постановки, которую задумал и осуществил Михоэлс, к моменту премьеры если что и осталось нетронутым, то только замечательная музыка Пульвера и блистательные декорации Исаака Рабиновича. Вот что говорил на суде Вениамин Зускин: «Лазарь Моисеевич указал Михоэлсу на то, что он показывает евреев в таком уродливом состоянии. В 1938 году, когда эта пьеса („Тевье-молочник“. – М. Г.) была поставлена, она уже выглядела по-другому»…
В своем интервью Михоэлс произнес те слова совершенно осознанно, во имя спасения спектакля. К тому же играл Михоэлс в «Тевье-молочнике» нечто совсем иное.
Низенькие, покосившиеся дома местечек, длиннобородые сгорбленные старики в ермолках, полуголодные дети, загоняемые в хедер, и конечно же погромы, под угрозой которых проходила жизнь евреев черты оседлости, – все это Михоэлс хорошо знал с детства. Играя Тевье, он воспроизводил историю российского еврейства конца XIX – начала XX века. «Тевье-молочник, отец пяти дочерей – родоначальник пяти различных житейских судеб». У каждой дочери своя доля. В условиях старого времени судьбы всех дочерей оказались трагическими. Только Михоэлс, видевший в детстве таких людей, как Тевье, мог понять, что под влиянием политико-экономической обстановки в России конца XIX века многие талмудические законы, еще недавно принимавшиеся на веру, стали вызывать вопросы и недоумения. Быть может, самые правдивые и жестокие слова, произнесенные Тевье, сказаны им были тогда, когда он провожал свою дочь в Сибирь за мужем (свои княгини Волконские были и среди дочерей иудейских): «Зря утешаешь меня, будто идут новые времена, будто телега старой жизни уже трещит: что-то не слышно треска телеги; слышно лишь щелканье хлещущих бичей».
Во время «кабинетных» репетиций, когда он беседовал с актерами о предстоящем спектакле, Михоэлс однажды признался актрисе С. Ротбаум, что, работая над «Тевье-молочником», он все чаще обращается к Торе: «Тевье меня восхищает тем, что в нем неистребимо сохраняется святая любовь к жизни и к людям, между тем Тора утверждает, что в рабстве любить нельзя, можно только ненавидеть… И еще: кто-то из пророков говорил: „Душа моя жаждет Бога живого. Слезы мои стали для меня хлебом днем и ночью…“» Признания такого рода он делал, разумеется, с оглядкой, понижая голос до шепота, ибо всегда помнил, что над головой в его кабинете висел огромный портрет Сталина…
Шолом-Алейхем, а за ним и Михоэлс уловили в образе Тевье главное: хотя люди, подобные ему, понимают и истолковывают Священное Писание по-своему, живут они по этой великой книге и всегда помнят талмудическое: народ можно только тогда побить, когда побиты его боги, то есть его нравственные идеалы, его лучшие стремления. Михоэлс, играя Тевье, как бы обращался к зрителям: «Евреи, оставайтесь евреями, не отвергайте самих себя!..» Должно быть, Михоэлс рассчитывал играть Тевье долго, полагая тем самым напоминать своим зрителям о том, что еврейский народ достоин уважения…
«На спектакле „Тевье-молочник“ публика плачет. Скажем без лишнего стеснения – мы тоже плакали. Мы, взрослые и даже немолодые люди, которые покинули институты благородных девиц очень давно, а может быть, и вовсе там не учились, а если и бывали, то лишь как солдаты на постое, мы, которые видели человеческие страдания не в театральной ограниченности, а в беспредельности живой жизни, – мы плакали. Но плакали мы слезами волнения и благодарности великому автору и изумительному артисту, которые силой искусства подняли нас до высот подлинного восторга.
Все внешнее в спектакле – и национальная, и классовая обстановка, и время действия, то есть то, из чего иные драматурги делают основную ткань своих пьес, в „Тевье-молоч-нике“ играет роль атрибута, случайного сосуда. А самое главное – внутри. Это теплота, лиризм, способность сносить страдания и не терять надежды, широкое сердце, великодушие. Это – вечное, человеческое. Страшновато иной раз говорить большие слова. Но, кажется, что в „Тевье“ Михоэлс доходит до гениальности» (Финк В. // Литературная газета. 1938. 5 декабря).
Такого отзыва удостаивается не каждый актер. Мало любить, мало понимать своего героя, сочувствовать ему, – чтобы сыграть Тевье, как это удалось Михоэлсу, необходимо любить народ, воплощением которого явился Тевье. «Среди героев Шолом-Алейхема, среди неувядающих искателей счастья, фантазеров и мечтателей образ Тевье-молочника, пожалуй, самый значительный и вдохновенный. Бедняк, обремененный большой семьей, Тевье обречен на жалкое существование. „Ни минуты хорошей, нищета, нужда, одни неудачи, куда ни сунься“.
„На болячке болячка, а на болячке волдырь“. Но удары судьбы и нищета не могут сломить дух старого Тевье» (Правда. 1938. 26 декабря).
По мнению П. И. Новицкого, «образ Тевье – это самое значительное, что создал Михоэлс. Значение этой работы, может быть, полностью еще не оценено». И это после Вениамина III, Лира…
Семен Михайлович Хмара рассказывал: «После премьеры „Тевье-молочника“ я зашел к Михоэлсу за кулисы, и у меня, потрясенного его игрой до глубины души, вырвалось: Не обижайтесь, Соломон Михайлович, но думаю, что это ваша вершина даже после „Лира“. И даже если Тевье окажется вашей лебединой песней, то петь ее еще можно долго-долго, много лет и много раз! Соломон Михайлович еще был в гриме и в костюме Тевье. Он смачно, как только он умел, затянулся папиросой и сказал: „Семен Михайлович, неужели у вас уже склероз и вы забыли моего Бадхена из „Ночи на старом рынке“ и Вениамина из спектакля „Путешествие Вениамина III““. Я сказал Соломону Михайловичу, что остаться в истории мирового театра у спектакля „Ночь на старом рынке“ больше шансов, чем даже у „Короля Лира“. Но Тевье он сыграл с той же силой, как десять с лишним лет тому назад сыграл Бадхена и Вениамина. А позже, когда мы остались с Соломоном Михайловичем в кабинете одни, он вдруг сказал мне: „Ты знаешь, Семен, ты прав, и „Ночь“, и „Вениамин“, возможно, войдут в мировой театр. Но не моя в том заслуга, а гениального Алексея Михайловича (Грановского. – М. Г.) и Роберта Рафаиловича (Фалька. – М. Г.). А ведь не очень они ладили между собой, а какие сделали спектакли!“ Я сказал Соломону Михайловичу (знал это от своего брата, жившего в Париже), что уже там, за границей, в Берлине, когда Грановский ставил в „Габиме“ „Уриэля Акосту“, а Роберт Рафаилович оформлял спектакль, они работали очень дружно и слаженно. Что-то они еще потом делали вместе, кажется, фильм „Тарас Бульба“»…
Возможно, Семен Михайлович не знал, что говорил Соломон Михайлович о Грановском совсем-совсем недавно, на юбилейных торжествах в 1935 году.
Образ Тевье, сыгранный Михоэлсом, дошел до нас лишь в воспоминаниях зрителей, видевших его. (В отличие от других спектаклей ГОСЕТа не сохранился даже киноролик.) И все же сегодня уже трудно представить себе Тевье Шолом-Алейхема без Тевье Михоэлса, а это, быть может, высшая награда актеру.
Приведем еще один отзыв. В своей речи на вечере по случаю столетнего юбилея Шолом-Алейхема «вождь» советских писателей Александр Фадеев сказал: «…Гуманизм пронизывает все творения Шолом-Алейхема. Вспомним… незабываемый цикл рассказов о Тевье-молочнике, образ которого был так великолепно воплощен на сцене Михоэлсом». Возвращаясь к Шолом-Алейхему, Михоэлс тем самым возвращал театр к своим истокам. В Писании сказано: «Кто в огне, кто в воде», а Тевье истолковывает это по-своему: «Судьба людей различна: кто ездит верхом, а кто ходит пешком». Думается мне, эти мысли Тевье были близки самому Михоэлсу. Нет, это не то же самое, что было начертано на воротах Бухенвальда: «Каждому – свое»… Главное в мысли Тевье, да и самого Михоэлса-Тевье: «Судьба людей – различна». Людей! Судьбы театров также несхожи. ГОСЕТ конца тридцатых годов, ГОСЕТ Михоэлса – совсем не тот, что был при Грановском. Михоэлс и весь прекрасный ансамбль спектакля (Л. Ром, С. Ротбаум, Е. Эпштейн, А. Шмаенок, А. Пустильник, Э. Карчмер) не снижали трагедии до чувствительной мелодрамы. Чтобы выжить, Тевье ищет поддержки в мудрости, переводя древние изречения на язык житейский и даже бытовой. Это уже не «маленький человек» (Менахем-Мендель, реб Алтер). Тевье – человек огромной силы, подтверждающий своими рассуждениями, деяниями, что он представитель народа жизнеспособного. Страх, внушавшийся предкам Тевье на протяжении двух тысяч лет, не сломил волю и дух лучших его сыновей. На репетициях «Тевье-молочника» Михоэлс обращал внимание актеров на то, что еврейский народ, обреченный в пору Средневековья на гонения, покидая обжитые места, всегда хранил верность вере предков и понимание, как тщетно благополучие в сравнении с Торой. Не забвение, а осознание своего прошлого помогло выжить предкам Тевье. Понимание того, что добро и зло, счастье и несчастье во все века нераздельны, даже обязательны (как здесь не вспомнить хасидские корни Михоэлса!), придавали философу из Анатовки силы пережить так много трагического в своей жизни. «Судьба людей – различна…», но «всю жизнь Тевье должен мыкаться, носом землю рыть, детей растить – и все для того, чтобы они взяли и одним махом оторвались, как шишки с дерева, чтобы ветром их унесло в разные стороны» – что может быть тяжелее такой судьбы? «Растет в лесу дуб. Приходит человек с топором, обрубает ветвь, еще ветвь и еще… А куда такое дерево без ветвей… Зачем дереву голому в лесу торчать?»
Даже в трагические минуты бытия Тевье продолжает верить в справедливость: «Скажи мне, дорогой мой Феферл, выходит, стало быть, по сумасшедшему твоему разумению, что все на свете творится не по справедливости? И то, что моя корова доится, и то, что лошадь в упряжи ходит, тоже несправедливо?»
Что еще помогло выжить Тевье? Знание Священного Писания, придающего ему веру и истинно библейскую гордость в самые трагические дни жизни. Любимые молитвы Тевье: «Ты пошли нам лекарства, ибо болезнь у нас у самих имеется», «Жизнь моя разворошена, и сам я разворошен…» Вот почему Михоэлс, отложив работу над «Ричардом III», сыграл в 1938 году Тевье.
После одного из спектаклей «Тевье-молочник» Михоэлс вышел на бис 24 раза. Когда зрители вызвали его в 25-й раз, он произнес слова из любимой молитвы Тевье: «Погляди, как мы мучаемся, и защити нас от неправды. – И, прощаясь со зрителями, произнес: —…не дождутся враги мои, чтобы я перед кем-нибудь плакался».
Вениамин Александрович Каверин, не раз видевший Михоэлса в роли Тевье, в своей статье «Два артиста» писал: «Весь спектакль (телефильм „Тевье-молочник“ с М. Ульяновым в главной роли. – М. Г.) совершенно независим от того, каким поставил бы его Михоэлс. А между тем он производит не меньшее впечатление. Ульянов не стремится, как это делал и Михоэлс, возбудить жалость к Тевье». Заканчивает свою статью Каверин словами: «На старости лет я чувствую: как было бы хорошо снова услышать из уст Михоэлса речь Тевье-молочника! Но Ульянов дал мне полную компенсацию этого желания». Понятно, что такая компенсация очень условна, ибо, вообще говоря, невозможна. Давно известно, что истинный актер подобен скульптору, ваяющему свои статуи из снега…
Генрик Ибсен, задаваясь вопросом, почему евреи сохранились как нация, почему сохранили свою индивидуальность, свою поэзию, находил ответ в том, что еврейскому народу не пришлось «возиться» с государственностью, ибо, если бы он остался в Палестине, давно был бы раздавлен ее тяжестью. Даже если Михоэлс знал об этих мыслях Ибсена, то едва ли разделял их. Ведь великое повествование Шолом-Алейхема заканчивается главой «Тевье едет в Палестину». И не столь важно, каков финал спектакля, поставленного Михоэлсом в 1938 году (впрочем, как и финал замечательного фильма «Тевье-молочник» с Михаилом Ульяновым). Всего важней последние слова Тевье: «Даст Бог, приеду благополучно на место… Первым долгом отправлюсь на могилу праматери Рахили. Помолюсь я там за своих детей, которых, наверное, никогда больше не увижу, помолюсь… обо всех евреях…»
Вот о чем была молитва, поставленная Михоэлсом в 1938 году. И с этой точки зрения она не имеет ничего общего с «Поминальной молитвой», блистательно поставленной Марком Захаровым спустя почти четыре десятилетия после михоэлсовского «Тевье-молочника».
Именно в роли Тевье Михоэлс последний раз вышел на сцену. Это было 3 октября 1943 года.







