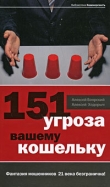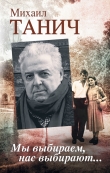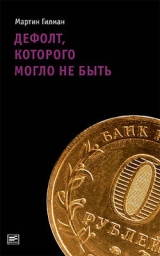
Текст книги "Дефолт, которого могло не быть"
Автор книги: Мартин Гилман
Жанр:
Экономика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Появление МВФ в России
Ввиду остроты текущих политических проблем, хронических финансовых трудностей и очевидной нужды в срочной технической помощи, в России вскоре после развала Союза начали активно работать различные западные доноры и учреждения, и в том числе МВФ. Уже весной 1992 года, пока Россия еще только готовилась стать членом фонда, эксперты МВФ уже участвовали в разработке экономической программы Гайдара. А 1 июня 1992 года Российская Федерация стала 162-м членом МВФ и получила долю в его капитале (так называемую квоту) чуть меньше 3% [47] (структура и порядок деятельности МВФ описаны в Приложении).
Вообще, после образования на месте СССР новых независимых государств в МВФ произошли довольно серьезные изменения. Фонд и сам по себе под наблюдением представителей акционеров – Совета исполнительных директоров – периодически проверяет эффективность своих механизмов финансирования, предоставляемых консультационных услуг и собственной управленческой структуры и потому чаще всего вполне в состоянии провести в жизнь инновационные предложения, выдвигаемые директором-распорядителем. Но после развала СССР изменения в организационной структуре МВФ потребовались в экстренном порядке.
В январе 1992 года в фонде было создано 2-е Европейское управление, уполномоченное вести дела со всеми пятнадцатью бывшими советскими республиками [48] . В этом регионе поначалу было много общих проблем и задач: валютная реформа, внутрирегиональные торговля, финансирование и долги, права собственности и инвестиционные потоки. Их-то новому управлению и предстояло решать, хотя со временем этот общий региональный характер проблем и стал постепенно исчезать (особенно после того, как прибалтийские республики наладили собственные отношения с внешними партнерами). Возглавил новое управление опытный и влиятельный чиновник британского минфина Джон Одлинг-Сми.
В июне 1992 года совет директоров МВФ утвердил выделение России кредита stand-by для поддержки ее экономической программы на текущий год [49] . Главным условием было требование либерализовать и объединить валютные биржи, на которых конвертировался рубль, что и было сделано к началу июля. В остальном условия были более умеренного характера, чем полагается обычно в рамках кредитной политики фонда, когда речь идет о выделении первого транша. Доступ к средствам в данном случае был предоставлен не поэтапно, а сразу. Свой 1 млрд долларов Россия выбрала полностью в декабре 1992 года. Однако осуществление программы, под которую выделялись деньги, вскоре после ее принятия пошло совсем не так, как предполагалось. Это был очевидный провал, и он позволил сразу осознать, что стандартная политика МВФ, которая заключалась в предоставлении оперативной помощи странам, испытывающим временные трудности с текущими платежами, в случае с Россией не годилась: проблемы в этой стране были совсем иного характера и не имели очевидного решения [50] .
Появилось первое понимание того, что выход из кризиса займет гораздо больше времени и что потребуется обратить гораздо большее, чем обычно, внимание на техническую помощь и на создание новых институтов. Стало ясно, что при хрупкости нового госаппарата, слабой подготовке чиновников, недостатке рыночных ориентиров и политической воли финансовая поддержка со стороны МВФ должна значительно превосходить выделенную в первом транше и при этом предъявляемые фондом условия в лучшем случае не должны быть чересчур строгими. В свете этих соображений через какое-то время члены МВФ пришли к общему согласию относительно того, что необходимо выработать новый подход. Среди прочего был взят на вооружение новый специальный инструмент кредитования, так называемый механизм финансирования системных преобразований (STF).
6 июля 1993 года МВФ одобрил новую экономическую программу для России на текущий год, предъявив в качестве главного условия требование либерализовать процентную ставку. Одновременно был выделен первый транш по программе STF в 1,5 млрд долларов.
Второй транш STF был одобрен 25 апреля 1994 года. Он предназначался для поддержки экономической программы российских властей на текущий год, и опять были сразу же предоставлены 1,5 млрд долларов. Но осуществление программы оставалось по-прежнему неудовлетворительным, даже при том, что предъявляемые условия были сильно ограничены [51] . Оговорюсь, что анализ российских экономических программ не входит здесь в мои задачи. Интерес скорее представляет попытка посмотреть, как МВФ и российские власти пытались улучшить исполнение этих программ, или, точнее сказать, как это снова и снова пытался сделать МВФ.
Очень существенной особенностью тогдашнего сотрудничества фонда с Россией была его крайняя односторонность. Причем она была в новинку и для самого МВФ. Для фонда привычна ситуация, которая наблюдается в большинстве других, даже малых стран, – когда старшие чиновники имеют, как правило, неплохую экономическую подготовку (нередко наравне с их коллегами из МВФ), и еще до начала переговоров, даже в кризисных ситуациях, они подробно обсуждают между собой предстоящий им выбор приоритетов и возможных решений. Как минимум, правительства дают своим подчиненным достаточно ясно сформулированные политические директивы. И потому переговоры с МВФ идут по существу вопросов, разногласия выявляются с самого начала, а затем в процессе взаимного осмысления они устраняются и вырабатывается согласованная экономическая программа. В самом плохом варианте случается так, что сотрудники МВФ имеют ясное представление об экономических аспектах и о решениях, хорошо себя зарекомендовавших в аналогичных условиях в других странах, однако плохо осведомлены о конкретных условиях на месте. Но при этом местные должностные лица, которые, возможно, не понимают экономическую динамику, тем не менее полностью владеют информацией об экономических и юридических препонах, об институциональных механизмах и о политических и социальных реалиях внутри их страны.
В России ничего подобного не происходило. Остается только удивляться, насколько мало тогда возникало разногласий по поводу целей программ и способов их достижения. А при том, с какой легкостью российская сторона соглашалась с предложениями МВФ, даже несколько странно, почему опытные сотрудники фонда не заподозрили неладное. С другой стороны, поскольку Россия только-только вышла из долгой изоляции от внешнего мира, им, конечно, было нелегко сразу понять все местные особенности. Как и многие другие иностранцы, они совершенно точно были введены в заблуждение преобладавшим стереотипным представлением о России как о стране,
в которой все находится под жестким контролем из центра. Если бы они лучше понимали, что произошел полный распад этой централизованной власти, то они, скорее всего, яснее осознали бы, какого масштаба задача перед ними стоит. Но поскольку такого понимания тогда не было практически ни у кого, то и МВФ, и его акционеры из числа «Большой семерки» отсутствие политической воли в России списывали не на неизбежную нехватку управленческого и административного потенциала, а на неудовлетворительное осуществление принимаемых программ.
А ведь было крайне важно, чтобы российские чиновники активно отстаивали интересы своей страны и именно возражали «понаехавшим» из Вашингтона и плохо разбирающимся в местных реалиях иностранцам. Отсутствие такой решимости, видимо, связано с тем, что в постсоветской России четкого механизма для принятия решений в правительстве еще просто не было, как не было и людей, хорошо разбирающихся в предмете, умеющих конструктивно вести переговоры, способных идти на компромиссы и брать инициативу на себя, не дожидаясь санкции сверху [52] .
Случались, конечно, и исключения. Помню одну острую дискуссию в Минфине в конце 1993 года. Команда МВФ настойчиво пыталась доказать первому заместителю министра Вавилову, что для смягчения крайне тяжелых для населения последствий экономических потрясений необходимо создать развитую систему социальной защиты, а для этого, в свою очередь, внятно обозначить политическую задачу и выделить помощь из бюджета. Вавилов, тем не менее, наши аргументы отверг и решительно возразил: «У нас больше 70 лет социальным экспериментированием занимались, и все без толку. Хватит!»
Не стоит забывать, что властные центры в российском правительстве были сильно раздроблены, и это тоже никак не способствовало выработке дальновидной политики и уж тем более согласованных инструкций для ведения переговоров с фондом. К тому же, министры финансов сменяли друг друга как в калейдоскопе, и каждый новый министр считал, что обязательства его предшественника он выполнять вовсе не обязан [53] . Дополняли картину личные амбиции и интересы руководителей. Всем, например, было известно, что монополию «Газпрома» трогать нельзя ни в коем случае, поскольку ее опекал сам премьер-министр [54] .
В этих обстоятельствах российские экономические программы начала 1990-х гг. выглядели, конечно, нереалистично, осуществить их поэтому было крайне сложно, и объективному надзору они поддавались с трудом. МВФ пытался идти навстречу, менял свою политику, разрабатывал новые специфические инструменты, но успешнее реализация программ от этого не становилась. Камдессю по этому поводу сказал мне: «Ни с одной другой страной – членом фонда не было связано столько постоянной напряженности в отношениях с остальными членами, сколько ее возникало, пока шел поиск решений для российских проблем и предпринимались попытки как-то вписать Россию в рамки устоявшейся политики МВФ».
Члены совета директоров МВФ и власти в их странах действительно постоянно высказывали свою озабоченность по поводу России, поскольку считали предоставляемый ей режим исключительным. Они обращали внимание на то, сколько фонд выделял на Россию людских ресурсов и отводил рабочего времени своих руководителей и Совета директоров, какую оказывал техническую помощь и какой доступ обеспечивал к заемным средствам сверх квоты [55] . Но особо отмечалось то, что МВФ не применял к России свою обычную политику в вопросе об условиях финансирования. Следует отметить, что в плане финансовых аспектов деятельности МВФ этот вопрос крайне важен. Свои финансовые ресурсы МВФ предоставляет странам только на определенных условиях: они обязуются проводить согласованную с фондом политику и формулируют ее в виде цельной экономической программы, результатом которой должно стать устранение дисбаланса счета текущих операций и погашение кредита МВФ. А Россия, казалось, имела склонность подписывать документы, забирать деньги, но при этом из всех взятых на себя обязательств исполнять только предусмотренные в соглашении так называемые предварительные меры – то, что требуется сделать до, а не после выделения транша. И так как надежд на осуществление обещанной политики не оставалось, акцент в переговорах с Россией об очередных кредитах стали действительно делать исключительно на этих предварительных мерах. Но и тут российские власти сумели найти для себя выход. Они на переговорах соглашались с очередным предлагаемым политическим решением, а потом фактически выхолащивали его, вводя всяческие законодательные, административные и процедурные ограничения.
Только к 1995 году появилась надежда, что худшее в России уже позади. Страна вроде бы приступала наконец к осуществлению экономической программы, обеспеченной уже обычными механизмами финансирования МВФ. 14 апреля 1995 года была подписана договоренность stand-by на год, в которой впервые предусматривалось ежемесячное поэтапное выделение средств в зависимости от результатов надзора за ходом осуществления программы [56] . Ежемесячный график являлся признанием того, что ввиду отсутствия надежных показателей экономическая ситуация в стране остается неясной и поэтому существует необходимость в гибком реагировании на реальный ход исполнения программы: требовалось иметь возможность быстрыми корректировками не давать ей сбиваться с курса.
На этот раз российское руководство сумело обеспечить исполнение согласованных задач. Месяц за месяцем оно достигало очередных промежуточных целей и выполняло свои обязательства вполне образцово даже по стандартам МВФ. Еще удивительнее было то, что инфляция снизилась с 307,5% в 1994 году до 198% в 1995-м и 47,9% в 1996 году. Одновременно валютный запас (включая золото) вырос с 6,5 млрд долларов на конец 1994 года до 17,2 млрд долларов на конец 1995 года. А дефицит федерального бюджета сократился с 11,4% ВВП в 1994 году до 6,2% ВВП в 1995-м. В конце туннеля, казалось, забрезжил свет.
При этом, и тогда, когда МВФ только делал в России свои первые шаги, и позднее «Большая семерка» пыталась направлять события исходя из своих политических интересов. У меня в то время было впечатление, что итальянцам и англичанам в первую очередь хотелось наладить деловые связи, немцев больше всего заботило погашение огромных кредитов, выданных еще Советскому Союзу, французы пытались взять на себя ведущую роль в деле интегрирования России в западное сообщество (а заодно, возможно, возобновить свой исторический альянс с ней, но теперь уже не против Германии, как сто лет назад, а в противовес Соединенным Штатам), ну и японцы стремились согласовать наконец мирный договор с Россией и тем самым закончить официально Вторую мировую войну. Однако в первую очередь, конечно, играло свою роль настойчивое желание США ускорить нормализацию и преобразования в России. И Буш-старший, и Клинтон всячески способствовали скорейшему ее вовлечению в американскую систему геополитических интересов.
На начальных этапах «Большая семерка» играла крайне важную роль. Поэтому членам этого клуба настоятельно требовалось достигнуть взаимного согласия относительно необходимых мер. В 1991 – 1993 гг. тут сказалось влияние Германии, которая настойчиво требовала, чтобы сначала был упорядочен вопрос с долгами России, а уж потом ей выделяли помощь. При этом, с учетом требований «Семерки» и правил Парижского клуба, реструктуризации долга должно было предшествовать принятие программы МВФ. Таким образом на МВФ и легла обязанность обеспечить необходимую поддержку в этой части всего глобального замысла.
Остальных членов «Большой семерки» медленный темп решения проблем не устраивал. Им хотелось, чтобы МВФ начал играть более серьезную роль: через него можно было проводить, не подвергаясь постоянному контролю со стороны национальных парламентов, масштабную финансовую помощь и одновременно обходить правило консенсуса самой «Семерки». Однако в отношениях МВФ с «Большой семеркой» быстро возникла напряженность, особенно в связи с недовольством США. Вашингтону казалось, что финансирование и помощь в осуществлении реформ в России идут слишком медленно.
Недовольство работой фонда достигло своего апогея, когда в июле 1993 года на саммите в Токио [57] лидеры «Семерки» учредили Группу осуществления поддержки G7, открыв ее представительство в Москве. На эту Группу была возложена задача координировать усилия «Семерки» в России напрямую, в обход МВФ. Вдохновителем этой акции были США, остальные члены клуба отнеслись к ней весьма настороженно. Так что довольно скоро работа Группы в Москве велась уже фактически через американское посольство, а львиная доля выделенных ей средств шла на составление колоссальной базы данных о двусторонней помощи и на лоббирование в российском правительстве вопроса о том, чтобы предоставляемая техническая помощь (например, те же поставки компьютеров в школы) на облагалась налогами. Все это имело целью как-то оправдать существование Группы, но в 1997 году ее деятельность все равно начали сворачивать.
Растущее участие МВФ в реформах
Относительно начала сотрудничества между МВФ и Россией существует довольно распространенный миф: считается, что Запад пытался использовать фонд, чтобы обеспечить переизбрание Ельцина в 1996 году. Логика у сторонников этой теории простая: в марте 1996 года МВФ утвердил трехлетнюю программу расширенного кредитования (EFF), и в этом временн о м совпадении они и усматривают главное доказательство существования «сговора» [58] .
Дело было, естественно, совсем не так. Даже если оставить в стороне очевидное соображение о том, что МВФ в силу своей природы не занимается обеспечением результатов на выборах в странах – членах фонда [59] , то все равно распространители мифа упускают из вида некоторые важные моменты. Во-первых, когда члены фонда, успешно завершив одну программу, обращаются с просьбой возобновить помощь в рамках новой программы, МВФ к таким просьбам относится положительно – это стандартная практика. Особенно если речь идет о том, чтобы успешно исполненный stand-by развить в более масштабную программу расширенного кредитования, каковой является EFF. А во-вторых, в тех случаях, когда предыдущая программа была осуществлена практически безупречно, стандартные правила МВФ точно так же не требуют и проведения предварительного мониторинга.
Таким образом, политическую мотивацию в действиях МВФ скорее можно было бы найти, если бы он тогда, в начале 1996 года, отказал России в заключении новой договоренности. Поскольку иных причин для отказа, кроме неуверенности в результатах грядущих выборов, у фонда не было и быть не могло. А с точки зрения МВФ победа или поражение Ельцина вообще не имели критического значения, поскольку правительство его преемника несло бы перед фондом все обязательства, взятые на себя предшественником. Случись же ему от них отказаться, МВФ просто прекратил бы выделение траншей. До выборов их было запланировано всего два, а все остальные приходились на последующий период, так что в системе поэтапных ежемесячных выплат даже была заложена своего рода гарантия [60] .
Эта новая российская программа EFF была задумана масштабно. Ее цель заключалась в том, чтобы консолидировать макроэкономическую ситуацию в условиях низкой инфляции и стабильного обменного курса и одновременно заложить основу для экономического роста и завершить переход к свободному рынку. Структурным реформам в программе было посвящено целых 12 глав. Составители учли положительный опыт стран Центральной и Восточной Европы, а также других экономик с централизованным планированием. Свои рекомендации представили Всемирный банк и другие учреждения. На подготовительном этапе российское правительство провело семинары с участием ведущих специалистов по каждой группе вопросов. В упрек авторам программы можно было поставить, пожалуй, только то, что они ее просто перегрузили: среди сотрудников МВФ в шутку говорили об эффекте «рождественской елки», поскольку все эти «блестки» и «серпантины» мешали сосредоточиться на главном.
Поэтапное ежемесячное выделение кредита предусматривалось до конца года, и эта предосторожность охватывала период неуверенности непосредственно до и после предстоявших президентских выборов. Затем, в 1997 году, Россия «переходила в старший класс», и вступал в силу уже вполне обычный поквартальный режим мониторинга. Новым для вообще всех программ МВФ стал особый критерий реализации, привязанный к соблюдению установленного минимального месячного уровня налоговых сборов. Не обеспечив этот минимум, Россия не получала права на следующий транш EFF. Этот критерий был введен потому, что собираемость налогов все еще была крайне неудовлетворительной, да и с контролем за расходами тоже были серьезные трудности [61] .
Следует также учитывать, что в тот период работа с Россией представляла собой самый крупный проект в МВФ [62] . На этом направлении было задействовано больше всего сотрудников, а в период 1997 – 2000 гг. Россия была самым крупным заемщиком фонда. Был момент, когда все российские займы в сумме равнялись 19 млрд долларов, то есть составляли 360% квоты страны в капитале МВФ. Представить себе все это в более общем контексте будет легче, если, например, знать, что один только квартальный транш России в рамках EFF равнялся сумме всех средств, которые в период 1996 – 1998 гг. фонд в среднем выделял ежегодно 43 африканским странам.
Политическая борьба и общество
Если попытаться объяснить события последующего периода в процессе российских реформ, то первое, что должно прийти на ум, это влияние на него внутренней политической борьбы. Хотя многие наблюдатели в своих поисках простого объяснения всех многочисленных экономических провалов в России в 1990-е годы почему-то это соображение и упускают из виду
На политической арене в постсоветской России соперничали самые разные группы и властные центры. Их борьба была весьма запутанной и, конечно, проходила в основном скрыто от постороннего взгляда. В руках всего нескольких человек уже было сконцентрировано огромное богатство, которое они сколотили за счет по большей части откровенно незаконных схем, пользуясь несуразицами структуры ценовых соотношений и невообразимой неэффективностью бюрократического аппарата. При этом гражданское общество как таковое в стране отсутствовало, а унаследованная от советских времен правовая структура оказалась полна «дыр», СМИ редко блистали профессионализмом, но зато были предельно политизированы. И везде, на всех уровнях, процветала коррупция.
Помимо того, что полномочия федеральной власти были размыты, а функции министерств плохо разграничены, не были идеальны и те люди, которым выпало руководить реорганизацией страны. Они не были ни хорошими управленцами, ни выдающимися общественными деятелями. Особенно на первых порах, в правительстве и в кремлевских коридорах было больше всего мужчин в серых костюмах, которых узкие цеховые интересы волновали гораздо больше, чем абстрактные судьбы отчизны.
Сам Виктор Черномырдин, работавший премьер-министром с декабря 1992 года по март 1998-го, являл собой квинтэссенцию аппаратчика. Как и многие другие высокопоставленные чиновники – например, секретарь Совета безопасности Олег Лобов или первые заместители премьер-министра Олег Сосковец и Владимир Каданников. Назначение же на пост первого вице-премьера по экономике уже тогда процветавшего «олигарха» Владимира Потанина и сегодня воспринимается несколько ошеломляющим. Но даже и эти назначения – всего лишь верхушка тогдашнего российского политического айсберга. Появление же в правительстве компетентных людей с добросовестными намерениями, пусть и с непростой мотивацией, таких, как Гайдар и Чубайс, было, увы, исключительной редкостью.
После частично проведенных «радикальных» гайдаровских реформ многие россияне восприняли Черномырдина с облегчением, как символ стабильности. Если что и говорило в пользу членов его правительства, то, наверное, наличие у всех этих мужчин (женщин среди них не было) опыта руководства, накопленного на советской хозяйственной работе. Во всем остальном мире их бы с таким опытом, пожалуй, не утвердили бы на высшие правительственные должности, а вот в России многие считали, что это еще не худший вариант.
Парадоксально, что многие из этих людей хотя и не намеренно, но способствовали краху советской системы. Сам Черномырдин был в этом смысле ярчайшим примером, поскольку именно он вслед за начатой Горбачевым частичной децентрализацией вывел из своего тогдашнего министерства большую часть активов и создал на их основе монополию «Газпром». Такой же демонтаж осуществляли и другие, каждый на своем уровне государственной машины. Начатые в конце 1980-х гг. скромные на первых порах реформы советской системы хозяйствования предоставили большую самостоятельность не только крупным чиновникам в центре, но и мелким бюрократам на местах, и все они стали активно искать любые возможности обогатиться. Бюджетные средства беззастенчиво использовались для личной наживы. Вера в то, что власти по-прежнему контролируют ресурсы, постепенно исчезала, и следом начало рушиться все, на чем держалась советская система.
Политолог Стивен Солник в своей книге [63] , объясняя тогдашние события в СССР, использовал очень точный образ. Он сравнил институты советского государства с банками, из которых вдруг побежали вкладчики; руководители всех уровней спешили забрать в своем ведомстве свой «вклад», прежде чем навсегда захлопнутся двери их бюрократического «банка». Когда в каком-нибудь настоящем банке начинается паника среди вкладчиков, предсказать его скорый крах – дело нехитрое, и то же самое в полной мере применимо и к государственному институту, к которому вдруг пропало доверие. Разница только в том, что «бегущие» чиновники уносили с собой не свои законные деньги, а присвоенное госслужащим госимущество. Так что советские государственные институты не просто умерли своей смертью. Их активно растащили по углам чиновники, хватавшие все доступные активы, многие из которых были к тому же вполне ликвидны. Катализаторами развала государства стали его же служащие. С того момента, как среди «вкладчиков» началась паника, они не просто начали растаскивать государственные ресурсы – они тащили самое государство.
Понятно, что работать с ними и с таким государством крайне трудно. Многие, кто следил за разворачивающимися в России событиями, ясно отдавали себе в этом отчет, и Камдессю в том числе. Но выбора не было, и даже в этом властном вакууме нужно было хоть как-то начинать двигаться вперед. Тогдашний ключевой заместитель министра финансов Олег Вьюгин сказал как-то мне: «МВФ сыграл очень важную роль и помог убедить российских чиновников, работавших в условиях крайней децентрализации, что для восстановления в России функций современного государства необходима централизация власти» [64] .
Когда экономическая политика позволила хоть как-то стабилизировать положение и встала более масштабная задача по обеспечению эффективного и справедливого функционирования капитализма и проведению необходимых для этого структурных реформ, главной трудностью было именно то, что в России никто не обладал реальной властью. Вернее, существовало несколько борющихся за власть группировок, каждая из которых имела свои приоритеты. К тому же, происходила смычка между новым классом предпринимателей и госаппаратом. Не имея собственных сил, государство стремилось заручиться поддержкой этих экономически сильных и влиятельных людей или, как их теперь называют, олигархов. В результате сложилась благоприятная среда для процветания большого бизнеса (причем не важно – частного или фактически государственного), в которой победа достигалась за счет поддержки со стороны государственных структур.
Другими словами, государство попало в зависимость от ведущих игроков на экономическом поле и далее уже заручалось их поддержкой в обмен на эксклюзивную ренту, даже в тех случаях, когда эти игроки и так уже были достаточно сильны и вполне могли выжить без посторонней помощи. Таким образом, из-за своей слабости (то есть финансовой несостоятельности) государство, само вынужденное бороться за выживание, приучило своих экономических агентов к стратегически крайне нежелательному способу ведения дел.
В защиту Черномырдина можно сказать, что он, по крайней мере, был готов учиться. Другое дело, что это его обучение, в процессе которого он из высокопоставленного аппаратчика превратился в «крепкого хозяйственника» и потом – в убежденного реформатора, слишком затянулось. Тем не менее, на момент его отставки в марте 1998 года он, похоже, уже свято верил в силу монетаризма и был полон решимости добиваться макроэкономической стабилизации. Камдессю верил, что с таким человеком имело смысл потратить время на личное общение в надежде на то, что, поверив руководителю МВФ лично, он будет больше расположен соглашаться и с советами фонда. Не будучи горячим поклонником русской бани или выездов на охоту, он тем не менее откликался на энтузиазм Черномырдина по этой части, надеясь, что таким образом можно достичь лучшего взаимопонимания.
Читателю теперь уже должно быть ясно, что в 1990-х гг. МВФ играл в стране весьма специфическую роль. Советников в Москве тогда было много – сотрудники Всемирного банка и других международных учреждений, представители научно-исследовательских центров, такие как Андерс Аслунд, Ричард Лэйард и Джеффри Сакс, финансовые атташе стран «Большой семерки». У всех у них были свои доверительные отношения с российским руководством, но никто из них не имел такого постоянно обновляемого и всеобъемлюещего представления о макроэкономической ситуации, как МВФ.
Происходило это не в последнюю очередь и потому, что только фонд был в состоянии подкрепить свои политические рекомендации существенными финансовыми ресурсами [65] . При этом сотрудники МВФ всегда старались держаться в тени, и потому их фактически непрерывное присутствие в Москве было не так заметно. Однако они, тем не менее, постоянно работали с конфиденциальной информацией, участвовали в составлении проектов предложений по экономической политике и консультировали по вопросам альтернативных стратегий, основываясь на собственном опыте работы в других странах.
Логично спросить: если отношения были настолько насыщенны и доверительны, то как тогда понимать утверждения Камдессю и автора этой книги, что конечный результат очень мало зависел от роли МВФ?
Ответ между тем прост. Он вытекает из уже сказанного о слабости государственной власти в постсоветской России. Вьюгин по этому поводу тонко подметил: «Мог ли Фонд действовать эффективнее, чем правительство России, чья политика, поддерживаемая им, сталкивалась с ограничениями в плане согласования и исполнения решений?» Смысл здесь в том, что, хотя обе стороны работали над составлением экономических программ в очень доверительном режиме, сами программы, тем не менее, «работали» плохо. Отсюда и вывод о второстепенном значении роли МВФ в России.
Необычной в тогдашней России для стороннего наблюдателя была еще и некая сезонность политической жизни. Поясню на конкретном примере. В начале 1998 года миссия МВФ готовила проектировки платежного баланса на год и пыталась выяснить, получится ли увеличить валютный запас до рекомендованного уровня. В ответ в правительстве неизменно заявляли с уверенностью, что это невозможно, поскольку валютный запас всегда резко сокращается сначала в сентябре и потом в январе. Причем экономический анализ подтверждал, что они правы и что в этом процессе действительно наблюдается именно такая сезонность. Однако трудно было поверить, что в постсоветской России уже устоялся какой-то типичный порядок поддержания платежного баланса: его ведь вообще хоть как-то планировать начали только в 1995 году. Но какая-то связь явно существовала.