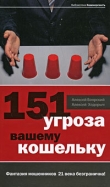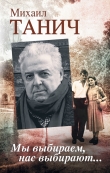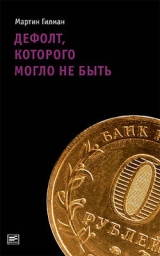
Текст книги "Дефолт, которого могло не быть"
Автор книги: Мартин Гилман
Жанр:
Экономика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Россия – член «клуба»
Правительство пыталось взять политические процессы в свои руки, отбивалось от противников и старалось не терять время, продвигая реформы.
Борис Ельцин впервые после прошлогодних выборов отправился за рубеж. 21 марта 1997 года в Хельсинки состоялась его встреча с президентом США Клинтоном. Интересно отметить, что ввиду слабого здоровья Ельцина эту встречу перенесли из США в Финляндию, поближе к Москве – а в результате в Хельсинки, куда Клинтона из-за травмированного колена доставили в инвалидной коляске, именно Ельцин выглядел на его фоне молодцом [112] . В Хельсинки Клинтону удалось уговорить Ельцина согласиться с планами расширения НАТО на восток, и в развитие этой договоренности Ельцин потом отправился в мае в Париж, где подписал с альянсом договор об участии Москвы в рассмотрении политических вопросов. Пойдя таким образом Клинтону навстречу, Ельцин, в свою очередь, заручился его согласием на вступление России в главные мировые экономические клубы: ОЭСР, Парижский клуб и ВТО [113] . В сочетании с недавним радикальным обновлением правительства прогноз политической погоды угадывался неплохой, и у Ельцина были все основания гордиться достигнутым.
В соответствии с хельсинкскими договоренностями Ельцина и Клинтона и июньским решением денверского саммита «Большой восьмерки» начались активные переговоры об участии России в Парижском клубе в качестве кредитора. Исходили из того, что в 1996 году Россия окончательно урегулировала с Лондонским и Парижским клубами все долги бывшего СССР и тем самым сняла последние остававшиеся у нее в качестве должника вопросы с Парижским клубом. Кроме того, как известно, Россия и сама была крупным кредитором: во-первых, она унаследовала права требования по советским кредитам, а во-вторых, к этому времени уже сама, как суверенный кредитор, выделяла займы другим странам, в первую очередь бывшим советским республикам. В обоих случаях она сталкивалась с трудностями по части погашения этих кредитов. И при этом многие из ее должников (у которых, кстати, львиную долю непогашенных долгов составляла именно задолженность перед Россией) осуществляли программы сотрудничества с МВФ и вели долговые переговоры с кредиторами из Парижского клуба, а Россию, тем не менее, к этим обсуждениям не привлекали.
Договоренность с членами Парижского клуба об участии России была достигнута 16 сентября 1997 года. Поскольку Парижский клуб официальной организацией не является, а только предоставляет группам кредиторов возможность обсуждать общие для них вопросы, то никакого официального документа о членстве и не предусматривалось – договоренность с Россией была оформлена в виде меморандума о взаимопонимании. Вопрос, который в первую очередь решали во время переговоров, – как оценить долговые обязательства советских времен. Проблемы заключалась в том, что они были номинированы либо в рублях, либо в «переводных» рублях, а также в том, что многие из них возникли при осуществлении военных поставок. Россия в результате согласилась на более-менее реалистичный уровень расчетных курсов и привязку, по возможности, к рыночным оценкам. С момента вступления России в клуб любая ее дискриминация по сравнению с другими участниками (как, например, исключение из процесса переговоров) стала невозможной. Следуя этому правилу, МВФ, например, не мог более выделять займы странам, имеющим неурегулированную задолженность перед Россией.
С момента принятия на саммите «Большой семерки» в Лионе в июне 1996 года торжественной декларации о рассмотрении членства России в Парижском клубе процесс согласования был отмечен активным политическим маневрированием всех сторон, и российские интересы в этой ситуации настойчивее всех защищал Михаил Касьянов. Но на состоявшуюся 16 сентября в Париже торжественную церемонию подписания меморандума с тогдашним президентом Парижского клуба Кристианом Нуайе приехал Чубайс [114] . Выступая перед собравшимися участниками клуба, он объявил, что Россия стала полноправным членом, и одновременно, явно имея в виду свою российскую аудиторию, указал, что Россия в три раза увеличит ежегодные платежи со стороны стран-должников – со 100 – 150 млн до примерно 500 млн долларов. Конечно, это было сильное преувеличение, поскольку реально, даже уже став участником Парижского клуба, Россия никогда не получала больше, чем несколько десятков миллионов долларов [115] .
Лето неоправдавшихся надежд
Тем временем новая экономическая политика начала отражаться на ситуации, и иностранный капитал потек в Россию. Этому способствовало и то, что ЦБ РФ объявил о намерении облегчить нерезидентам доступ на рынок ГКО/ОФЗ: начиная с 1 мая 1997 года и вплоть до полной либерализации, запланированной на 1 января 1998 года, вводился ряд временных мер. Суть их заключалась в снижении требований, касавшихся форвардных контрактов для таких инвестиций, а также в согласии ЦБ взять на себя заключение форвардов напрямую и в предоставлении гарантий по контрактам, заключенным с коммерческими банками. ЦБ при этом исходил из того, что без его участия развитие форвардного рынка могло оказаться затрудненным.
Сотрудники МВФ пытались отговорить ЦБ от прямого участия и предоставления гарантий по форвардным контрактам. Дело было не только в обычных при таких операциях рисках, но и в том, что достаточно активный рынок уже и так существовал и что правильно прогнозировать цены ЦБ было бы сложно; предлагаемые им контракты выглядели более щедрыми, чем, например, долларовые еврооблигации. Но ЦБ РФ решил свою схему все-таки внедрить. Расчет был на то, что стабильный приток капитала на рынок ГКО приведет к дальнейшему снижению их доходности. Это, конечно, сказалось бы на прибылях банковской системы внутри страны, но зато динамика бюджетной задолженности стала бы более приемлемой.
Политическая ситуация тоже стала спокойнее, хотя борьба между олигархами продолжалась. 12 мая 1997 года Ельцин принял в Кремле чеченскую делегацию во главе с Асланом Масхадовым и подписал с ним мирный договор. При этом Ельцин даже назвал Чечню Ичкерией. Будущий статус республики стороны не обсуждали, но, по крайней мере, право Масхадова управлять Чечней было легитимизировано. Ельцин, видимо, надеялся, что на этом в конфликте поставлена точка. Ведь о войне в Чечне он сам как-то сказал, что то была его самая большая политическая ошибка [116] .
22 мая Ельцин отправил в отставку министра обороны Игоря Родионова, не сумевшего, по мнению президента, провести настоятельно необходимые в армии реформы. Ельцин настаивал на сокращении армии и со временем поручил вопросы военного финансирования непосредственно Чубайсу, а новым министром обороны назначил своего верного союзника Игоря Сергеева, командовавшего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН). Наконец, 30 мая Ельцин нанес свой первый официальный визит в Киев и подписал там договор о дружбе с Украиной. После заключения мирного договора с Чечней и успешной встречи с китайским председателем Цзян Цзэминем, подписанный после многих отсрочек договор с Украиной призван был продемонстрировать стремление России наладить мирные отношения со всеми своими соседями.
В экономическом плане лето 1997 года запомнилось в первую очередь царившей тогда общей эйфорией. Деньги текли в Россию рекой, западные инвесторы старались побольше вложить в российские активы [117] . Этот приток капитала был обусловлен не только событиями в России; он начался потому, что глобальные инвесторы тогда вообще стали перенаправлять капиталы на развивающиеся рынки, поскольку доходность инвестиций на стабильных рынках в большинстве стран ОЭСР была ниже.
Но все-таки и российские риски в представлении инвесторов существенно снизились. Складывалось устойчивое впечатление, что в России наконец возобладали позитивные тенденции и, если только власти не будут совершать каких-то безумств, благоприятное отношение к России будет только улучшаться. Обменный курс сохранял стабильность, резкие изменения в финансовой политике казались маловероятными, и возможность колебаний была жестко ограничена действовавшими правилами. Поэтому можно было рассчитывать, что за счет увеличения иностранного капитала на рынке доходность ГКО сократится до уровня, соответствующего представлениям иностранных инвесторов о понижении российских рисков. Поучаствовать в этом процессе хотели все, и авиарейсы из Европы в Москву были забиты банкирами в строгих костюмах.
О неизбежных в такой ситуации опасностях можно судить на примере истории с региональными сельскохозяйственными облигациями. Алексей Кудрин, став первым замминистра финансов при Чубайсе, настойчиво пытался избавиться от доставшегося ему «черного ящика», восстановить контроль за госрасходами и наладить прозрачную систему бюджетных платежных обязательств. Среди прочего ему приходилось иметь дело с долгами областных администраций в рамках погашения кредитов, выданных им федеральным правительством в 1996 году на закупки сырья [118] . Он обязал местные власти выпустить облигации для обеспечения этих своих задолженностей, а за неисполнение обещал прекратить бюджетные трансферты. В конце июня 1997 года местные власти на аукционах разместили свои облигации на 220 млрд неденоминированных рублей и впоследствии довели эту сумму в общей сложности до 9 трлн неденоминированных рублей. Причитавшаяся казначейству выручка размещалась в револьверном бюджетном фонде для концессионного финансирования сельского хозяйства.
Эти сельскохозяйственные облигации имели весьма высокую доходность. О спросе на них можно судить хотя бы по тому, что инвестиционные банкиры безо всякого труда размещали их даже среди ни о чем не подозревавших инвесторов в американской глубинке. Этим американцам и в голову не могло прийти, что доходность векселей была такой высокой исключительно потому, что не менее высокой была и вероятность дефолта по ним. Ведь Кудрин заставил местные власти выпускать векселя в обеспечение долга именно из-за того, что изначальные получатели кредита – сельхозпредприятия – его не погашали!
Но в целом ситуация для России сохранялась благоприятная. Ельцин впервые принял участие в саммите теперь уже «Большой восьмерки» (она прошла 20 – 22 июня 1997 года в Денвере под председательством Билла Клинтона) и своей новой ролью был явно очень доволен. В заключительном коммюнике встречи подчеркивалось: «Встреча “Восьмерки”» на высшем уровне в Денвере знаменует собой новое и более глубокое участие России в наших усилиях. Россия предприняла смелые шаги для завершения своего исторического преобразования в демократическое государство с рыночной экономикой. Мы выступаем за продолжение тенденции расширения участия России в работе наших должностных лиц в период между встречами на высшем уровне и подтверждаем нашу общую приверженность более полному вовлечению России в работу саммитов. Одним из наших важнейших приоритетов является сотрудничество с целью интеграции экономики России в глобальную экономическую систему. Мы приветствуем понимание, достигнутое между Россией и Председателем Парижского клуба по основам участия России в клубе, и надеемся на то, что Парижский клуб и Россия завершат подготовку соглашения в ближайшем будущем. Мы поддерживаем цель скорейшего присоединения России к ВТО на условиях, обычно применяемых к новым присоединяющимся членам. Мы также ожидаем дальнейшего прогресса на пути вступления России в ОЭСР с использованием возможностей недавно созданного Комитета по связям между Россией и ОЭСР».
Взгляд с позиции МВФ
Для МВФ намечавшиеся в 1997 году трудности неожиданными не были. Уже в начале года совет директоров, руководители и сотрудники фонда имели определенное представление о продолжавшемся экономическом спаде и неэффективности правительства в условиях властного вакуума. То, что недавно переизбранный президент периодически исчезал из поля зрения, только лишний раз напоминало: времена предстоят отнюдь не безмятежные. Но это никого не пугало, тем более что экономическая ситуация все-таки относительно стабилизировалась. Можно было предположить, что худшее уже позади. Теперь нужно было решительно стимулировать структурные реформы, в том числе в фискальной области и в системе налогового администрирования. То есть, что делать – было ясно; неясно было – как.
9 января 1997 года на семинаре в Гарварде свою оценку перспектив изложил Фишер. Он, в частности, сказал: «Переходный процесс в России начался пять лет назад, и вот теперь, уже не боясь ошибиться, можно, наверное, сказать, что борьба за стабилизацию закончилась победой». В 1992 – 1994 гг. стабилизационные программы правительства обычно начинали давать сбои в середине года, когда политические и сезонные проблемы вынуждали власти увеличивать государственные и внебюджетные расходы и заставлять Центральный банк выдавать дополнительные кредиты. Но с тех пор было заключено соглашение standby с МВФ, выработана соответствующая правительственная программа на 1995 год, и ее осуществление дало впечатляющий прогресс в деле стабилизации. Отмечается он и в 1996 году, первом в программе EFF.
Фишер подчеркнул, что этого удалось добиться в значительной степени благодаря сокращению кредитования через Центральный банк и принятию нового закона, усилившего независимость ЦБ РФ и прекратившего практику прямого кредитования бюджета и предприятий. Он также отметил, что стала заметно более жесткой налоговая политика и что благодаря этому общий дефицит правительства сократился с 10% ВВП в 1994 году до 5% ВВП в 1995-м. По предварительным оценкам, в 1996 году дефицит ожидался на уровне 6% ВВП в условиях значительно более высоких процентных ставок, обусловленных особенностями предвыборного периода [119] . Наконец, Фишер предположил, что есть основания надеяться на дальнейшее снижение инфляции и – впервые с начала переходного периода – на небольшой рост экономики. В то же время он подчеркнул, что в 1997 году в макроэкономической области в первую очередь необходима фискальная консолидация за счет улучшения сбора налогов и устранения дисбалансов в пенсионной системе.
Через несколько дней после семинара в Гарварде, накануне приезда январской ежемесячной миссии (в дальнейшем миссии приезжали ежеквартально), Фишер прилетел в Москву. В тот же день в гостинице «Метрополь», в подвальном Lobster Grill, у него состоялся ужин, на котором присутствовали Чубайс (тогда – шеф президентской администрации), его заместитель Максим Бойко и автор.
Теперь Фишер говорил гораздо более откровенно. В 1995 году Россия месяц за месяцем успешно исполняла тогдашнюю экономическую программу, и потому, сказал он, неоднозначные показатели, зафиксированные в процессе реализации программы 1996 года, вызвали в МВФ серьезное разочарование. Далее Фишер отметил, что в последние месяцы при обсуждении российской программы члены совета директоров все чаще выражали свою растущую озабоченность. С точки зрения директоров фонда, у российского руководства в последнее время при осуществлении политики отмечается пассивность, отсутствие направляющей воли и все меньше готовности бороться за исполнение согласованных задач. Если в 1997 году не произойдет существенного улучшения в этом плане, продолжение помощи МВФ может оказаться под вопросом.
Чубайс ответил, что понимает серьезность сказанного, и в том числе прозвучавшего предупреждения. Он сказал, что обсудит вопрос со своим начальником, то есть с президентом, как только состояние здоровья Ельцина это позволит. Чубайс согласился, что пускать проведение экономической политики на самотек недопустимо, однако, даже будучи главой кремлевской администрации, ничего конкретного в смысле исправления положения он пообещать не смог.
Находясь в самом центре змеиного клубка под названием «российская политическая жизнь», Чубайс прекрасно понимал, что стоит ему сделать один неверный шаг, особенно такой, что его можно будет приписать иностранному влиянию, – и его враги с радостью набросятся на него. Более того, в последние месяцы в адрес Чубайса звучали обвинения в том, что он превратился в «регента», заменившего больного Ельцина, и потому для него было важно лишний раз не привлекать к себе внимание. С его точки зрения, это пока был лучший способ не дать захватить власть «красным директорам». Как я уже отмечал, Чубайсу тогда удалось донести эту свою мысль до собеседников.
У Чубайса, естественно, были и союзники: например, кремлевское контрольное управление под руководством переведенного из Санкт-Петербурга Алексея Кудрина, Госкомимущество во главе с Максимом Бойко, некоторые подразделения под началом министра экономики Ясина и, в частности, его заместителя Сергея Васильева и тогдашней подчиненной Васильева Эльвиры Набиуллиной. В остальном же единственным профессионально управляемым учреждением в экономическом секторе был тогда Центральный банк. Но и тут назревали проблемы. Поскольку эффективного министерства финансов в стране не было, ЦБ под руководством председателя Сергея Дубинина и его заместителя Сергея Алексашенко вынужден был взять на себя целиком задачу по проведению макроэкономической стабилизации. Причем оба эти руководителя, в отличие от большинства их коллег в мире, умели оценивать ситуацию в более широком ракурсе, применяя опыт своей прошлой совместной работы в министерстве финансов.
И на том первом ужине в день приезда, и практически на всех состоявшихся следом встречах во время визита в Москву Фишер подчеркивал, что частные рынки действительно положительно откликнулись на достигнутый в России за два последних года общий прогресс, но делать из этого вывод, что власти заслужили таким образом окончательное одобрение их усилий, было бы явно преждевременно. По мнению Фишера, реакция рынков лишь обозначила, что они, исходя из достигнутых результатов, готовы выдать российскому правительству определенный кредит доверия. И если дело обстоит именно так, то при дальнейших успехах властей реакция рынка станет еще более позитивной, но если прогресс в осуществлении реформ окажется несущественным, то отношение рынков изменится в обратную сторону.
Попытки найти действенное решение были предприняты еще даже до прихода в правительство «команды мечты». Переговорная группа МВФ во главе с миниатюрным и неожиданно для японца откровенным Юсуке Хоригучи, вице-премьер Владимир Потанин, министр финансов Александр Лившиц и другие российские руководители рангом пониже до конца зимы обсуждали программу. Московский офис МВФ, отныне под моим руководством, обеспечивал непрерывный диалог и техническую поддержку с целью облегчить успешное завершение переговоров по экономической программе на 1997 год.
Однако по мере поступления итоговых показателей 1996 года и особенно ввиду неожиданно низких доходов бюджета в начале 1997-го у руководства МВФ начали усиливаться сомнения в том, насколько реальным был достигнутый прогресс. Чтобы подстраховаться, впервые за всю историю осуществления программ МВФ во всем мире было предложено применить в качестве критерия реализации обязательные ежемесячные объемы доходов бюджета.
Сегодня можно смело утверждать, что результаты 1996 года и начало реализации первой российской среднесрочной программы в рамках расширенного кредитования МВФ (механизма финансирования EFF) были крайне неудовлетворительными. Определенные успехи, несомненно, были: удалось, например, снизить инфляцию и сохранить стабильность обменного курса рубля, причем вопреки сильному давлению на доверие рынка, обусловленному особенностями предвыборного периода. Но в остальном ситуация была значительно хуже: цели, согласованные в области фискальной консолидации, достигнуты не были, стабильность обменного курса достигалась за счет существенного сокращения валютных резервов, и к тому же накапливался весьма значительный государственный долг (включая кредиты МВФ и Германии, выпуски еврооблигаций и крупные объемы ГКО). При этом структурные реформы проводились гораздо менее энергично, чем можно было ожидать.
Недобор в доходной части бюджета объяснялся в первую очередь неуверенностью, свойственной предвыборному периоду, и резко подскочившими процентными ставками на рынке ГКО. Но в более фундаментальном плане сказалось, конечно, и то, что не была проявлена достаточная решимость при требовании налоговых задолженностей, в первую очередь с крупных плательщиков. Кроме того, управление налоговой системой оставалось слабым, и в самой системе сохранялись серьезные недостатки, особенно по части многочисленных налоговых льгот, которыми президент расплачивался за предоставляемые ему политические услуги. В некоторых случаях льготы получили те, кто реально помог обеспечить переизбрание Ельцина, но немало их было предоставлено и просто потому, что жесткого фискального контроля в стране по-прежнему не было.
Увеличить доходы бюджета не удалось, и поэтому не дали желаемого результата последовательные усилия, направленные на сокращение расходов. Дефицит бюджета рос, и во второй половине года образовались существенные задолженности. Еще в 1995 году в рамках соглашения stand-by предусматривалось принять закон, отменявший любые налоговые льготы за исключением тех, что конкретно прописаны в законодательстве. В силу этого и был принят закон №30, благодаря которому прекратилась практика введения налоговых и таможенных льгот президентскими указами. Однако случилось это отнюдь не сразу, и некоторые льготы оставались в силе даже в 1997 году.