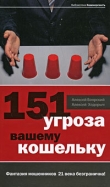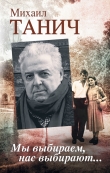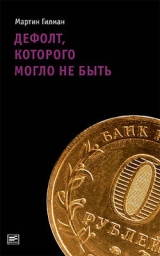
Текст книги "Дефолт, которого могло не быть"
Автор книги: Мартин Гилман
Жанр:
Экономика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Споры внутри МВФ
В конце июля миссия во главе с Маркесом-Руарте приехала в Москву с целью обсудить более конкретно вопросы, связанные с возросшим притоком капитала. Ситуация на тот момент была такова, что за один июнь Центральный банк купил и частично стерилизовал через операции на свободном рынке почти 2 млрд долларов – таков был результат размещения суверенных еврооблигаций, выделения кредита Всемирного банка и постоянно растущих инвестиций нерезидентов в российские активы, в частности в ГКО. Объем денежной базы на рынке увеличивался гораздо быстрее, чем предусматривалось в программе, и потому росло беспокойство относительно того, как это скажется на инфляции. Оценить как следует тенденцию на тот момент было, конечно, трудно, но признаки того, что снижение инфляции прекращается, были налицо. О том, чт о России в складывающейся ситуации следовало бы предпринять, в Вашингтоне перед отъездом миссии единого мнения не было.
Крайнее беспокойство по поводу ситуации без обиняков высказывал директор исследовательского департамента Майкл Мусса. С его точки зрения, самым неприятным было то, что из-за сокращения доходов бюджета в предыдущем году дефицит значительно превысил предусмотренный в программе объем, а в сочетании с по-прежнему жесткой денежной политикой это привело к сохранению реальных ставок процента на слишком высоком уровне. Он считал, что проводить корректировку в сторону ужесточения фискальной и ослабления денежной политики лучше всего было именно теперь, пока номинальные ставки процента продолжали снижаться и на рынке преобладали позитивное восприятие структурных реформ и доверие иностранных инвесторов. В такой ситуации риск нарушить процесс стабилизации был бы наименьшим.
В российской программе конкретных требований относительно объема денежной базы не было. Но поскольку приток капитала сохранялся на уровне выше прогноза, руководство МВФ поручило миссии договориться с Центральным банком о том, чтобы он ограничил рост кредитной экспансии на уровне ниже того, который был изначально предусмотрен в программе. Имелось в виду, что это замедлит рост денежной массы, хотя в каких именно пределах следовало применить эту компенсирующую меру, зависело от текущего уровня инфляции. В любом случае полная стерилизация не предполагалась; цель заключалась в том, чтобы привести рост денежной массы в строгое соответствие с согласованными целевыми показателями. Фишер также высказал пожелание, чтобы миссия совместно с российскими властями определила, какая конкретно доля притока капитала приходилась на рост внутреннего спроса на наличность.
На тот момент оснований прогнозировать прекращение чистого притока капитала у сотрудников МВФ не было. Но прогноз показателя роста экономики за год, тем не менее, был пересмотрен и снижен до 1,5%, поскольку результаты первого полугодия оказались явно недостаточными. Однако и в этом случае, чтобы расчет оправдался, во втором полугодии все так же требовалось весьма существенное ускорение роста. То есть и в этом вопросе логика расчетов была та же, что и в отношении увеличения бюджетных доходов.
А рынки тем временем от России были в полном восторге. В журнале Business Week от 15 сентября вышла статья, в которой говорилось: «Быки на фондовых рынках считают, что при нынешнем уровне цен инвесторы получают более чем достаточно за те риски, которые они на себя принимают. Особым доверием у них, похоже, пользуется Россия. Привлекательность ее стремительно растет, причем настолько, что, по оценке Merrill Lynch & Co., на нее только в этом году пришлось 7% всех кредитов, выданных странам с развивающейся экономикой». В статье далее подчеркивалось: «По мере того как экономическая и политическая ситуация в стране стабилизируется, а у Москвы появляется положительная кредитная история, доходность по российским долговым обязательствам приближается к показателям облигаций западных правительств... инвесторы с растущей уверенностью раскупают очередные выпуски ценных бумаг в этом регионе». Наконец, в статье обращалось внимание на то, что «еще одной новой формой прибыльных инвестиций являются долговые обязательства в местной валюте»: «В России, например, доходность рублевых государственных краткосрочных облигаций достигает 20 – 30%, а по более рискованным корпоративным векселям она может составить и все 100%».
Сомнения, сомнения
Поскольку приток капитала обнадеживал, большую часть времени миссия посвятила тревожному положению в области исполнения бюджета.
На заключительной встрече с Чубайсом 31 июля Маркес-Руарте подчеркнул, что сбор доходов по-прежнему недостаточен; даже заниженный согласованный показатель на первое полугодие – и тот не был достигнут. В то же время миссия признала, что отставание от целевого показателя было не столь значительным, а во втором квартале установленный уровень и вовсе был практически достигнут (разница возникла только из-за корректировки в сторону понижения результатов первого квартала) и что целевой показатель дефицита пока соблюдается, что налицо серьезные усилия по повышению сборов и что все остальные целевые показатели программы на конец июня достигнуты. С учетом всего этого миссия считала возможным рекомендовать руководству МВФ завершить квартальный обзор.
Чубайс в ответ сказал, что он результатами сбора доходов в начале года тоже недоволен, но в то же время перестановки в Госналогслужбе и ГТК начали давать отдачу уже во втором квартале. А в ГНС при полной поддержке правительства найдены средства для решения проблемы задолженностей, и поэтому нет сомнений, что запланированные на год высокие показатели таможенных сборов будут достигнуты [127] .
Была рассмотрена и проблема улучшения контроля за исполнением расходов. Чубайс и Кудрин начали работу в этом направлении и попытались провести системную инвентаризацию задолженностей с целью их последующей ликвидации либо обеспечения [128] . В отношении неденежных форм расчетов с бюджетом Чубайс заверил, что к концу года, когда завершится исполнение уже начатых операций подобного типа, эти расчеты будут наконец прекращены полностью. Он отметил, что главной причиной появления взаимозачетов был недостаточный контроль за расходами и что эта проблема будет решена после запланированного на 1 января 1998 года введения в действие казначейской системы. Была достигнута договоренность о тесном сотрудничестве при подготовке проекта бюджета на 1998 год.
Чубайс выразил уверенность, что правительство сможет отныне без помех проводить смелые реформы.
Маркес-Руарте по возращении в Вашингтон доложил о результатах переговоров. Он сообщил, что Чубайс обещал сделать все возможное для увеличения доходов, и далее указал, что проблема с задолженностями обострилась и требовала к себе повышенного внимания. ЦБ по-прежнему придерживался жесткой кредитной политики во избежание отрицательного влияния возросшего притока капитала на цены. В целом, назначенная весной новая экономическая команда, судя по всему, взяла управление структурными реформами в свои руки и придала им хороший импульс, подготовив, например, законодательную базу для антимонопольных преобразований. В широком смысле это соответствовало одобренной программе.
3 сентября совет директоров утвердил завершение квартального надзора, и через несколько дней был выделен очередной транш в 640 млн долларов. Тем не менее, уже тогда у членов совета директоров появились некоторые опасения. Камдессю отразил их в письме, которое он 11 сентября отправил Черномырдину. Он, в частности, написал, что директоров крайне беспокоила неустойчивость положения с бюджетом. В первом полугодии в рамках программы EFF уже было небольшое отставание по денежным поступлениям, а в июле и, возможно, в августе недобор начал существенно возрастать. Директора признавали, что в последние месяцы в этой области были предприняты серьезные усилия, но в то же время указывали, что их явно недостаточно, тем более что на второе полугодие было запланировано резкое увеличение денежных сборов.
В условиях нехватки поступлений задолженность можно было ликвидировать только при строжайшем контроле за расходной частью. Соответственно директора призывали российское правительство принять решительные меры и наладить за счет введения казначейской системы более эффективное распоряжение расходами. В заключение Камдессю отметил, что сотрудники МВФ поддерживают постоянный контакт с командой Чубайса в министерстве финансов с целью улучшить положение в фискальной области. Директор-распорядитель призвал совет директоров и российские власти «не жалеть усилий в этом направлении», пообещав: «Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы помощь России продолжалась».
Неприятные реалии
Когда совет директоров 3 сентября утверждал результаты квартального надзора, в московский офис МВФ уже начали приходить сведения, что поступления в бюджет продолжают отставать от плана. По данным за июль, отмечался недобор по акцизам и по НДС, а общий денежный доход бюджета за месяц оказался чуть ниже 7% ВВП и составил 19,1 трлн неденоминированных рублей против предусмотренных планом 24,6 трлн. Вьюгин считал, что результат в августе вряд ли получится намного лучше и что нет никаких гарантий, что в сентябре удастся наверстать упущенное и все-таки выполнить 9-месячный план. Однако официально его сотрудники заявляли, что начиная с сентября сборы будут расти и даже что план на конец сентября, скорее всего, будет выполнен. Но из всего этого можно было заключить, что запланированные на год денежные доходы бюджета в размере 283 трлн неденоминированных рублей – это все-таки нереально [129] .
Вьюгин соглашался, что в скором времени будет, наверное, лучше пересмотреть ожидаемые годовые показатели сбора доходов. Он даже признался, что, по некоторым прикидкам его сотрудников, недобор за год мог составить до 40 трлн неденоминированных рублей. В реальности он составил несколько меньше: в 1997 году в бюджет поступило 252 трлн неденоминированных рублей.
При этом, как ни странно, показатели бюджетного дефицита оставались на установленном в программе уровне. Но следует учитывать, что для серьезного мониторинга расходной части надежных данных явно не хватало. Так, например, по официальной статистике расходы федерального бюджета за июль были чуть выше 11% месячного ВВП, в то время как по общим оценкам они должны были составить примерно 14%. При том, что вплоть до введения казначейской системы отслеживать текущую задолженность можно было только по двум статьям (зарплатам и трансфертным платежам Пенсионному фонду), вывод напрашивался сам собой: по каким-то другим статьям бюджета происходит накопление неучтенной чистой задолженности.
Исходя из поступавших данных, сотрудники МВФ начали предупреждать российских коллег, что в проект бюджета 1998 года, переданный в августе на рассмотрение в Думу, доходы заложены чересчур оптимистичные. В Минфине ожидаемый годовой доход на 1997 год снизили, но лишь до 8,5% ВВП, хотя по результатам первых семи месяцев получилось не более 7,3% ВВП [130] .
Пожалуй, лучше всех остальных в бюджетных вопросах разбирался заместитель председателя ЦБ и одновременно бывший заместитель министра финансов Сергей Алексашенко [131] . В беседе, состоявшейся между нами в конце августа, он поделился своей оценкой положения. Он согласился, что сбор доходов неудовлетворителен, но в то же время отметил, что ничего нового в этом нет и что вообще с момента отъезда июльской миссии МВФ не случилось ничего такого, что оправдывало бы пересмотр плановых показателей за год. Хотя, естественно, если каждый раз не выполняется план на месяц, наверстать упущенное к концу года становится все труднее. Он подчеркнул, что как минимум до приезда очередной миссии в конце октября Чубайс о невыполнении запланированного на год не признается, поскольку вроде бы, добиваясь согласия Ельцина на секвестр бюджета 1997 года, пообещал ему, что сбор запланированных доходов обеспечит обязательно.
Алексашенко также призвал не питать иллюзий и не рассчитывать на то, что сборы можно существенно увеличить за счет какого-то «пакета чрезвычайных налоговых мер». Он также высказал мнение, что любая попытка упорядочить сбор и распоряжение налогами будет по-прежнему затруднена отношением сотрудников ГНС, которые видят свою задачу не в том, чтобы обеспечивать сборы, а в том, чтобы проверять правильность расчетов. Независимо от перемен в руководстве налогового ведомства, такое отношение к делу на местах быстро изменить невозможно, особенно при тех низких зарплатах, которые платят налоговикам. Наконец, он подчеркнул, что принятие нового Налогового кодекса (в его тогдашнем виде) только усложнит положение, поскольку в нем в плане обеспечения платежей предусмотрены одни полумеры, а вот полномочия налоговой полиции урезаны.
С учетом сказанного сразу возникал вопрос: если доходы увеличить не удастся и при этом пытаться удержать дефицит в согласованных рамках, то как тогда, не увеличивая задолженность, еще больше сократить расходы в и без того уже секвестрированном бюджете? Алексашенко разъяснил, что пока Чубайс повязан по рукам и ногам, поскольку не может признаться Ельцину в неисполнении плана доходов. Но время в запасе еще есть, поскольку если недобор к концу года все-таки случится, то в последние два месяца, когда обычно производится большой объем платежей, вполне можно будет предпринять определенные шаги. Ситуацию в таком случае нужно будет очень тщательно отслеживать, и потребуются жесткие решения об отсрочке или отмене некоторых бюджетных платежей. Но именно это сделать будет гораздо труднее.
По словам Алексашенко, главная проблема заключалась в том, как реально проконтролировать расходы, не на бумаге, а на практике; другими словами, как взять под контроль механизмы, работающие внутри «черного ящика». К сожалению, до тех пор, пока не заработает эффективная казначейская система, никакой другой системы для предотвращения роста задолженности нет. По мнению Алексашенко, глава Казначейства Александр Смирнов сам не знал как следует, какова его цель, а потому и не представлял, что нужно делать, чтобы ее достичь. Он наверняка рапортовал своему начальнику – Чубайсу – что Казначейство будет готово приступить к работе 1 января 1998 года, и это соответствовало действительности в том смысле, что примерно 2500 отделений уже имелись в наличии. Но у каждого из них был свой отдельный счет, а вот центрального контроля за их операциями так и не было. Алексашенко считал, что даже при наличии желания и подходящих людей на создание настоящей казначейской системы, способной контролировать исполнение расходов и платежи, все равно потребуются годы. Из чего следовал вывод, что «черный ящик» еще долгое время будет оставаться слабым местом фискальной системы.
Предсказания Алексашенко, к сожалению, сбылись. Проблема так и осталась нерешенной. А когда азиатский финансовый кризис докатился до России и одновременно рухнули мировые цены на нефть, она дала о себе знать со всей своей силой.
Безмятежное настроение в Гонконге
Как я уже писал в главе 2, на встрече с Камдессю в Гонконге 23 сентября 1997 года российская делегация словно напрочь забыла о домашних проблемах. Чубайс, конечно, отметил, что с доходами бюджета дело по-прежнему обстоит непросто, но дальше уже говорил о том, как энергично работали он и его команда, не дожидаясь вступления в силу нового Налогового кодекса и даже бюджета на 1998 год. Он сказал о намерении объявить банкротом некую крупную компанию на основании налоговых неплатежей (видимо, речь шла о «Нижневартовскнефтегазе») и тем самым продемонстрировать принципиально новую позицию правительства. Чубайс утверждал, что Ельцин и Черномырдин настаивают на радикальном прогрессе в реформах [132] . В связи с этим любые новые идеи МВФ он будет только приветствовать.
По поводу денежной политики и перспектив второго полугодия 1997 года Дубинин высказался спокойно, отметив, что в дополнение к обычному сезонному оттоку капиталов перед намеченной на 1 января 1998 года деноминационной реформой можно ожидать временного ухода денег в иностранные валюты в качестве меры предосторожности [133] . В остальном же он подчеркнул, что необходимо поддерживать стабильность обменного курса, но сохранять при этом определенную гибкость.
Благодушие российской делегации, как, впрочем, и большинства остальных участников встречи в Гонконге, было настолько велико, что они не замечали даже того, что происходило прямо у них перед глазами. Недавние события в Таиланде казались всем затруднением сугубо местного характера. А Чубайс и вовсе с завидной самонадеянностью предположил, что разочарованным в азиатских рынках инвесторам стоило бы всерьез подумать, не выбрать ли им Россию в качестве «тихой гавани» для их капиталов!
Всего две недели оставалось тогда до взрыва мины замедленного действия в Корее. Но сила мифа об азиатском чуде была такова, что никто ни на миг не задумывался о возможности краха. А он все же случился. Импорт нефти и сырья на ведущие азиатские рынки резко сократился, цены на них упали, и кризисная волна пошла по всему миру. Именно в ней потом усмотрел одну из главных причин кризиса в России профессор Ясин.
Стэнли Фишер выступил 19 сентября на одном из семинаров в Гонконге с докладом, в котором решительно высказался в пользу внесения в Устав МВФ поправок, которые позволили бы фонду в полную силу включиться в процесс регулирования и либерализации международных рынков капитала. Он отметил случившиеся недавно волнения в регионе – в частности, атаки на тайский бат и его девальвацию, за которой последовала девальвация еще ряда валют, а также и симптомы распространения трудностей по всей Восточной Азии, аналогичные тем, что наблюдались в 1995 году в Латинской Америке и, в меньшей степени, в 1993 году в Европе. Возражая тем, кто считает, что от движения капиталов обычно больше экономических проблем и рисков, чем пользы, Фишер попытался показать, что упорядоченное развитие либерализованной системы, наоборот, служит интересам стран – членов фонда.
Глава 8 Расчеты не оправдываются
Опять плохие новости
Как только российские руководители вернулись из Гонконга, на них одно за другим посыпались неприятные известия. Пессимистичные прогнозы Вьюгина по поводу поступлений в бюджет начинали сбываться. Пошли разговоры, что корейские и бразильские инвесторы избавляются от российских активов. Резервы ЦБ сократились на 0,5 млрд долл. в сентябре и еще на 0,2 млрд долл. в октябре. И на рынке ГКО, и на фондовом рынке заметно возросла волатильность.
Центральный банк отреагировал на ситуацию неоднозначно. С одной стороны, его руководителей тревожило то, что азиатский кризис может иметь отрицательные последствия для российского валютного рынка, а у них при этом не было в наличии механизма, позволяющего реально отслеживать ситуацию. Даже те сведения, которые они получали от банков, были скорее формальными отписками, нежели информацией по существу. ЦБ не располагал регулярно обновляемыми сведениями о движениях капиталов нерезидентов, в первую очередь на рынке ГКО, о валютных позициях банков, о гарантиях, форвардных контрактах и других внебалансовых статьях, а также неконсолидированной отчетностью дочерних предприятий банков. По просьбе Алексашенко сотрудники МВФ подготовили справку о валютных кризисах, спекулятивных атаках на конкретные валюты и о возможных последствиях таких событий для России.
С другой стороны, руководители ЦБ стали менее охотно делиться информацией с МВФ. В Гонконге Маркес-Руарте обратил внимание Алексашенко на то, что информация от ЦБ поступает с запозданием и в недостаточно полном объеме. Об этом же пытался говорить и я еще несколькими неделями раньше, поскольку качество поступавших сведений уже тогда не соответствовало стандартам МВФ. Алексашенко несколько наивно отвечал в том смысле, что надзор теперь осуществлялся поквартально и потому потребность в ежемесячных справках якобы отпала. Но Маркес-Руарте твердо дал ему понять, что он заблуждается и что впредь квартальные обзоры не будут считаться завершенными до тех пор, пока ЦБ не решит этот вопрос. Скорого решения, тем не менее, не последовало [134] .
Тем временем на фоне возросшей волатильности российских финансовых рынков и все большей неясности с бюджетом на 1998 год и в Москве, и внутри МВФ развернулась оживленная дискуссия по поводу текущей фискальной ситуации в России.
В Москве ее рассматривали следующим образом. В конце сентября 1997 года глава Института экономики переходного периода Егор Гайдар объяснял упорное сокращение поступлений в бюджет не в последнюю очередь тем, что у нефтяной, газовой, металлургической промышленности и некоторых других секторов имелось все больше возможностей для так называемого «налогового планирования». Пользуясь имевшимися в и без того противоречивом налоговом законодательстве многочисленными лазейками, они осуществляли свои расчеты и получали окончательные прибыли через офшорные фирмы. Гайдар считал, что любые попытки противодействовать этому напрямую через аудит компаний трудно осуществимы и вряд ли дадут ощутимый результат. Предпочтительнее, с его точки зрения, было применение правовых мер принуждения, за которые также уже давно выступал первый заместитель министра финансов Сергей Игнатьев. Нефтяным компаниям, например, можно было перекрывать доступ к государственным экспортным нефтепроводам вплоть до возмещения всех их задолженностей. По оценке Гайдара, после некоторого увеличения поступлений в бюджет в мае и в июне налоговики преждевременно успокоились, поскольку недостаточно решительные меры по ликвидации задолженностей и сохраняющаяся возможность использовать зачеты никак не способствовали увеличению сборов.
Во время встречи в конце сентября Вьюгин высказал мнение, что прибегать к каким-то чрезвычайным мерам для увеличения поступлений бессмысленно. С его точки зрения, недобор объяснялся в первую очередь причинами, коренящимися в существующей административной системе, и потому авральные мероприятия в лучшем случае могли дать только временный результат. Он считал, что сосредоточиться надо на устранении условий, благоприятствующих неплатежам (задолженность самого бюджета и зачеты), и на реформе аппарата Госналогслужбы. Особое внимание при этом следовало обратить на воспитание в ГНС нового отношения к делу и тем самым помочь новому руководству добиться того, чтобы налоговики в первую очередь заботились не о проверке отчетности, а о сборе налогов.
Относительно конкуренции между налоговыми ведомствами Вьюгин отметил, что действительно ГНС напрямую подчинялась Чубайсу, а налоговая полиция и таможня – Куликову, но на практике все они подчинялись в конечном итоге одному Чубайсу и согласовывали все свои действия с Минфином. Черномырдин, по словам Вьюгина, незадолго до того дал строгое указание обеспечить согласованность действий ГНС и налоговой полиции. Что касается ГТК, то, с точки зрения Вьюгина, проблема была не столько в недостатке согласованности действий, сколько в коррумпированности таможенников.
Тревожно прозвучало мнение Вьюгина о том, почему Чубайс не имеет возможности более решительно добиваться увеличения поступлений в бюджет. Вьюгин сказал, что правительство имеет «коалиционный» состав и что некоторые группы в нем явно против усилий Чубайса.
Было похоже, что в ответ на слишком сильное давление на должников со стороны Чубайса его противники могли через подконтрольные СМИ обнародовать некий компромат и таким образом скомпрометировать весь процесс реформ. По мнению Вьюгина, ситуация была крайне опасная и практически безвыходная. Чтобы суметь все-таки найти политическое решение, Чубайсу следовало с большой осторожностью выбирать подходящий момент для решительных мер в сфере сбора налогов. Вьюгин отметил, что в этой ситуации МВФ мало чем мог помочь, так что фонду оставалось только продолжать настаивать на проведении согласованной политики.
Через пару недель эту оценку Вьюгина поддержал Сергей Васильев. Его мнение сводилось к тому, что Чубайса все больше теснили люди из окружения президента (похоже, имелся в виду Лившиц) и некоторые влиятельные банкиры. Они признавали, что Чубайс умеет решать проблемы, но при этом считали, что решение основных макроэкономических проблем (инфляция, валютные резервы, экономический рост) уже отошло на второй план. К тому же, с точки зрения этих людей, Чубайс стал политически сильно уязвим, и потому Ельцину желательно от него избавиться – чем раньше, тем лучше. На первый взгляд казалось, что те, кто настраивал Ельцина против Чубайса, на самом деле пытались сорвать проведение его политики. Но, с учетом особенностей тогдашней политической борьбы, речь скорее все-таки шла о попытке убрать чересчур сильного конкурента.
Вряд ли поэтому было просто совпадением то, что произошло в октябре. На рынках тогда начала ощущаться нервозность, поскольку инвесторы с растущей тревогой отмечали признаки распространения азиатского кризиса. Телеведущий Сергей Доренко в одном из выпусков программы «Время» обвинил людей Чубайса в том, что они пытаются дестабилизировать валютный рынок тем, что «сливают» одному из ведущих западных телеграфных агентств информацию о якобы планируемой отставке Чубайса. Телеканал, по которому шла передача – ОРТ, в то время контролировался заклятым врагом Чубайса Березовским.
Как и многие другие российские чиновники, имевшие дело с МВФ и прочими иностранными представителями, Васильев имел привычку преподносить соперничество между отдельными политиками в сильно преувеличенном виде и выдавать его за почти неприкрытые попытки изменить политический курс страны. Расчет при этом, видимо, был на то, что, выступив в защиту оказавшейся под угрозой политической линии, МВФ помог бы заодно снять давление и с людей, эту линию отстаивавших. Именно поэтому Васильев настаивал на том, что до сих пор решены были только относительно несложные проблемы (например, установление контроля за денежной базой), в то время как действительно трудные фискальные задачи и связанные с ними структурные преобразования, затрагивавшие интересы влиятельных групп, наталкивались на упорное сопротивление. В результате этих бесед сложилось впечатление, что Васильев стремился привлечь МВФ на свою сторону и хотел, чтобы фонд попытался убедить Ельцина в незаменимости Чубайса. Но МВФ пытался, насколько это было возможно в крайне напряженной политической атмосфере, царившей внутри МКАД, строго различать, где речь шла о политике, а где – о политиках.
Судя по настойчивости, с которой крупные российские деятели пытались выдать свои внутренние распри за борьбу добра и зла в политике, они, видимо, считали, что МВФ способен как-то повлиять на ситуацию. Если так, то они явно заблуждались: МВФ не имел ни желания, ни возможности вмешиваться в подобные политические споры. Хотя, скорее всего, они просто рассчитывали повлиять на МВФ – чтобы он не так жестко реагировал в тех случаях, когда власти в силу обстоятельств были не в состоянии проводить согласованную с фондом политику.
На встрече с технической миссией МВФ 6 октября Кудрин подчеркнул, что необходимо наконец решить проблему с зачетами, поскольку иначе в 1998 году наверняка повторится ситуация предыдущих лет. Задолженности по налогам будут по-прежнему повсеместно списывать в счет погашения задолженности бюджета, и никакого эффективного контроля за исполнением бюджета опять не получится. Мы согласились с ним и предположили, что лучше всего как можно скорее завершить те зачеты, которые уже давно оговаривались сторонами, и одновременно объявить окончательную дату, после которой эта практика будет полностью прекращена. Чтобы эти меры восприняли всерьез, необходимо было срочно вводить действенный контроль за расходами и расписать бюджет на следующий год таким образом, чтобы как можно меньше платежей приходилось на первые месяцы, которые обещали стать самыми трудными с точки зрения доходов.
Кудрин согласился и подчеркнул, что в Минфине придерживались того же мнения (в первую очередь Игнатьев и сам Чубайс). Но зато эту точку зрения не все разделяли в Кремле (Кудрин упомянул в этой связи Лившица, который к тому моменту уже вернулся в президентскую администрацию). Там некоторые продолжали считать, что в любом случае взаимозачеты – лишь неизбежное зло. Проект президентского указа, запрещавшего их с 1 января 1998 года, был готов, но так и лежал неподписанный, поскольку окончательное решение так и не было принято. Кудрин думал, что мнение МВФ могло бы помочь поставить точку в этом вопросе.
8 октября состоялась встреча с Лившицем. Он также высказал озабоченность в связи с налоговыми зачетами, которые, с его точки зрения, создавали простор для коррупции. Поскольку их связывали с его именем, он был только рад их предстоящей отмене. Но в то же время, как и указывал Кудрин, Лившиц не возражал против использования «обратных» денежных зачетов, которым он все равно не видел альтернативы [135] .