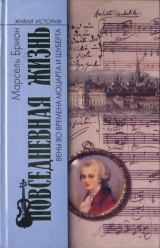
Текст книги "Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта"
Автор книги: Марсель Брион
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 23 страниц)
Перечисление венских дворцов, построенных в XVIII веке, превращается в парад самых громких имен австрийской, венгерской и богемской аристократии: это Зичи, настаивавшие на своем турецком происхождении, Лобковицы, владевшие почти королевским замком в окрестностях Праги, Шварценберги, пришедшие из Франконии несколько столетий назад, уроженцы Италии Коллоредо, потомки старинной чешской фамилии Коловраты, Виндишгрецы, богемцы, как и Гаррахи, чье дворянство восходит к XI веку, тогда как предки Лобковицев были знамениты уже в IX столетии; Кински, для которых Хильдебранд построил дворец с превосходным фасадом на Геренгассе, Чернины, Пальфи, Лихновские. Что касается русского посла Разумовского, который сыграл впоследствии такую важную роль в жизни Бетховена, то он построил себе поистине княжескую резиденцию, где играли самые великие музыканты того столетия, богатого музыкальными шедеврами и виртуозами-исполнителями.
Мода и элегантность
Формирование вкусов в области моды во многом напоминало развитие архитектурных стилей. Известная романистка и мемуаристка Каролина Пихлер, которая подробно познакомила читателей с Веной своего времени, описывает дам-аристократок, направляющихся в церковь в больших черных накидках, отделанных польским мехом, отороченных красным атласом и голубым песцом и украшенных золотыми кистями. Мужчины носили черные бархатные фраки на подкладке из розового атласа, открытые на уровне расшитого жилета из золотого сукна. На голове у них был парик, подвязанный лентой на затылке, на ногах – белые шелковые чулки и туфли с красными каблуками и с пряжками, украшенными бриллиантами.
Эти аристократы, жившие в пышных дворцах, прогуливались в роскошных экипажах, которыми с начала той эпохи славилась и впоследствии будет славиться Вена. Представьте: впереди едут гайдуки в венгерках, и бегут одетые по-турецки, в чалмах с султанами и в сапогах с загнутыми вверх носками, согласно веянию того времени, когда мода знаменовалась тягой ко всему восточному, курьеры с посланиями своих хозяев в золотой шкатулке на длинной палке, пользуясь которой они прокладывают себе дорогу через толпу. Все это придавало городу праздничный вид: подобно тому как дворцы часто вырастали посреди мешанины жилищ обычных горожан, а то и просто бедных лачуг, эта аристократия, так гордившаяся своими древними корнями и могуществом, не чуралась общения с простонародьем, когда в тысячах жизненных обстоятельств все собирались вместе.
Этикет и простота
При дворе и в аристократических салонах строжайшим образом соблюдалось местничество, при почти суеверном следовании правилам этикета, являвшегося, по всей вероятности, наследием испанского духа. Зато когда те же самые аристократы прогуливались в парках или просто по улицам, даже самые выдающиеся из них старались остаться незамеченными и смешаться с толпой, как если бы сами к ней принадлежали. Граф Сент-Олер, бывший послом в Вене в первой трети XVIII века, очень реалистично описал это в своих Мемуарах, изданных Марселем Тьебо. [19]19
Paris: Calmann-Levy, 1927. Примеч. авт.
[Закрыть]
Этому французскому дипломату довелось сопровождать эрцгерцога Карла и герцога Орлеанского в загородной прогулке. «Под вечер мы вернулись в город, – пишет он. – В общественном парке нам предложили изысканный легкий завтрак под открытым со всех сторон навесом. Вокруг прохаживались многочисленные горожане. Не было никакой охраны – ни одного солдата, ни полиции; ящики, полные столового серебра, подносы, заваленные фруктами, были в полном распоряжении этого доброго народа. Когда мы там появились, люди молча расступились, чтобы мы могли сесть. Вместо шумных приветствий, без которых не обошлось бы в Париже, мы встретили лишь дружелюбные взгляды и уважительную непринужденность. Оркестр под управлением Штрауса играл национальные мелодии. Погода была теплая, небо безоблачное. Этот настоящий праздник, к которому нечего было добавить, продолжался для нас до десяти часов вечера».
Даже сама императорская семья отказывалась от строгого соблюдения протокола, участвуя в народных развлечениях, при этом отмечалась все та же деликатность с обеих сторон, одинаковая готовность не стеснять друг друга. Привязанность народа к монархам выражалась не радостными возгласами при виде императора, а скорее своего рода почтительным дружеским расположением, как если бы такое событие было вполне естественным, повседневным. Представлялось само собой разумеющимся, что монарх запросто прогуливается среди своих подданных. Для графа Сент-Олера, привыкшего к французской толпе, прогулки императора по Пратеру или по Аугартену почти без всякого эскорта и без полицейской охраны были «любопытным зрелищем», но ведь отцу нечего бояться, когда он находится среди своих детей, от них не должно ожидать дерзостей и бесцеремонности. Каждый раз, когда посол описывает взаимоотношения между монархом и венцами, он использует слово « дружелюбие»: действительно, можно говорить о реальном и глубоком взаимном уважении между правителями и подданными.
Как мы уже сказали, Иосиф II предпочитал, чтобы люди не замечали его присутствия и вели себя так, как если бы он был невидимкой. Фердинанд I Великодушный не претендовал на это. Его непринужденность была проще и естественней, потому что сам он был менее робок, чем Иосиф, а значит, менее скован и меньше стеснял людей. Когда его узнавали, он отвечал на приветствия, как ответил бы любой другой прохожий. Эта деталь позволила графу Сент-Олеру, описавшему ее в своих Мемуарах, отметить присущую венскому характеру особенность: непринужденность венцев никогда не угрожала превратиться в неуважительность.
«Обе стороны на равных обменивались приветствиями с дружеской улыбкой. Император знал поименно множество людей и часто обращался к ним с несколькими дружелюбными словами, которые всегда принимались с искренним уважением и никогда не вызывали бестактных ответов. Если он останавливался во время своих частых прогулок, вокруг, на почтительном расстоянии от него, постепенно собиралась толпа; никому и в голову не приходило как-то определять границу, которую не следовало переступать. При таких встречах стирались любые различия, так подчеркнуто соблюдавшиеся при других обстоятельствах. Первая дама Вены не осмелилась бы оттолкнуть женщину из простонародья, чтобы подойти ближе к монарху. Сам же он в присутствии народа служил примером уважения к равенству и импонировал людям скорее своею стеснительностью, нежели пренебрежением правилами, тщательно разработанными полицией для простых граждан». Несмотря на общие бедствия – войну, чуму, наводнения, а также на личные невзгоды (ведь от всего этого Австрия не была застрахована, как и любая другая страна), благополучие жителей Вены было обусловлено «искусством жить», которое выработалось у них самопроизвольно и органически, правда, при благоприятных материальных условиях, но также и в особенности благодаря естественной предрасположенности к благополучию, являющейся чрезвычайно важной чертой характера, без которой эти честные люди, вероятно, стали бы чувствовать себя жестоко угнетенными своими монархами и принимали бы их непринужденность и простые добрые намерения за скрытый «патернализм», чреватый посягательством на их естественную свободу.
Народы, как и отдельные люди, одни больше, другие меньше, наделены способностью «строить свое благополучие», пользуясь средствами, предоставленными судьбой в их распоряжение. Никто не отрицает, что в распределении земных благ, на которых, в частности, зиждется благополучие, играют свою роль внешние события. Но блистательное великолепие, которым Вена украсила себя после страданий под турецкой осадой, энергия и смелость, с которыми она восстановилась после катастрофических разрушений войны 1939–1945 годов, с пронзительной очевидностью свидетельствуют о волшебном даре жителей Вены: об умении улыбаться как благополучию, так и несчастью.
Глава вторая
ПОРТРЕТ ВЕНЦА
Йозеф Рихтер, Грильпарцер, Адальберт Штифтер – создатели образа венца. Влюбленные в природу. Религиозность венцев. Святая Бригитта. Городские развлечения. Прогулки. Музыка
Если нелегко создать портрет города, то еще труднее написать портрет его обитателя. В особенности когда речь идет, как в данном случае, о космополитическом центре, где за многие столетия смешались все европейские расы. Совершенно очевидно, что абстрактного понятия «венец как таковой» не существует. Поэтому как физический, так и нравственный портреты жителя Вены рискуют оказаться в равной степени произвольными. Кого можно назвать венцем в полном смысле этого слова в городе, население которого в интересующий нас период продолжало разрастаться с колоссальной быстротой, потому что туда из всех княжеств империи устремлялись самые выдающиеся люди? Сколько времени нужно было прожить в этом городе, потомком скольких поколений «истинных венцев» следовало быть, сколько нужно было иметь за спиной поколений дворянства, приобретенного гражданской службой, чтобы получить право называться венцем? И если бы мы наугад остановили свой взгляд на любом жителе этого города, вполне вероятно, он мог бы оказаться либо совсем недавним иммигрантом, либо человеком, откровенно не поддающимся ассимиляции.
Существует всего один надежный или, скорее, относительно надежный критерий – считать настоящими венцами только знаменитостей, родившихся в этом городе, например таких, как Шуберт, Грильпарцер, Штифтер. Но можно ли позволить себе такое явно неправомерное обобщение и распространить на всех жителей города признаки, присущие, возможно, всего нескольким исключительным личностям? Нет сомнений в том, что, учитывая господствующую в наше время тенденцию к обобщению всего и вся, можно было бы составить некий, как теперь это называют, «портрет-робот», наложив один на другой множество образов и выделив из них лишь общие для всех черты, но подумать только – что представлял бы собой подобный образ: это был бы портрет всехгорожан, то есть ничейпортрет… И все же веками существует некий виртуальный персонаж, который называется венцем, – это член общности индивидов, обозначаемой именем «венцы», и этот типаж вполне имеет право на существование. Нам следует также помнить, что лучший способ кого-то узнать – это увидеть его в повседневной жизни: поступки, поведение, реакции, вкусы и антипатии раскроют наблюдателю его характер. В этом смысле мы вполне можем доверять превосходному романисту Адальберту Штифтеру, обратясь к его книге Вена и венцы, [20]20
Stifter A. Wien und die Wiener. Примеч. авт.
[Закрыть]которая познакомит нас с его соотечественниками.
Йозеф Рихтер, Грильпарцер, Адальберт Штифтер – создатели образа венца
С высоты причудливого дома в виде башни на Ад-лергассе, который был жилищем Парацельса в венский период pro жизни, и из своей квартиры на последнем этаже дома на Зайтенштеттергассе, где Адальберт Штифтер поселился позднее, его взору открывалась панорама города и окрестностей. Этот писатель и одновременно живописец, входивший в число лучших художников-романтиков, мог вволю любоваться пейзажем равнины и лесов и одновременно изучать поведение и манеры, быт и образ жизни как своих соседей, так и прохожих на улице. Подобно Грильпарцеру, Штифтер любил Вену с истинной страстью – да и кто ее так не любил? – что, впрочем, не позволяло ему закрывать глаза на ее мелкие недостатки. Читая его романы о жизни соотечественников, мы особенно хорошо представляем себе облик города, каким он был в начале XIX столетия (Штифтер родился в 1805 году), но при этом убеждаемся в том, что одни и те же постоянно действующие факторы заставляют народ столетиями оставаться самим собой в своих основных проявлениях. Так, комические черты жизни Вены периода до 1800 года, о которых мы узнаем от персонажа Йозефа Рихтера, уроженца деревни Айпельдау, сохраняются на всем протяжении XIX века, и мы обнаруживаем множество их даже в наши дни.
Романы Штифтера по-своему столь же документальны, как и письма рихтеровского «человека из Айпельдау», и дневник Бойерле, и мемуары Каролины Пихлер, мы с одинаковой уверенностью в надежности информации узнаем из них многое не только о жизни действующих лиц, но и о самих авторах. Это относится также и к романам Артура Шницлера, в которых с удивительной точностью, с трепетным волнением и иронией воспроизводятся картины Вены начала XX века.
Письма «человека из Айпельдау» очень своеобразны; они мало понятны читателю, не знакомому с венским диалектом, но само воспроизведение в них народного языка со всей его сочностью, насмешливостью, необычностью, простодушной ироничностью и здравомыслием кажется читателю бесконечно привлекательным, и благодаря этому изобретательный прием Йозефа Рихтера вызывает ощущение подлинности. Письма были написаны между 1785 и 1794 годами, и для тех, кого интересуют венская мода, политические идеи, театральный репертуар, публичные развлечения, они представляют собой почти неисчерпаемый источник информации.
По замыслу Йозефа Рихтера эти письма шлет своему провинциальному кузену крестьянин из окрестностей Вены, решивший обосноваться в столице. Оглушенный совершенно новой для него действительностью, он относится к ней подозрительно и оценивает с основательной крестьянской мудростью. Он и есть «человек из Айпельдау», неотесанный мужик из деревни, которую на протяжении столетий называли то Ойпольтау, то Эльпельтау и даже Альпильтове. В Айпельдау конца XVIII века было сто тридцать три дома и восемьсот семьдесят один житель. «Человек из Айпельдау» традиционно воспринимался горожанами как напуганный туповатый недотепа, одетый кое-как, с молочным поросенком под мышкой и с гусем под другой, растерянно бродящий по улицам, оторопевший от городского шума; его то грубо отталкивают с дороги спешащие рассыльные, то едва не давят экипажи, несущиеся галопом, как это принято у самых рисковых и ловких в мире венских кучеров.
Этот ежедневно узнававшийся на площадях и рынках города типичный образ, который обессмертил Йозеф Рихтер, не мог не занять своего места также и на театральной сцене. В 1805 году актер Таддаи, одевшись как «человек из Айпельдау», впервые ввел его в поставленную Йозефом Эльменрайхом оперу КапельмейстерДоменико Чимарозы. «Человек из Айпельдау» фигурировал также в 1809 году на сцене Леопольдштадтского театра в комедии Кайнгштайнера Ганс в Вене. Ему посчастливилось участвовать и в балете Шуберта Сезоны любвив 1814 году. Известна также целая серия фарсов, в которых этот комический персонаж выступал героем самых разнообразных приключений, он даже проник в круг императорского двора в буффонаде Фердинанда Эберля Человек из Айпельдау в Хофбурге.
Чрезвычайно уморительна неловкость, с которой этот «тупица» коверкает бывшие тогда в моде иностранные имена и французские выражения. Полные блистательного остроумия Письма человека из Айпельдаусегодня читаются с большим интересом как свидетельства из первых рук о жизни различных классов общества, о моде и об убеждениях конца венского века. [21]21
Читатели, которым покажется слишком длинным и, возможно, скучноватым полное издание Eipeldaubriefe, с удовольствием прочтут отрывки из него в книге Walter Zinzenbach, Josef Richter, Bekannt als Eipeldauer(Stiasny Verlag, Wien), включающей также несколько поэм и замечательный Словарь. Примеч. авт.
[Закрыть]
Если бы венцы однажды пожелали взглянуть на то, что стоит за издавна известным призывом memento mori,отвлекшись от предпочитаемого ими девиза memento vivere, [22]22
Memento mori( лат.) – помни о смерти; memento vivere( лат.) – помни о жизни. Примеч. пер.
[Закрыть]им следовало бы лишь пройтись по катакомбам, простирающимся под частью внутреннего города и восходящим, вероятно, к римской Виндобоне; их взорам представилось бы полное трагизма зрелище, мастерски описанное Адальбертом Штифтером в одной из самых любопытных и захватывающих глав его книги Вена и венцы. В катакомбах собраны тысячи трупов, защищенных от полного разложения уж и не знаю какими химическими процессами, одни из них свалены во внушающие ужас кучи, другие заботливо уложены вдоль стен или прислонены спинами к стенам извилистых проходов. Блики света факелов таинственно мечутся по их скалящим зубы лицам, по телам, на которых еще держатся лохмотья одежды, словно оживляя их для участия в некой иллюзорной пляске смерти.
В противоположность древним римлянам, в конце своих пиршеств пускавшим по кругу изображения трупов и скелеты на шарнирах, чтобы путем такого торжественного предупреждения пробудить в пировавших радость жизни и наслаждения всеми земными удовольствиями, житель Вены не нуждается в напоминании о неотвратимом конце: оно скорее портило бы ему радость, нежели побуждало к сиюминутному наслаждению; оно омрачило бы ту невинную, наивную и почти детскую удовлетворенность, которую венец испытывает, живя на этом свете и умеренно пользуясь утехами, которыми его ежеминутно щедро одаряет жизнь. Его характеру чужда дюреровская меланхолия, ставящая под вопрос решительно все и прежде всего ценность и значение самой жизни. Венская меланхолия, такая, например, какую мы порой находим у Моцарта, у Шницлера, мимолетна и легка, это скорее тень от тучи, нежели сама туча, она никогда не гнетет человека и не приводит его в уныние, а тем более в отчаяние.
Превосходный анализ венского характера являет собой описание Грильпарцером своего родного дома, своей семьи, условий, в которых прошло его детство. Грильпарцер родился 15 января 1791 года в изысканном и печальном доме на Бауернмаркте, полном бесконечных вестибюлей, ведших неизвестно куда, и громадных комнат, почти лишенных мебели: его родители постоянно испытывали нужду в деньгах. В своей автобиографии он нарисовал щемящую сердце картину старого дома, запущенного, почти заброшенного, признаки былого великолепия которого постепенно стирались по мере того, как он плачевно ветшал. «Лишь самыми долгими летними днями, – пишет он, – в рабочий кабинет отца около полудня прорывалось всего несколько лучей солнца, и мы, дети, с восхищением созерцали хилую полоску света, медленно двигавшуюся по паркету. В самом расположении помещений было что-то таинственное. Например, рядом с кухней находился дровяной сарай, такой большой, что в нем поместился бы целый дом; входить туда можно было не иначе как с фонарем, свет которого едва достигал стен. Ничто не мешало нам воображать, что в подобных местах жили разбойники, цыгане и даже привидения. К этим источникам воображаемых и настоящих страхов добавлялся еще один, и притом весьма реальный: неисчислимое количество кишевших там крыс, порой добиравшихся до самой кухни».
Царская пышность фасада, вызывавшего восхищение у прохожих, не допускала и мысли о том, какое уныние, какое безденежье, какая тревога могли скрываться за ним в доме адвоката Венцеля Грильпарцера, который стремился создать впечатление изобилия и роскоши, в действительности его семье недоступных. Стремление жить не по средствам, жертвовать многим ради внешнего вида не столько из пустого хвастовства, сколько по причине наивного честолюбия, заставлявшего быть на виду и таким образом издали участвовать в величиидвора и князей, было бы недостатком венцев, если бы они не вкладывали в презрение к бедности столько мужества, веселости, изящества и даже дендизма.
Нарисованная Грильпарцером картина семейной жизни в великолепном доме на Бауернмаркте очень характерна для светского уклада венцев той эпохи. В народе придерживались правила считать все происходящее в высших классах «благородным»; это слово было заимствовано из французского языка ( noble), произносили его как нобель, и оно постоянно фигурирует в литературных произведениях этого периода, в том числе и в «Письмах человека из Айпельдау». Благородно все то, что отвечает народному критерию величия, изысканности, богатства, хороших манер, элегантности одежды. Благородство – это смесь Терезианского величия, господствовавшего в XVIII столетии, с германской задушевностью. Одновременно с внешним аспектом классового благородства существует благородство внутреннее, определяемое главным образом тонкостью ума, деликатностью чувств, утонченными вкусами и вежливо сдержанными манерами.
Человеку с благородной физиономией присвоят титул «превосходительства» или графа, даже если он таковым не является, и охотно присоединят «фон» к его фамилии, невзирая на все геральдические правила, – я имею при этом в виду метрдотелей, кучеров, официантов кафе, парикмахеров. В те годы, когда Грильпарцер проводил свое детство в мрачном, запущенном родительском дворце, а именно – в самом конце XVIII столетия, у разоренного дворянина не было никаких оснований выдавать себя за богача, если только он не был авантюристом, и лишь в начале следующего века и особенно в период бидермайера [23]23
Бидермайер– стилевое направление в немецком и австрийском искусстве 1815–1848 гг., присущее демократической бюргерской среде и отличавшееся тонкостью и тщательностью изображения природы и бытовых деталей. Примеч. пер.
[Закрыть]хвастовство деньгами впервые стало считаться одним из критериев благородства.
Держаться за свой ранг, делать благополучный вид, даже если приходится изобретательно выворачиваться, чтобы заплатить самые неотложные долги, – вот императивы, которым были вынуждены подчиняться родители Грильпарцера, принадлежавшие, по всей вероятности, к достаточно многочисленному классу. Из прислуги у них были кухарка, помощница по кухне, метрдотель, лакей, который нес молитвенник, когда Мадам ходила в церковь, и учитель музыки. У них было загородное имение в Энцерсдорфе, где они летом справляли праздники и устраивали утонченные балы на открытом воздухе. В результате у них не оставалось ни гроша для встречи с кредиторами. Отец был человеком не энергичным и большим лентяем, мать хорошей музыкантшей, но не приспособленной ни к какой домашней работе; дети, как могли, воспитывались самостоятельно, читая все, что попадало под руку в богатой родительской библиотеке.
Биографы поэта видят в условиях, в которых проходило его детство, символ Вены того периода, когда уже заявлял о себе «закат монархий», против которого отчаянно боролся Меттерних, но эта смесь фантазии и смирения, «хорошего-настроения-несмотря-ни-на-что» и фактической бедности, выставлявшегося напоказ родителями Грильпарцера безразличия к материальной стороне жизни наряду с организацией театральных постановок и концертов – все это как раз и есть доведенная до крайности реальная черта истинно венского характера, и именно в этом качестве мы хотим ее особо отметить.
Бауернмарктский дворец, где среди волшебных сказок и историй о привидениях и разбойниках в полумраке громадных пустынных гостиных расцвело воображение писателя, не был исключением в этом старом, перенаселенном городе. Всего за несколько десятилетий число его жителей выросло с восьмидесяти тысяч до ста девяноста тысяч человек. Весь этот народ селился как мог, и в результате такого столпотворения людям приходилось разбредаться все дальше и дальше от центра в поисках зеленых рощ, лужаек, цветущих кустов, певчих птиц, становившихся все более и более редкими, однако без них венцы не могли обходиться. Этому народу, любившему свободно отдыхать и развлекаться на открытом воздухе и в неограниченном пространстве, было нужно, было жизненно необходимо общение с природой.
Влюбленные в природу
В Вене не было окна без горшков с цветами, без карабкающихся вверх вьющихся растений, без клетки с певчей птицей, но все это нельзя было считать природой, и из возвышавшихся над крышами мансард взгляды венцев меланхолично обращались к холмам, на склонах которых раскинулся Венский лес, воспетый множеством поэтов и музыкантов – от Вальтера фон дер Фогельвайде до Шуберта и Штрауса. Какое счастье для города иметь буквально под боком настоящий лес с редкими деревушками, затерявшимися среди деревьев, лес, гуляя по которому не встретишь ни единого человека. Лишь вспугнутые олени грациозно разбегались при приближении людей.
Любовь венцев к природе отнюдь не является, как это, возможно, имеет место в других местах, свидетельством нелюдимости их характера. Гуляющие по Венскому лесу горожане не избегают общества себе подобных; после прогулки они охотно встречаются в каком-нибудь пригородном кабачке или в расположившемся прямо в чаще леса ресторанчике; порой собирается целая толпа гуляющих, и чем она многочисленнее, тем веселее проходит прогулка. Житель Вены не желал ничего лучшего, чем, прихватив корзины с провизией, забраться в коляску и отправиться на пикник в лес. Малейшего повода было достаточно для того, чтобы провести день за городом. Перечень официальных религиозных праздников венец охотно дополнял днями почитания местных святых-заступников, чудотворных икон, чудесных явлений святых и пользовался любым поводом или предлогом для ревностного паломничества.
Добавим к этому дни рождения и дни тезоименитства императора и членов императорской семьи, которые надлежало проводить в радости, а также все традиционно нерабочие дни, освященные многолетней практикой при всей сомнительности их законности. Например, одним из очень старых и очень любимых всеми венских обычаев был «голубой понедельник». Психологически необходимый в этом городе больше, чем где бы то ни было, если учесть венский характер, «голубой понедельник» был продолжением воскресенья и спасал от меланхолии воскресных сумерек последних летних дней, навеваемой самой мыслью о том, что завтра придется снова приняться за повседневную работу.
Мысль о том, что завтрашний день также будет днем отдыха, сохраняла неомраченной всю полноту радости воскресного дня, а предвкушение «голубого понедельника» лишь усиливало прелести воскресенья, становившиеся, таким образом, одновременно достоянием сегодняшнего дня и обещанием предстоящих удовольствий. Все это представлялось настолько бесспорным, что придет время – и венские рабочие совершат революцию, когда правительство весьма неосмотрительно попытается отменить «голубой понедельник» [24]24
Голубой понедельник– изначально понедельник в канун Великого поста, то есть понедельник перед пепельной средой, названный так по литургическому цвету одеяния священника в этот день и означающий день отдыха. В разных странах он получил разные названия – «бессмысленный понедельник» (Австрия), «глупый понедельник» (Штирия), «понедельник обжорства» (Тироль). Примеч. ред.
[Закрыть]в целях повышения производительности труда.
Религиозность венцев
Отношение венцев ко всему тому, что касается религии, немногим отличается от их политических убеждений. Реформация не затронула или почти не затронула их традиционно основательного католицизма. Подобно тому как монарх был избран Богом, чтобы заботиться о безопасности и благополучии народа и считался истинным земным Провидением, чьи приказания надлежало принимать и уважать, поскольку они отдавались в интересах подданных, так и Провидение небесное стояло на страже физического и нравственного здоровья христиан. Кроме того, это Провидение возложило на многих святых обязанность оказания помощи людям в их борьбе со злом. Все Четырнадцать Заступников, которым было посвящено множество церквей в Австрии и Германии, жили в тесном общении с городом и деревней, защищая их от пожаров, наводнений, эпидемий, от молний и других бесчисленных бедствий, угрожающих человеческому роду. У каждого из заступников была своя функция, с незапамятных времен возложенная на них верой и народным доверием; свои функции они старательно выполняли, разумеется, при условии, что люди отдавали им справедливую дань в виде молитв и приношений.
Поскольку величие Бога было устрашающим, вызывающим робость и дистанцировалось от просителей, опасавшихся обращаться непосредственно к Нему, они имели возможность призвать своих заступников, которые некогда были людьми, совсем такими же, как мы с вами, и, следовательно, хорошо знали нужды людей и грозящие им опасности. Барочные живопись и скульптура превосходно изображали этих заступников с атрибутами их функций наподобие того, как это делалось во времена Средневековья, и в их образах неизменно присутствовали доброжелательный жест и улыбка, обращенные к коленопреклоненному перед ними просителю. Естественным следствием культа святых заступников было то, что в их дни праздничные церемонии и паломничества привлекали толпы верующих. Эти религиозные торжества вызывали в каждом приходе столь же радостное, сколь и набожное воодушевление, и если какой-нибудь особо почитаемый образ святого находился в ближайшей пригородной или сельской церкви, то это становилось поводом для семейных походов туда, в ходе которых веселье сочеталось с благочестием и находился предлог для деревенских пирушек, отнюдь не компрометировавших популярность святого, а, напротив, укреплявших ее.
Выше заступников, рядом с Богом, сидела Святая Дева, Мать, которую не оставляла равнодушной ни одна молитва: обращение к ней никогда не бывало напрасным. К ней иногда возносились самые неуместные жалобы, настолько народная набожность была уверена в безграничной терпимости Матери к человеческим слабостям. Природная сентиментальность венцев привела к тому, что культ Девы Марии, развившийся в XVII и XVIII веках, приобрел в Австрии большие масштабы, нежели даже в Италии, и еще совсем недавно можно было наблюдать трогательные примеры ее почитания.
Перед войной 1939 года в Вене была церковь (не знаю, существует ли она доныне, так как Вена стала поистине мученической жертвой ужасных разрушений), владевшая, помимо прочих, весьма почитаемой статуей Святой Девы. Стены часовни, в которой находилась эта статуя, были испещрены карандашными надписями, выражавшими смиренные и наивные просьбы: в большинстве случаев это были мольбы какой-нибудь супруги, просившей Марию вернуть ей неверного мужа, но была там, например, и надпись, выражавшая нежную и обезоруживающую тревогу женщины, желавшей удержать любовника, или обращенная к Мадонне мольба юной девушки о том, чтобы Святая Дева направила на нее взгляды некоего равнодушного красавца. Все это было бесконечно трогательно и в высшей степени поучительно для понимания сентиментальной психологии венок Эти надписи, которые невозможно было читать без того, чтобы на глазах не выступили слезы, содержали исключительно мольбы женщин; я не видел ни одной надписи, с которой к Богородице обращался бы мужчина, и, вероятно, не потому, что мужчины не верили в Деву Марию, а, скорее, по той причине, что они больше рассчитывали на самих себя и на собственный талант соблазнителя или же шли молиться и писать свои послания в какую-нибудь другую, неизвестную мне церковь.
Я отнюдь не гарантирую абсолютной достоверности одной истории, которую рассказывали в Вене. Она имеет достаточно близкое отношение к традиции набожных надписей. В один прекрасный день молодая девушка, почувствовавшая, что от нее отворачивается жених или, может быть, любовник, пошла помолиться в эту церковь, но намеренно ли или же случайно, вместо того чтобы преклонить колена перед Девой Марией, она распростерлась у подножия Распятия. Какая-то старая дама, услышав ее рыдания, в сознании своих лет и опыта спросила о причине такого отчаяния. Девушка все ей рассказала; тогда старуха подняла ее с пола и отвела к часовне Девы Марии, где и оставила одну, пробормотав следующие слова: «Вот к кому следует обращаться, дитя мое, а мужчины – они все заодно…»
Женский город, город-женщина, Вена совершенно естественно должна была почитать Святую Деву больше любой другой сверхъестественной силы, и Богоматерь всегда защищала ее в течение многих веков существования, полного опасностей и случайностей. Именно Святой Деве, не меньше чем принцу Евгению, были венцы обязаны разгромом турок; именно она уже в 1715 году прогнала чуму, успевшую унести великое множество жизней; именно она уняла ярость холеры. Свидетельством признательности венцев Великой Помощнице, той, мольба к которой никогда не остается напрасной, идет ли речь об изгнании врага или об удержании ветреного мужа, стала воздвигнутая в ее честь Колонна Марии – Mariensäule.








