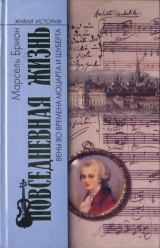
Текст книги "Повседневная жизнь Вены во времена Моцарта и Шуберта"
Автор книги: Марсель Брион
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 23 страниц)
Глава девятая
ВЕНСКИЙ РОМАНТИЗМ
Романтики немецкие и австрийские. «Жизнь в поэзии». Австрийский романтизм и искусство. Портреты и жанровые сцены
Хотя они пишут на одном и том же языке и по большей части вдохновляются одними и теми же чувствами, немецкие и австрийские романтики существенно отличаются друг от друга. Последним недостает скорбного, трагического характера, Эсхиловой концепции предназначения, радикального бунта « Бури и натиска», волшебной добродетели, провидческого пыла, которые проявляются одинаково, хотя и различными средствами, в поэзии Гельдерлина, музыке Шуберта, живописи Каспара Давида Фридриха.
Романтики немецкие и австрийские
Немецкий романтизм основан на болезненной неудовлетворенности, беспокойстве, тревоге, проистекающей из разлада между индивидуумом и миром. Романтик – это, как правило, человек, чьи чаяния находятся в противоречии с законами общества и с ограничениями, которые ему навязывает человеческая природа.
Проблема божественного есть источник тревоги. Индивидууму также трудно реализовать свою гармонию с Богом, как найти в природе свое истинное место. Средства выражения, которыми располагает художник, будь он поэт или музыкант, чтобы передать то, что он видит, что испытывает, ограничены рамками используемого языка, и, оказавшись перед невыразимым, страдая от невозможности высказать невыразимое, художник, осознающий свое призвание провидца, приходит в отчаяние из-за невозможности передать в своем произведении ничего другого, кроме того, что может быть выражено языком искусства: то же невыразимое, что является в его представлении главным, не может быть передано при помощи какого бы то ни было словаря, и при помощи словаря музыки не больше, чем при помощи словаря живописи или поэзии.
Бегство в суицид или в безумие, которое так часто оказывается последним прибежищем немецких романтиков, представляется своего рода уходом в тишину, в молчание.
Ничего похожего нет в романтизме австрийском. Природа страны, национальный темперамент, чувство меры заставляют австрийских художников исповедовать тот поверхностный романтизм, в котором нет места драме. В Вене мы не видим бушевания ни одной из тех тяжелых и ужасных «глубинных волн», которые потрясали немецкий романтизм.
Насколько немец пребывает в конфликте, в состоянии реакции на публику, которая следит за ним из очень далекой дали, настолько австрийский художник пребывает или стремится пребывать в гармонии с собой. Обращаясь к характеру австрийского произведения искусства, будь то музыка Шуберта, романы Адальберта Штифтера, полотна Морица фон Швинда или Фердинанда Георга Вальдмюллера, мы констатируем, что в Вене не существует разлада между искусством и публикой. Читатель или слушатель умеют инстинктивно настроить себя на волну писателя или композитора, а те, со своей стороны, без всякого усилия дают публике то, что она желает получить. Таким образом, произведение искусства становится результатом скрытого сотрудничества между творческой личностью и обществом, для которого она творит.
Австрийское искусство романтического периода – я имею в виду искусство в целом, независимо от его выразительных средств – сохраняет идиллический характер, определяемый любовью к окружающему миру, всеобщей нежностью, гораздо менее демонической, нежели германская романтическая страсть; ему присуще очарование, несколько поверхностное, немного сентиментальное, но очень привлекательное, эдакая легкая любовь, скорее любовь-игра, чем любовь-страсть. Не следует, однако, понимать буквально эту пресловутую австрийскую «легкость», как не следует и пренебрегать глубиной чувств, абсолютом страсти, которую она, возможно, маскирует. И если венские художники не обращаются к патетике, погруженной в паническую природу, {41} которая возбуждает, потрясает, увлекает и даже может раздавить, то они более активно, но без драматизации используют красоту пейзажа, потому что наделены способностью дружить с окружающими вещами и явлениями. Мориц фон Швинд удачно описал состояние этой дружбы: «Когда мы с любовью и радостью рисуем какое-нибудь красивое деревце, мы выражаем его любовь и радость, и это деревце принимает тогда совсем другой вид, чем было бы, если бы его походя обгадил какой-нибудь осел».
Немецкий романтизм любил Вену за изящество старого средневекового города, за ее барокко и рококо. Карл Кобальд [125]125
Kunst in Volk. Wien, 1952. P. 270.
[Закрыть]писал: «Эта Вена, прославленная музыкой Гайдна, Моцарта и Бетховена, представлялась тогда молодым немецким поэтам Меккой их мечтаний. В этот имперский город с толпами паломников приезжали Клеменс Брентано, Фридрих Шлегель, Захариас Вернер, Беттина фон Арним, Айхен-дорф». Они приезжали сюда, но здесь не укоренялись. И Вена не числится среди очагов романтизма. Она не может сравнивать себя с такими кипучими центрами бурной деятельности, как Берлин, Йена, Гейдельберг, Дюссельдорф. Среди венских салонов вы не найдете таких, где разрабатывались бы принципы романтизма, – салонов Варнхагенов или Шлегелей. В этом смысле, хотя Вена и является столицей, в истории литературы и даже живописи она предстает в облике провинциального города. Своего высшего, несравненного совершенства она достигает в музыке, хотя она и отринула Шумана, величайшего и значительнейшего из романтических музыкантов.
Не приходится долго раздумывать, чтобы перечислить великие имена австрийской романтической литературы; самое крупное из них, сравнимое с немецкими поэтами-романтиками, – это Николаус Ленау, [126]126
В филологической науке давно утвердилось мнение, что в австрийской литературе, в отличие от австрийской музыки, романтизм не смог развиться, о чем говорит и сам автор в предыдущем абзаце. Ленау является единственным крупным представителем этого направления. Примеч. ред.
[Закрыть]по происхождению не венец. Нимбш фон Штреленау (таково его настоящее имя) по национальности венгр. Потеряв в ранней юности отца, он приехал в Вену с матерью, легкомысленной, беспечной и совсем не занимавшейся сыном. Его истинный темперамент даже в поэтическом творчестве остается темпераментом искателя приключений, ностальгию по которым он испытывал всю жизнь и даже пытался найти утешение в американской пампе, куда его увлекла авантюрная жизнь. Сам выбор героев его книг – а это Савонарола, Дон Жуан, Альбигойцы, Фауст – показателен для его беспокойного характера. Ленау всегда любил кочевой цыганский народ, живущий без родины, без домашнего очага, без корней, как и он сам. Подобно цыганам, он чувствовал себя изгоем в мире, в котором ни для них, ни для него не было места. Если отталкиваться от национальной принадлежности, то Ленау принадлежит австрийскому романтизму, но ему не свойственны никакие его черты, а тревожная жизнь кочевника привела к тому, что он чувствовал себя в Вене как дома не в большей степени, чем в любом другом городе. И если мы упоминаем о нем в этой книге, то, возможно, лишь для того, чтобы подчеркнуть контраст с чисто венским писателем Адальбертом Штифтером.
Адальберт Штифтер является воплощением австрийского духа во всех своих самых крупных и самых изысканных произведениях. Это вовсе не провинциальный романист, хотя он тесно связан с нравами, языком и вкусами провинции; будучи скорее сельским жителем, нежели горожанином, он обожает Вену, однако периодически возвращается в горы, причем не к холмам Венского леса, а в горы Богемии, где расцветает его могучий, интимный, тонкий лиризм.
Даже если бы он не написал книг, сделавших его знаменитым, этих романов нравов и поэм, навеянных образами лесов, ему принесли бы репутацию блестящего художника написанные им картины. В них, как и в литературных произведениях, раскрывается его очень тонкая, обостренная чувствительность, полное внутреннее согласие с природой, способность сливаться с обыденной повседневной действительностью, которая сделала бы из него почти натуралиста, если бы он не вдохновлялся главным образом тем эпическим величием, которое, по его мнению, всегда существует в реальности. Штифтер становится мастером новеллы, которой он умеет придать емкость и полноту романа, поднимая ее символическое значение гораздо выше простого идеала «изображать кусочек жизни», характерного для реалистов.
Содержание австрийской литературы в целом, как и живописи Петера Фенди, Михаэля Недера, Карла Шиндлера, представляет собой лирическую интерпретацию повседневной действительности, вещей, которые были бы банальными, если бы не были озарены симпатией и любовью. Эта любовь, о которой говорил Мориц фон Швинд, преображает самые простые предметы просто потому, что способна раскрывать и черпать в них глубокую интимную поэзию. «В Вене люди всегда живут наполовину в поэзии, – писал Грильпарцер ( Abschied von Wien), – и каждый венец – поэт, даже если он никогда не написал ни одной стихотворной строки».
Было бы неправильно думать, будто буржуазная прозаичность эпохи бидермайера иссушала источники поэзии. Венский буржуа, карикатурно изображавшийся в образе Бидермайера, очень отличается от г-на Прюдома, {42} с которым его порой сравнивают: ему недостает церемонной наставительной глупости героя Монье, его претенциозности, низости сердца и духа, которые всегда будут чужды Вене. Бидермайер, который, сам того не понимая, был поэтом, окружал себя комфортабельной мебелью, формы которой удобно облегали тело; если эта мебель и была несколько тяжеловатой, слишком массивной, то дело в том, что тело венца, как говорили его хулители, часто бывало слишком тучным из-за хорошей еды. Люди того времени жили просто, удобно, достойно, без позерства и тесно общаясь между собой. Они умели поддерживать спасительную гармонию между веселостью и хорошим тоном, между изяществом и строгостью, между изобилием и простотой, между разумной экономией отца семейства и щедростью мецената, друга артистов и художников. Венец любил компанию и гулял всей семьей. Он никогда не ездил за границу, потому что любил свою бесконечно разнообразную Австрию. Он лишь ненадолго и недалеко уезжал из изысканной и неисчерпаемой Вены. Уже ближайшие ее окрестности представляли собой сельскую местность, где природа была такой ослепительно щедрой, а деревни очень колоритными, населенными отзывчивыми и веселыми людьми, еще продолжавшими носить традиционную одежду. Такие костюмы теперь можно увидеть разве что в Тироле, да и там их зачастую носят не местные жители, а иностранные туристы, развлекающиеся переодеванием в костюмы охотников на серн или в крестьянскую одежду. Тогда же их можно было увидеть на рынке, они переливались своим радостным многоцветьем в дни семейных и церковных праздников, совсем как на полотнах художников того времени, например, на картинах Фердинанда Вальдмюллера Свадьба в Пехтольдсдорфеили Отъезд супруги.
«Жизнь в поэзии»
В романтическую эпоху поэтическое чувство, способность естественным образом «жить в поэзии» в Австрии были распространены больше, чем в Германии, но Австрия не породила таких великих поэтов, как Германия. Действительно, нельзя считать великими поэтами, хотя их произведения вовсе не являются недостойными внимания, таких писателей, как Йоганн Габриель Зайдль, многие из поэм которого положены на музыку Шубертом, или Эрнст фон Фойхтерслебен и Анастазиус Грюн; их можно отнести к «малозначительным» в сравнении с их немецкими современниками Айхендорфом, Новалисом, Гельдерлином и Брентано. Их поэзии недостает волшебства, которым лучатся произведения великих романтиков. Тем не менее они представляют интерес для историка, так как точно отражают облик Вены своего времени. Фойхтерслебен, например, был гениальным врачом, в некотором роде предвестником психоанализа, теорию которого именно в Вене разовьет впоследствии Фрейд. Он охотно общался с писателями, посещавшими изысканно украшенные залы Нойнерс Зильбернен, модного в то время литературного кафе, и писал там стихи в перерыве между двумя визитами к пациентам. Что же до Анастазиуса Грюна, то этот псевдоним скрывал имя знатного вельможи – графа Антона Александра Ауэршперга: император запретил этому дворянину публиковать свои произведения не столько потому, что это плебейское занятие считалось недостойным аристократа высокого ранга, сколько по той причине, что Ауэршперг афишировал свои достаточно передовые либеральные убеждения. Он жестоко, с язвительной иронией критиковал политику Меттерниха. Книги, которые он издал под псевдонимом Анастазиус Грюн, в особенности же та, что носила многозначительное название Обломки, представляли собой жестокую сатиру на монархию и, возможно, сыграли важную роль в подготовке революции 1848 года. Более невинным и более привлекательным для нас, читающих в нем очаровательные описания столицы, является произведение, озаглавленное Прогулки венского поэта, которое заслуживает места рядом с Венскими картинамиАдальберта Штифтера и с прекрасными книгами Грильпарцера.
С Францем Грильпарцером мы приобщаемся к поэтическому уровню едва ли не самых великих романтиков. Грильпарцер любил свою Австрию, как он сам говорил, поистине «детской» любовью, и были бы тщетны попытки понять, не являлась ли эта Австрия, целый культ которой создал Грильпарцер, некой идеальной страной, страной мечты. Но даже если он и идеализировал Австрию, его Вена была подлинной. Он точно определил характерные черты этого приятного народа, которым было легко править, потому что он дорожил легкой жизнью. Главным образом в его личном дневнике, а также в его Автобиографии, которая, к сожалению, останавливается на сорок пятом году его жизни – а дожил он до восьмидесяти лет, – мы обнаруживаем Грильпарцера, который должен интересовать нас и сегодня как свидетель венской жизни того периода. Несмотря на прекрасные достоинства его Сафо, Золотого рунаили Оттокара, исторические драмы Грильпарцера интересны для нас в меньшей степени, нежели его восхитительные и волнующие новеллы, потому что в последних действительность описана чернилами, замешанными на смеси нежности и язвительности, шедевром чего является Бедный музыкант. В дневнике же и в автобиографии мы увидим подлинное лицо романтической Вены с плохими скрипачами на углах ее улиц, доведенными до нищеты жестокостью времени, собственной беспечностью, а также нередко желанием избежать ограниченности буржуазной жизни и предаться приключениям.
Подобно многим венцам, например Шуберту, склонным предпочитать великолепные сны банальностям обычной жизни и лелеять не находящую реализации влюбленность, потому что она никогда не обманывает, Грильпарцер также почитал «далекую возлюбленную», Кэти Фрелих, которая не вышла за него замуж исключительно из опасения увидеть, как рассеется сон при соприкосновении с действительностью. В его воспоминаниях, в особенности на страницах, посвященных Воспоминаниям о юности средь зеленой листвы, можно найти описание его любви к этой мягкой и нежной невесте, до женитьбы на которой дело так и не дошло. Может быть, именно из-за нее он отказывал другим женщинам, которых любил.
Грильпарцер любил и был любим, причем даже трагически, поскольку отвергнутая им красавица Мария фон Пико покончила с собой от печали. Его безразличие так потрясло другую его любовницу, Шарлотту фон Паумгартен, что и она умерла от горя. В свою очередь он и сам пострадал от равнодушия к нему прекрасной Марии фон Смолениц и премилой Элоизы Хёхнер. Он восторгался певицами, актрисами, что не мешало ему по-прежнему любить свою вечную невесту. Возможно, Грильпарцера страшили красота и слишком большая любовь. Известно его многозначительное высказывание о Марии Даффингер – бывшей Марии фон Смолениц, жене художника Морица Даффингера, с которой муж писал очаровательные портреты: «Эта женщина прекрасна, прекрасна, прекрасна, но да будет осторожен тот, кто к ней приблизится!» У Марии Даффингер был глубокий, загадочный, одновременно мягкий и опасный взгляд «глаз оленихи», глубоко волновавший уязвимые сердца. Сигнал тревоги, поданный поэтом, говорит о том, что и он слишком приблизился к этим глазам и не мог не увлечься до головокружения их соблазнительной тайной.
Среди венских романтических поэтов современники оценивали очень высоко талант Бетти Глюк, писавшей под псевдонимом Бетги Паоли. [127]127
Как раз в последние годы в Австрии начался взрыв интереса к Бетти Паоли и было выпущено одновременно несколько монографий, посвященных ее творчеству. Примеч. ред.
[Закрыть]Грильпарцер называл ее самой великой австрийской поэтессой; Иеронимус Лорм набавлял ей цену, называя самой великой немецкой поэтессой. Мы не будем здесь ни критиковать, ни оправдывать право этой женщины на славу: в наши дни она совершенно забыта. Бетти Паоли пострадала от несчастной любви. Будучи компаньонкой княгини Шварценберг, она имела неосторожность влюбиться в ее сына, прекрасного князя Фридриха, который долго переписывался с нею, но тем дело и кончилось.
За исключением Ленау, Грильпарцера и Штифтера австрийский литературный романтизм не оставил бессмертных имен. [128]128
Грильпарцераи Штифтеравряд ли можно однозначно отнести к романтикам, поскольку они стояли у истоков формирования австрийской национальной литературы и скорее сопоставимы с представителями немецкого классического стиля Гёте и Шиллером. Примеч. ред.
[Закрыть]
Австрийский романтизм и искусство
Оставаясь столицей музыки на всем протяжении своей истории, Вена не всегда была литературной столицей. А какое место она занимала в романтическую эпоху в изобразительных искусствах – архитектуре, скульптуре, живописи?
Мы уже видели, как барочное великолепие наложило свой отпечаток на памятники времен Иосифа II и Марии Терезии и как по воле монархов, столь же великих строителей, как и страстных музыкантов, после осады 1683 года развернулись работы по восстановлению города. Эволюция венской архитектуры наглядно отражает изменения вкуса и эстетики следовавших одно за другим поколений. Было вполне нормальным то, что над барочными излишествами восторжествовал классицизм. Это был неоклассицизм, вдохновленный Грецией и Римом. В свою очередь романтизм привил Австрии, как и всей Европе, любовь к Средневековью и, начиная с последней четверти XVIII века, возродил интерес к готике. Именно напрямую вдохновлявшийся идеями XVIII века, просвещенный самодержец Иосиф II положил начало, если можно так выразиться, романтической готике, когда приказал архитектору Хетцендорфу убрать с церквей орденов миноритов и августинцев все излишества, произвольно привносившиеся начиная со времен Средневековья.
При правлении Франца I романтизм создает свой архитектурный стиль, по-настоящему индивидуальный, оригинальный, уже не являющийся подражанием античным храмам или готическим соборам, а представляющий собой своего рода гармоничный сплав элементов Средневековья и Ренессанса, свободно связанных друг с другом и рассматривающихся как новый набор форм, в котором выражается дух эпохи.
Романтизм отказывается от подражания или от повторения того, что уже существовало, – он творит свободно, и самыми лучшими из его творений являются Йоганнескирхе на Пратергассе, построенная в 1846 году Резнером, который модифицировал старое здание, не изменяя его духа, приходская церковь в Майдлинге, построенная в тот же период тем же архитектором, а также более характерная приходская церковь в Альмансдорфе, построенная в 1838 году Лесслем и декорированная Фюрихом, Штайнле и Купельвизером. Фюрих участвовал в возрождении живописи, начатом Корнелисом и Овербеком и приведшем к неопримитивизму назарейцев. {43} В Женеве была основана Гильдия св. Луки, распространившая эту эстетику, до некоторой степени сравнимую с эстетикой английских прерафаэлитов, {44} затем Гильдия переехала в Рим. Члены Гильдии обосновались в монастыре в Сант-Исидоро и делали росписи в стиле, который называли тогда «примитивом», иначе говоря, в стиле Рафаэля и его непосредственных предшественников. В то время еще не умели различать истинных примитивистов – Джотто, Чимабуэ, Дуччо, Каваллини и плохо отличали Средневековье от Ренессанса.
Таким образом, Фюрих участвовал и в создании «неопримитивистских» украшений виллы Массимо, принадлежавшей немецкому дипломату Бартольди, поручившему назарейцам расписать ее картинами на религиозные сюжеты. Фюрих вернулся в Вену в 1834 году и написал там крупные романтические циклы картин на легендарные и религиозные сюжеты, сцены из Ветхого и Нового Заветов, интерпретированные им с большой свободой, свежестью, с несколько холодным изяществом и элегантностью.
Эдуард Якоб фон Штайнле после окончания академии в своем родном городе Вене также жил в Риме, в окружении назарейцев. Он дружил со многими немецкими поэтами, в особенности с Клеменсом Брен-тано, который подталкивал его к изучению и иллюстрированию древних легенд, сказок и народных поэм. Отделавшись в конце концов от назарейского неопримитивизма, Штайнле приблизился к истинно романтическому лиризму: бродячие студенты, проходящие через волшебные леса, романтические замки, гнездящиеся на горных откосах, старинные города со стрелами готических соборов сообщают его произведениям очаровательный оттенок ностальгии по Средневековью и одновременно очень современное чувство. Он был учеником Купельвизера, вместе с которым работал над украшением Альтмансдорфской церкви, того самого Купельвизера, который был другом Шуберта и написал много его портретов, а также стал историографом тех радостных и волнующих сцен, импровизированных друзьями композитора праздников искусства и дружбы, которые называли шубертиадами.
Религиозная живопись была не единственным средством выражения венского романтизма; он проявлял свои специфические черты и свое очень своеобразное вдохновение в портрете, а также в жанровых сценах. Заметим мимоходом, что если здесь не идет речь об австрийской романтической скульптуре, то только потому, что она почти полностью отсутствовала или же не оставила ни одного значительного произведения.
В эпоху романтизма в австрийской пейзажной живописи преобладали два имени – Йозефа Антона Коха (1768–1839), принадлежащего к первому романтическому поколению, и Фердинанда Георга Вальдмюллера, олицетворяющего второе, поскольку он родился в 1793 году и умер в 1865-м. Кох – любопытнейший персонаж. Эльгибленальпский тиролец, он отправился умирать в Рим, потому что был настолько околдован итальянскими пейзажами, что решил закончить свою жизнь среди них. Он писал картины на религиозные сюжеты в назарейском вкусе и пытался соперничать с Гирландайо и Перуджино. {45} Он иллюстрировал Данте и Шекспира и разделил восторг всех романтиков перед Оссианом – псевдо-Оссианом англичанина Макферсона. {46} Сам Наполеон был так взволнован приключениями кельтских героев этой легенды, что Энгр в самой романтической манере написал для потолка предназначенной императору комнаты в Квиринале Сон Оссиана. Кох заслуживает известности не за то, что подражал старым итальянским живописцам, а за то, что первым создал романтический пейзаж на своих главным образом швейцарских и тирольских полотнах, тогда как в римский период он уже менее оригинален, больше связан с лотарингской традицией и с итальянскими ведутистами. {47}
Кох первым понял и изобразил горы, водопады, ледники – все эти реалии дикой, могучей, величественной природы, которую люди XVIII века еще не научились видеть и часто находили «ужасной» – это прилагательное постоянно слетает с кончика их пера, когда им случается ее лицезреть. Может быть, дело в том, что это всегда были горожане, люди, привыкшие к спокойным, размеренным горизонтам, которые не могли испытывать никакой тяги к дикой, непокоренной природе, о которой чаще всего знали лишь понаслышке, так как экскурсии в горы и подъемы на вершины тогда еще не были в моде. Путешественники созерцали окутанные облаками заснеженные вершины из окна экипажа, проездом, и у них никогда не возникало желания ни подняться на них, ни даже приблизиться к склонам.
Кох научился видеть и изображать горы, тогда как ни один из его современников ими не интересовался. Коху же эти места были знакомы, и он горячо любил их. Вплоть до того момента, когда всепоглощающий культ Италии заставил его забыть родную страну – буквально или почти буквально, поскольку с 1795 по 1839 год он покидал Рим только один раз, чтобы провести три года в Вене, между 1812 и 1815 годами. Но именно во время этого пребывания в Вене он будет вдохновлять таких молодых пейзажистов, как Роттман, братья Оливье, Фогр, подавая им пример и щепетильно уважая их индивидуальность.
Фердинанд Георг Вальдмюллер был венским венцем, и именно жители Вены, а в особенности мелкая буржуазия предместий поддержали и защитили его во время его мучительного дебюта. Сын кабатчика, он познал нищету, постоянно нуждался, и родители постоянно ругали его за выбор бесперспективной карьеры. Поначалу, до того как стать модным художником, портретистом знаменитых красавиц и аристократии, он писал представителей класса бедняков, среди которых жил. Потом были портреты ради куска хлеба, которые он писал с такой уверенностью и с таким блестящим мастерством, что они сделали его знаменитым в Лондоне и Париже, а также и в имперской столице, которая после нескольких лет пренебрежения увлеклась его мастерством и обеспечила ему огромный успех.
В его портретах чувствуются спокойное достоинство, непринужденная изысканность, сдержанная элегантность дворян и крупных буржуа, задававших тон в бидермайеровском обществе. Когда он пишет какую-нибудь семью, он доходит почти до создания жанровой сцены, потому что воспроизводит вокруг персонажей знакомую им атмосферу, мебель из красного или светлого лимонно-желтого дерева, портьеры с тяжелыми складками, элегантные безделушки. Достаточно бросить взгляд на полотна Вальдмюллера, чтобы понять, как жило это общество, о чем оно думало и что его волновало.
Популярностью и состоянием он был обязан своей репутации портретиста. Но для нас он в еще большей степени остается толкователем пейзажей окрестностей Вены. Он не едет, как Кох, на швейцарские ледники и на водопады Тироля, а довольствуется ближайшими к столице прекрасными полями и гармоничными лесами, в которых оказывается, едва выйдя за околицу предместья. Зеленеющий горизонт, слегка волнистый и соразмерный человеку, эта подлинная и простая природа, которая зовет на прогулку и является продолжением садов и внутренней части города, лежащей между Фольксгартеном, Аугартеном, Пратером и свободно разрастающимся лесом, где человек может забыть о городском шуме, удалившись от него на расстояние, которое можно пройти пешком самое большее за час, – вот мир, принадлежащий Вальдмюллеру. И он дает нам такие прекрасные, такие трогательные образы этого мира, так тонко передает утреннюю свежесть лужаек Пратера, величие закатов на поросших лесом высотах Каленберга, [129]129
Каленберг– одна из двух гор (вторая – Леопольдсберг), на которых расположился Венский лес. Примеч. ред.
[Закрыть]что эти пейзажи – если верить парадоксу Оскара Уайльда, заметившего как-то, что природа становится похожей на картины, – заставляют зрителей почувствовать себя Вальдмюллером, настолько глубоко взаимосвязаны чувствительность художника и мир, который он изображает.
Рядом с Вальдмюллером следовало бы назвать многих других австрийских романтических пейзажистов: Антона Ганша, специализировавшегося на высокогорных пейзажах, Франца Штайнфельда, от чьих горных потоков веет музыкальной свежестью, Фридриха Лооса, которому любы обширные пространства Дунайской равнины, давно позабытого Эразма Энгерта, чья превосходная картина старой Вены, такой узнаваемой, спокойной и улыбчивой, была обнаружена совсем недавно, Йоганнеса Тома, живописца очаровательных деревенских домов, построенных в романтическую эпоху на полпути от предместий до Венского леса…
Портреты и жанровые сцены
Еще большей или, по меньшей мере, такой же популярностью, как пейзажная живопись, пользовался у любителей искусства портрет. Причем речь идет не только о богатых, просвещенных любителях, но и о мелких буржуа, и о людях из простого народа. Если вспомнить о том, что Йозеф Крихубер написал больше трех тысяч портретов и что он был всего лишь одним из многих художников, достигших совершенства в этом искусстве, то остается лишь удивляться тому, что в таком городе, как Вена 1830 года, у такого огромного множества художников всегда была масса клиентов. Это увлечение портретом происходило от той любви к реальности, которая была основой художественного вкуса австрийцев. Венец не искал в искусстве средства ухода от мира, в котором жил; совсем наоборот: он ждал, что искусство поможет ему наслаждаться этим самым миром, который он любил и в котором был счастлив. Ему не были нужны ни фантастика, ни нечто сверхъестественное. Его очаровывала поэзия действительности, и этого ему было вполне достаточно.
Увлечению портретом благоприятствовал и экономический фактор, чем также не следует пренебрегать: по всей вероятности, портреты обходились клиентам художников очень дешево. Хотя у нас и нет сведений о том, какую цену назначал художник за свою работу – она, естественно, менялась в значительных пределах в зависимости от его таланта и известности, – цена эта, очевидно, была довольно низкой, поскольку до наших дней сохранилось множество портретов людей из простонародья. Похоже, что одна такая картина обходилась не дороже современной фотографии, и надо было быть очень бедным, чтобы отказать себе в удовольствии за столь небольшие деньги украсить свой дом собственным изображением.
Красота женщин, изысканность мужчин, изящество мод придавали портрету особенное очарование. Ниспадавшие по щекам локоны, шали, соскальзывающие с округлых плеч, глубоко декольтированные, очень узкие в талии платья, отделанные облаками воздушной кисеи, причудливые шляпки с перьями и лентами добавляли пикантность физиономиям этих княгинь и дам из буржуазии, скромную миловидность или аристократическое величие которых увековечивали Фридрих Амерлинг, Вальдмюллер, Йозеф Данхаузер, Петер Фенди, Мориц Даффингер. Такие широко известные полотна, как Играющая на лютнеАмерлинга, портрет Кэти Майрхофер кисти Франца Шроцберга, миниатюра Даффингера, изображающая вечную невесту Грильпарцера Кэти Фрелих, и портрет Марии Смолениц, на которой художник женился и которую Грильпарцер находил так угрожающе красивой, потому что тоже ее обожал, прекрасные Жительницы Тироляработы Франца Эйбля, карандашный портрет княгини Шварценберг Крихубера лучше любого описания говорят о той атмосфере, которую эти восхитительные женщины создавали в Вене эпохи романтизма.
Это уже не были парадные портреты эпохи барокко, застывшие в псевдоиспанском церемониале окаменевшего от этикета двора: сердца и души смягчились и одновременно обрели больше свободы, больше фантазии, больше подлинного изящества. Модель не позирует перед художником в нарочитой позе, а художник стремится сделать портрет по возможности естественным. Он озабочен не только достижением физического сходства, формальной точности изображения, но в гораздо большей степени отображением психологической реальности, того уникального облика личности, который делает каждого человека не сравнимым ни с кем другим. Венские художники довели до совершенства изображение индивидуального характера, оригинального облика и темперамента, и достаточно одного взгляда на изображение Марии Смолениц, чтобы согласиться с Грильпарцером и представить себе бездны радостей и мук, ожидающие того, кто отважится ответить на призыв этих «глаз оленихи».








