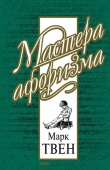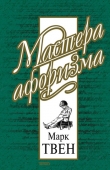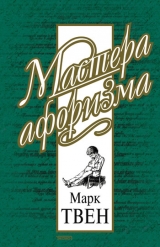
Текст книги "Марк Твен - Собрание сочинений в 12 томах-Том 7. Американский претендент.Том Сойер за границей. Простофиля Вильсон."
Автор книги: Марк Твен
Жанры:
Прочие приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Боже, дитя мое, – воскликнула мать, – как ты бледна! Ты не… что-нибудь случилось?..
– Бледна? удивился Селлерс. – От ее бледности и следа не осталось, значит ничего серьезного. Смотри, какая она красная, точно сердцевинка арбуза. Садись, милочка, садись! Одному богу известно, как мы рады тебя видеть. Ты хорошо провела время? Мы здесь ужасно веселились, просто невероятно. А почему же не пришла мисс Белл? Мистер Трейси что-то неважно себя чувствует, она бы развлекла его и заставила забыть недомогание.
Вот теперь Гвендолен была удовлетворена, и в глазах ее засияло такое счастье, что кое-кому все сразу стало ясно, и в другой паре глаз зажегся ответный огонь. Понадобилась лишь крошечная доля секунды, чтобы сделать эти два великих признания, получить ответ и все понять. Все тревоги, сомнения, неуверенность исчезли из юных сердец, и в них воцарился великий покой.
Селлерс был совершенно убежден, что, получив такое подкрепление, он хоть в последнюю минуту, но все же вырвет победу из пасти поражения. Но он ошибался. Беседа по-прежнему не клеилась. Полковник гордился Гвендолен и любил похвалиться ею при посторонних, даже в присутствии мисс Белл Томпсон, И вот представилась такая возможность, но как же Гвендолен ею воспользовалась? Старик был положительно озадачен. Ему неприятно было думать, что этот англичанин, с присущей всем странствующим британцам склонностью делать обобщения и строить целые горы из крошечной песчинки, может прийти к выводу, будто американские девушки столь же немы, как он сам, – иными словами, будет судить обо всей нации на основании одного-единственного экземпляра. И надо же, чтобы Гвендолен именно сегодня была не в ударе, ибо, как видно, ничто за столом не могло ее вдохновить, взбодрить, заставить проснуться. Селлерс твердо решил, что ради спасения доброго имени своей страны непременно еще раз сведет эту пару вместе – и как можно скорее.
В другой раз такого, конечно, не случится, рассудил он. И с глубокой обидой в сердце подумал: «Ведь он непременно напишет в своем дневнике (все англичане ведут дневники), напишет, что она на редкость неинтересна! Боже мой, боже мой, и ведь это правда! Я что-то никогда не видел ее такой… И все же, до чего она была сегодня хорошенькая, чертовка! А посмотришь со стороны, вроде бы только и умеет, что катать хлебные шарики да обдирать лепестки у цветов или ерзать на стуле. Вот и в аудиенц-зал мы перешли, а дело все не идет на лад. С меня хватит – спускаю флаг, остальные могут продолжать сражнение, если им угодно».
Он попрощался со всеми и ушел к себе, сославшись на срочные дела. Влюбленные находились в разных углах комнаты и, казалось, нимало не интересовались ДРУГ другом. После ухода отца расстояние между ними несколько сократилось. Вскоре ушла и мать. Расстояние еще больше сократилось. Трейси стоял перед олеографией, изображавшей некоего политического деятеля из Огайо, несколько подправленного и облаченного в кольчугу для придания большего сходства с Россмором-крестоносцем, а Гвендолен сидела на диване, почти у самого его локтя, и делала вид, будто всецело поглощена изучением альбома с фотографиями, в котором не было ни одной фотографии.
«Сенатор» все не уходил. Ему было жаль молодых людей: они, бедненькие, проскучали весь вечер. И, будучи человеком доброй души, он старался развеселить их хотя бы сейчас и как-то рассеять неприятное впечатление, которое не могло не остаться у них от обеда. Он пытался поддерживать беседу и даже пытался шутить. Но они отвечали вяло, без всякого энтузиазма. Тогда он тоже решил сдаться и уйти: такой уж, видно, сегодня день, будто специально предназначенный для провалов и неудач.
Но когда Гвендолен поспешно встала и, благословляя его в душе, с сияющей улыбкой спросила: «Неужели вы уже уходите?», Хокинс подумал, что покинуть ее в такую минуту было бы величайшей жестокостью, и снова сел.
Он хотел было что-то сказать и… и не сказал. Все мы бывали в таком положении: он и сам не знал, почему он вдруг понял, что его решение остаться было ошибкой, – просто он это понял, твердо понял. Итак, он пожелал молодым людям доброй ночи и вышел, раздумывая о том, что же такое он мог сделать и отчего сразу так изменилась атмосфера. Дверь еще не успела за ним закрыться, как влюбленные уже стояли рядом и смотрели на дверь – смотрели с глубокой благодарностью, выжидая, когда же она закроется, считая секунды. И как только она закрылась, они бросились друг другу в объятия и замерли – сердце к сердцу, уста к устам…
– О боже! Оноцелует ее!
Никто не услышал этого восклицания, ибо Хокинс, которому оно принадлежало, не выговорил его, а только подумал. Дело в том, что, уже закрыв дверь, он снова приоткрыл ее, решив все-таки спросить, что же такого он сказал или сделал, и извиниться за свой промах. Но он не вошел, а, потрясенный, ошарашенный, бесконечно несчастный, повернулся и, спотыкаясь, побрел прочь.
Глава XXII
Пять минут спустя он уже сидел у себя в комнате возле стола, уронив голову на скрещенные руки, в позе предельного горя и отчаяния. Слезы градом катились из его глаз, и время от времени рыдание нарушало тишину.
– Я знал ее совсем крошкой, – наконец пробормотал он, – она еще так часто влезала ко мне на колени. Я люблю ее, как родное дитя, и вот теперь… О, бедное, бедное создание! Я не в силах этого вынести! Она отдала свое сердце этому паршивому материализованному призраку! И почему только мы об этом не подумали? А с другой стороны, как мы могли об этом подумать? Кому бы это могло прийти в голову? Никому. Нельзя же, например, представить себе, чтобы человек мог влюбиться в восковую куклу, а ведь это даже и не кукла.
И он продолжал горевать, время от времени изливая свои чувства вслух:
– Это случилось, случилось, и ничем теперь не поможешь, ничем не предотвратишь. Если бы у меня хватило духу, я убил бы его. Но и это не выход. Она любит его, она считает его настоящим, реальным человеком. И если она его лишится, она будет горевать о нем, как о живом. А кто сообщит об этом родителям?! Только не я, – я скорее умру. Селлерс – лучший человек, какого я когда-либо знал, я не смогу… О господи, это разобьет ему сердце. Да и Полли тоже. Вот что получается, когда связываешься со всякой чертовщиной! Если бы не Селлерс, это чучело до сих пор жарилось бы на сковороде в аду. И как это люди не чувствуют, что от него несет серой? Я, например, иной раз просто не могу находиться с ним в одной комнате: от него так разит, что можно задохнуться.
Помолчав немного, он разразился новой тирадой:
– Словом, теперь ясно одно. Материализацию на этом надо прекратить. Если уж Гвендолен суждено выйти замуж за привидение, пусть выходит за приличное, средневековое, вроде этого, а не за какого-нибудь ковбоя и вора, в которого превратится эта протоплазма, если Селлерс станет продолжать свои опыты. Правда, если работы прекратятся, компания потеряет на этом пять тысяч долларов, но счастье Салли Селлерс стоит куда дороже.
Тут он услышал шаги Селлерса и взял себя в руки.
– Ну, должен признаться, я немало озадачен, – сказал Селлерс, садясь. – Он ел – в этом нет сомнения. Правда, не ел, а ковырялся в тарелке, как делают люди, у которых нет аппетита, но все-таки что-то глотал, а это уже чудо. Теперь возникает вопрос: куда девается то, что он заглатывает? Именно так: куда это девается? Мне кажется, что мы еще далеко не знаем всего, что таит в себе мое потрясающее открытие. Но время покажет – время и наука. Нужно только наблюдать за ним и не торопиться.
Но как ни старался Селлерс, ему не удалось вызвать у Хокинса интереса к волновавшей его проблеме, – тот продолжал сидеть мрачный и подавленный. Наконец полковник затронул тему, которая заставила Хокинса насторожиться.
– Мне он начинает нравиться, Хокинс. Это человек поразительной силы воли, просто гигант. Под его внешней бесстрастностью таится самый смелый ум, какой когда-либо знало человечество, – это настоящий Клайв! Да, я восхищаюсь им, восхищаюсь его характером, а ты знаешь, что за восхищением следует любовь. Мне кажется, что я его очень полюблю. И знаешь, у меня недостанет духу превратить такую личность в вора, будь то за деньги или за что-нибудь еще! Вот я и пришел просить тебя, не согласишься ли ты отказаться от награды и оставить этого бедного малого?
– В том состоянии, как сейчас?
– Ну да, не материализовать его дальше и не доводить до наших дней.
– Вот вам моя рука! Я согласен от всего сердца.
– Я никогда этого не забуду, Хокинс, – сказал старый джентльмен, с трудом удерживая голос от дрожи. – Ты приносишь мне великую жертву, и жертву для тебя нелегкую, но я никогда не забуду твоего великодушия, и, если буду жив, ты не пожалеешь об этом, можешь не сомневаться.
Тем временем в сознании Салли Селлерс произошел мгновенный и решительный переворот: она вдруг поняла, что стала иным существом, – существом более возвышенным и достойным, чем была еще совсем недавно; существом целеустремленным, а не бесплодной мечтательницей; существом, перед которым раскрылся смысл ее существования на свете, тогда как прежде она лишь с тревогой и любопытством над этим раздумывала. Перемена, происшедшая в ней, была столь велика и всеобъемлюща, что у нее возникло такое ощущение, точно она лишь теперь стала человеком, тогда как до сих пор была лишь тенью; стала чем-то, тогда как еще совсем недавно была ничем; приобрела цель в жизни, тогда как еще недавно лишь мечтала о ней; уподобилась воздвигнутому храму, где перед алтарем горит огонь и к сводам возносятся голоса молящихся, тогда как прежде это был лишь туманный архитектурный замысел, непонятный для глаз пришельца и ничего не говорящий.
– Леди Гвендолен!
Сейчас этот титул утратил для нее всякое обаяние, он оскорблял ее слух.
– Этот… эта бутафория принадлежит прошлому; я не желаю больше, чтобы меня называли так, – сказала она.
– Могу я называть вас просто Гвендолен? Вы позволите мне отбросить формальности и называть вас этим милым именем без всяких добавлений?
Она была занята изъятием из его петлицы гвоздики и водворением на ее место розового бутона.
– Ну вот… Так гораздо красивее. Ненавижу гвоздику… некоторые сорта. Да, конечно, называйте меня по имени без всяких добавлений… то есть… ну, не совсем без всяких добавлений, но…
Однако высказать свою мысль до конца она не смогла. Наступила пауза, – Трейси тщетно пытался понять, к чему она клонит; наконец у него мелькнула идея, которая и позволила ему выйти из затруднения.
– Дорогая Гвендолен!.. Я могу вас так называть? – радостно спросил он.
– Да, частично. Но… Не целуйте вы меня, когда я говорю, а то я забываю, что хотела сказать. Вы можете называть меня только первым словом, но не вторым. Гвендолен – это не мое имя.
– Не ваше имя? – В этом вопросе прозвучало безграничное удивление.
Тут девушку охватило предчувствие недоброго, в душу к ней закрались подозрение и страх. Она отвела от себя руки Трейси и, испытующе глядя ему в глаза, сказала:
– Отвечайте мне искренне, по чести. Вы хотите жениться на мне не из-за титула?
Удар был столь сильным и неожиданным, что Трейси мог бы проскочить сквозь стену и вылететь на улицу. Самый вопрос, как и вызвавшее его подозрение были столь нелепы, что Трейси был сражен и ошарашен и даже не смог рассмеяться. Затем, не теряя драгоценного времени, он принялся уверять девушку, что пленился ею самой и полюбил ее, а не ее титул и положение; что любит он ее всем сердцем и не мог бы любить больше, если б даже она была герцогиней, или меньше, если б она была бездомной сиротой, без роду, без племени. Салли внимательно, настороженно, с надеждой смотрела ему в лицо, ища на нем подтверждения его слов. Когда же он кончил свою речь, в душе ее воцарилась радость – буйная радость, которая, впрочем, никак не отразилась на ее лице: оно было все так же спокойно, невозмутимо и даже предусмотрительно строго. Салли готовила Трейси сюрприз, решив подвергнуть серьезному испытанию его бескорыстие. Вот что она сказала, неторопливо поднося к запальному шнуру огонь и выжидая, пока он – слово за словом – пробежит по нему, чтобы закончиться неминуемым взрывом, последствия которого ей было любопытно увидеть:
– Выслушайте меня и не сомневайтесь в том, что я вам скажу, ибо я скажу вам истинную правду. Ховард Трейси, мой отец такой же граф, как и ваш!
К ее великой радости и тайному удивлению это не оказало на него никакого действия. Но на сей раз он не опешил от удара и воспользовался моментом.
– И слава богу! – восторженно воскликнул он, заключая ее в объятия.
Салли не хватало слов, чтобы выразить свое счастье.
– Благодаря вам я теперь самая гордая девушка на земле, – сказала она, уткнувшись головкой ему в плечо. – Я считала вполне естественным, что вас мог ослепить мой титул, хотя, быть может, вы и сами этого не сознавали, но ведь вы англичанин. Мне казалось, что вы обманываетесь, считая, будто любите меня бескорыстно, и обнаружите, что это вовсе не так, когда обман рассеется. А потому я горжусь, увидев, что мое признание ничего не изменило и что вы любите меня ради меня самой, только ради меня самой… О, я так горда, что этого не выразишь словами!
– Только ради вас самой, моя любимая! Я ни разу не бросил ни одного завистливого взгляда на графский титул вашего отца. Это чистая правда, дорогая Гвендолен.
– Ну вот, опять!.. Вы не должны меня так называть. Я ненавижу это фальшивое имя. Я же сказала вам, что меня зовут не так. Меня зовут Салли Селлерс, или Сара, если вам так больше нравится. Отныне я отказываюсь от всех мечтаний, иллюзий, фантазий и не желаю больше их знать. Я буду сама собой – такой, какая я есть, честной, естественной, свободной от предрассудков. Я сброшу с себя всю эту мишуру, глупость, претензии и буду достойной вас. Между нами нет ни на гран неравенства: я бедна, как и вы; у меня, как и у вас, нет ни титула, ни положения в обществе; вы – художник, своим искусством добывающий себе на пропитание, я тоже живу своим заработком, только более скромным. Хлеб наш – честно заработанный: мы живем своим трудом. Рука об руку пойдем мы отныне по жизни до могилы, всячески помогая друг другу, живя друг для друга, слив наши помыслы и цели, надежды и чаяния воедино, неразрывно связанные друг с другом до конца. И хотя в глазах общества мы люди маленькие, мы постараемся всемерно возвыситься благодаря честному труду, который позволит нам заработать себе на одежду и пропитание, и благодаря безупречному поведению. К счастью, мы живем в стране, где это ценится, где все люди одинаковы и, слава богу, различаются лишь по своим личным достоинствам.
Трейси попытался было вставить слово, но она жестом остановила его и продолжала свою речь:
– Я не кончила. Мне ведь еще надо сбросить с себя последние остатки искусственности, избавиться от ненужных претензий и начать с вами честную жизнь, став для вас достойной подругой. Мой отец искренне считает, что он граф. Пусть считает! Это доставляет ему удовольствие и никому не причиняет вреда. Об этом мечтали его предки задолго до него. Это было предметом помешательства многих поколений Селлерсов, я сама чуть не последовала их примеру, но, к счастью, во мне эта мания засела неглубоко. А сейчас я распрощусь с ней раз и навсегда. Сорок восемь часов тому назад я в глубине души гордилась тем, что являюсь дочерью вроде бы графа, и считала, что спутником моей жизни может быть лишь человек такого же ранга, но сегодня – о, как я благодарна вам за вашу любовь, которая исцелила мой больной ум и вернула мне здравый смысл! – я могу поклясться, что ни один графский сын на земле…
– Да… нет, но… но…
– Что с вами, у вас такой вид, точно вы испугались чего-то! В чем дело?
– В чем? Да ни в чем… ни в чем. Я хотел только сказать… – Но волнение Трейси было столь велико, что он ничего не мог придумать. Тут ему пришла в голову счастливая мысль, вполне соответствующая случаю, и он вдохновенно воскликнул: – О, как вы прекрасны! У меня дух захватывает, глядя на вас!
Это была правильная мысль, своевременная, высказанная с достаточным пылом, и она не могла не быть вознаграждена.
– Обождите… О чем это я говорила? Да, о том, что графский титул моего отца – чистая выдумка. Посмотрите на эти ужасы на стене; вы, конечно, полагаете, что это портреты его предков, графов Россморов. Ну, так ничего подобного. Это олеографии, изображающие известных американцев – наших современников, но с помощью подписей, сделанных отцом, им придана видимость тысячелетней давности. Вон там – Эндрью Джексон, который по мере сил и возможностей старается походить на покойного американского графа, а новое сокровище нашей коллекции должно изображать молодого англичанина, наследника графского титула, – я имею в виду вон того идиота, обтянутого крепом, – на самом же деле это сапожник, а никакой не лорд Беркли.
– Вы в этом уверены?
– Конечно уверена. Тот не мог так выглядеть.
– Почему?
– Потому что его поведение в последние минуты жизни, когда вокруг бушевал огонь, показывает, что это был настоящий человек… показывает, что это была возвышенная, благородная натура.
Трейси был глубоко тронут этими комплиментами, ему даже показалось, что прелестные губки девушки стали еще прелестней, произнося эти слова. И он сказал нежно:
– Как жаль, что он не может узнать, какую чудесную память оставило его поведение в душе восхитительнейшей и очаровательнейшей незнакомки в той стране, где…
– О, я почти влюбилась в него! Я думаю о нем каждый день. Он просто не выходит у меня из ума.
Трейси показалось это несколько излишним. Он почувствовал укол ревности.
– Вы, конечно, правильно делаете, что думаете о нем, – сказал он. – Во всяком случае, время от времени не мешает о нем думать… то есть, я хочу сказать, иногда… Иными словами… отдаленно восхищаться им. Но мне кажется, что…
– Ховард Трейси, неужели вы меня ревнуете к мертвецу?
Ему стало стыдно – и в то же время нисколько не стыдно. Он ревновал – и в то же время не ревновал.
Ведь в известном смысле этим мертвецом был он сам, и в таком случае все комплименты и похвалы, которыми осыпали покойника, шли в виде чистой прибыли к нему в карман. Но, с другой стороны, он же не был мертвецом, и, значит, все комплименты и похвалы, которыми осыпали покойника, не относились к нему и давали вполне достаточный повод для ревности. В результате между влюбленными произошла легкая размолвка. Но они быстро помирились и прониклись друг к другу еще большей любовью. Чтобы окончательно скрепить примирение, Салли объявила, что она изгоняет лорда Беркли из своих мыслей, и добавила:
– А для того чтобы он никогда впредь не стоял между нами, я приучу себя ненавидеть это имя и всех, кто его носит или когда-либо будет носить.
Это нанесло новый удар по сердцу Трейси, и он уже хотел было просить Салли несколько смягчить свой приговор – ну хотя бы в общих чертах, для того чтобы добро не обратилось во зло, – но по здравом размышлении решил, что, пожалуй, лучше все оставить так, как есть, и не рисковать возможностью новой размолвки. Итак, он решил уйти от этой темы и поискать что-то менее щекотливое.
– Насколько я понимаю, вы теперь, должно быть, порицаете аристократию и знать, раз вы отказались от своего титула и графских привилегий своего отца?
– Настоящую? Господи, нет конечно. Но я навсегда разделалась с нашим мишурным титулом.
Этот ответ прозвучал очень кстати и пролил бальзам на больное место: он спас бедного неустойчивого молодого человека от необходимости снова менять свои политические взгляды. Он уже начал было колебаться, но эти слова пригвоздили его к месту и не дали ему вернуться в лоно демократии и снова отказаться от принадлежности к аристократии. Итак, он пошел домой, радуясь тому, что задал этот вопрос и получил на него столь благоприятный ответ. Значит, его любимая согласится принять вместе с ним такую малость, как титул настоящего графа, – она возражает лишь против фальшивых ценностей. Да, он сможет сохранить и девушку и графский титул, – это большая удача.
Салли отправилась спать, тоже чувствуя себя необычайно счастливой, и пребывала в этом счастливом, до одури счастливом состоянии около двух часов, – но тут, в ту самую минуту, когда она готова была погрузиться в благостное и дивное забытье, черный дьявол, который живет, скрывается, время от времени появляется и снова прячется в душах человеческих, который наблюдает за человеком и только и ждет, как бы устроить своему властелину какую-нибудь гадость, шепнул ей: «Этот вопрос выглядел вроде бы невинным, но что таилось под ним? Из каких тайных соображений он был задан? И почему был задан именно он?»
Черный дьявол нанес Салли удар в самое сердце и теперь мог отправиться на покой, что он и сделал, предоставив боли терзать его жертву. Что и произошло.
Зачем Ховарду Трейси было задавать этот вопрос? Если он хотел жениться на ней не из-за ее титула, чего же ради он задал этот вопрос? Разве он не обрадовался, когда она сказала, что ее возражения против аристократии носят несколько ограниченный характер? Нет, его, конечно, интересует графский титул, эта позолоченная мишура, а она, бедняжка, вовсе не нужна ему.
Так рассуждала сама с собой Салли, вся в слезах, терзаясь тоской. Затем она попыталась посмотреть на дело иначе, но у нее ничего не вышло, и она не сумела себя убедить. Весь остаток ночи она перебирала один за другим все доводы – «за» и «против» и наконец заснула только на заре, – вернее, не заснула, а погрузилась в лихорадочное забытье, когда человека словно поджаривают на адском пламени и он просыпается с испекшимся мозгом, без сил, точно весь вываренный.