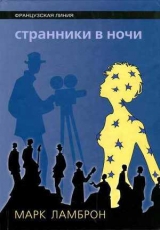
Текст книги "Странники в ночи"
Автор книги: Марк Ламброн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
Мальро замолк на полуслове. В приоткрывшейся двери кабинета показалось чье-то худощавое лицо с блестящими глазами.
– Господин министр, сейчас приедет египетский посол.
Целая стая нильских бабочек затрепыхалась у щек Мальро. Он дал им отпор.
– Если он прибудет прямо сейчас, попросите его подождать пять минут. У меня тут дело еще на секунду.
Мальро повернулся ко мне. Резиновый шарик, прыгавший у него внутри, ударился об уголки рта, и на губах министра появилась полуулыбка. Затем он снова ринулся в бой.
– Если мы избавились от единого Бога, с чем же мы останемся? С тем, против чего был направлен монотеизм: с идолопоклонством. Вы мне возразите: это ведь только иудаизм и ислам запрещают создавать изображения божества, а у христианства полно таких изображений. Зайдите в любую итальянскую церковь: тут вам и томные мадонны, и святые мученицы, пронзенные стрелой, – прямо дворец экстаза. Нет, когда я говорю о возвращении идолов, мне представляются ассирийские боги, каменные Будды в пещерах Лунгмена, божки Никобарского архипелага с султанами из перьев. Ожившие статуи – один из лейтмотивов нашего века. Муано рассказывал мне о телесериале, в котором играет Жюльетт Греко…
– «Бельфагор?»
– Да. На самом деле надо произносить «Ваал-Фегор». Кажется, в этом фильме смотрители Лувра бегают за мадемуазель Греко, которая сделала из себя какого-то финикийского Голема… Но и без нее кругом полно оживающих статуй. Возьмите миф о Пигмалионе и Галатее. По его мотивам Джордж Бернард Шоу написал пьесу, а в Америке сняли фильм, где в качестве оживленной статуи выступает маленькая цветочница с рынка «Ковент-Гарден»…
– «Моя прекрасная леди». С Одри Хепберн в главной роли.
– Вот-вот. Венера Илльская, о которой писал Мериме, возвращается. Это уже не воскресение Богочеловека, а превращение статуи в живого идола. Нечто подобное я видел сорок лет назад, когда мы с Шамсоном пошли на фильм Фрица Ланга «Метрополис». Там действовал железный истукан – в исполнении Бригитты Хельм, который по воле безумного ученого превращался в женщину: вроде того, как кукла Пиноккио превращается в живого мальчика. А чешские роботы… А говорящие изваяния у Кокто… А нимфы, оживающие на фотографиях Ман Рея. Я однажды сказал Пикассо: у тебя в центре кубизма оказались статуи древней Африки – берегись, ты разбудишь идолов. Так и случилось. Одри Хепберн и Пиноккио, «Метрополис» и Ман Рей, Пикассо и Бельфагор, Кокто и роботы… Что это значит? Это значит, что пророчество Ницше о смерти Бога реализуется в пробуждении статуй. Если вас уже не удовлетворяет скрытая сущность Бога, если вы не можете уверовать в могущество невидимого, тогда объекты поклонения должны утратить сакральный характер. Возникнет новый, нерелигиозный культ, при котором еще не пробудившиеся статуи будут окружены истерическим обожанием. А поскольку у этих истуканов есть своя цена, то на торговле фетишами и продаже идолов вырастут целые коммерческие империи. Так что перед нынешней молодежью открываются неплохие перспективы. Пройдет несколько лет…
Дверь опять приоткрылась. Заглянул секретарь.
– Скажите послу, что я к его услугам, – бросил Мальро.
И повернулся ко мне.
– Тутанхамону пришлось дожидаться тридцать пять столетий, но посол Египта не желает ждать и пяти минут. Что скажете?
– Это было великолепно, – сказал я.
Мальро почесал в затылке, потом шумно втянул воздух с видом некоторой озабоченности.
– Могло быть и лучше, – признался он. – Но сегодня я немножко устал – сам не знаю почему.
…
Встреча с Мальро позволяет мне точно определить момент, когда в мою жизнь снова ворвались роковые женщины из Нью-Йорка. Министр де Голля принял меня в первых числах декабря 1966 года. Неделю-другую спустя, вечером, у меня дома зазвонил телефон. Телефонистка сообщила, что это международный звонок из США, потом переключила меня на заокеанского собеседника.
На другом конце провода послышался голос женщины. Она представилась как Кейт Маколифф.
– Дело касается Тины. Она сейчас не в лучшем состоянии. Если бы вы могли прилететь в Нью-Йорк…
Меня словно пригвоздило к месту. Этот голос, обращавшийся ко мне из-за океана, это имя, которое я хотел забыть. Я ощутил холод – и непреодолимое волнение. Тина. Уже шесть лет никто не говорил со мной о Тине.
– Зачем, по-вашему, мне лететь в Нью-Йорк?
В трубке что-то затрещало.
– Тина, вероятно, будет рада вас видеть. Надо сделать попытку.
– Какую попытку?
– Вам надо прилететь в Нью-Йорк.
Ее голос звучал подавленно, но я уже этого не замечал.
– Как мне найти Тину? У нее есть телефон?
– Прежде я хотела бы сама повидаться с вами, – сказала Кейт Маколифф. – Это действительно необходимо.
Как всегда, на международной телефонной линии параллельно разговору слышались короткие гудки. Это напоминало обратный отсчет.
– У меня остались не очень приятные воспоминания о нашей последней встрече, – заметил я.
В трубке наступило молчание.
– Давайте не будем об этом, – сказала наконец Кейт Маколифф. – Можете прилететь, можете не прилетать. Но я хотела бы получить ответ.
– Я буду в Нью-Йорке.
Она продиктовала мне адрес и номер телефона. И я повесил трубку.
В те времена французская пресса была очень активна. Клод Руссель решил направить своего специального корреспондента в Нью-Йорк, чтобы на месте ознакомиться с деятельностью У Тана на посту генерального секретаря ООН. Кроме того, назрела необходимость написать несколько репортажей о новой Америке.
Неделю спустя я вылетел в Нью-Йорк.
…
В Нью-Йорке шел снег. Такси, на котором я ехал из аэропорта, пробиралось через городские окраины сквозь белый туман. Массивные очертания фабрик, выплевывавших черный дым, далекие факелы нефтеперегонных заводов почти скрылись за безмолвной круговертью хлопьев. Машины двигались по федеральному шоссе, снова и снова прокладывая колесами грязную колею, но ее снова и снова заметало снежной пылью. «Дворники» ритмичными взмахами протирали лобовое стекло «крайслера». Таксист включил радио. Какой-то американский голос воспевал стиральный порошок, словно победу над японцами у островов Мидуэй. Потом диктор восторженно объявил «убойный хит» прошлого лета. Зазвучали скрипки, а затем голос Синатры:
Strangers in the night
Exchanging glances,
Wonderin' in the night
What were the chances…
Незнакомцы, странники в ночи, глядели друг на друга, прикидывая, каковы их шансы. А я не знал, каковы мои шансы; я и прежде никогда этого не знал. Девятичасовой перелет, во время которого так и не удалось соснуть, огромный зал аэропорта, ошеломляющая энергия американцев… Мужчины с подбритыми затылками, женщины в теплых куртках с капюшоном – народ астронавтов, благоухающий «кремом после бритья» и синтетическим волокном. На рекламных стендах по обочинам дороги висели афиши фильма «Как украсть миллион», лица Одри Хепберн и Питера О'Тула повторялись без конца, до самого горизонта. Возвращение идолов, сказал неделю назад Мальро…
За окном обрисовались очертания Куинса, отдаленного, скученного и унылого района Нью-Йорка. Машину иногда встряхивало, но мотор работал мощно и ровно. Снег не мог смягчить металлическую доминанту пейзажа: стальные опоры бетономешалок, хромированные молдинги огромных грузовиков, фигуры Эскимоса у бензоколонок компании «Эссо». Такое впечатление, будто катишь среди обманчиво уютной тишины к белым береговым утесам планеты, оставленной богами.
И вот вдали, за подвижной пеленой из белых хлопьев, показались небоскребы Манхэттена. Где-то здесь меня должна ждать Кейт Маколифф. В сущности я прибыл сюда для того, чтобы свести кое-какие счеты. Я вспоминал, как тогда, сентябрьским днем 1960 года, она сидела передо мной – высокомерная, готовая на все, чтобы вернуть себе сестру. Сейчас ей, вероятно, лет двадцать семь – двадцать восемь. А Тине – около двадцати пяти. В момент, когда такси въехало в туннель под Ист-Ривер, меня охватило чувство нереальности происходящего. Тина. Неужели я снова увижу ее, буду с ней говорить? «Она сейчас не в лучшем состоянии», – сказала по телефону ее сестра. Но зачем понадобилось вызывать меня – теперь, спустя столько лет?
Мы ехали по Ист-Сайду. Машины тащились еле-еле. На тротуарах уборщики лопатами расчищали снег. В каньонах Манхэттена кружились снежинки, плясали вокруг укрепленных на карнизах железных орлов и флагов. Даже в такси пахло жженым сахаром и битой дичью – это был запах попкорна и жареного мяса, характерный аромат нью-йоркской улицы. Наконец машина остановилась перед отелем, где мне был заказан номер.
Час спустя другое такси высадило меня у дома, адрес которого продиктовала по телефону Кейт Маколифф. В Нью-Йорке стемнело. Я вошел под арку респектабельного многоквартирного дома, построенного, судя по всему, в тридцатые годы. Привратник в форме, которая напоминала одновременно костюм циркового дрессировщика и мундир австро-венгерского офицера, поинтересовался, какова цель моего визита. В его вежливом голосе звучали инквизиторские нотки и необъяснимое высокомерие. Подняв трубку телефона, стоявшего на столике вишневого дерева, он негромко произнес несколько слов, затем положил трубку на рычаг и повернулся ко мне.
– Мисс Маколифф ждет вас. Десятый этаж.
Он довольно холодно проводил меня до лифта. Маленькая стальная кабина была отделана красным плюшем. В зеркале отражался французский журналист тридцати пяти лет.
Дверца лифта отъехала в сторону, открылась площадка с тремя дверьми из массивного дуба. Ее освещали бра, висевшие на обитых кретоном стенах. У правой двери была прибита дощечка с номером 102. Я позвонил, услышал шаги, щелчок отодвигаемой задвижки. Дверь открылась.
Мне показалось, что я сплю и вижу сон. Женщина, стоявшая передо мной, несомненно, была мисс Кейт Маколифф. Я сразу узнал эти карие глаза, пышные темные волосы, черты лица, так разительно похожие на черты ее сестры или по крайней мере на образ ее сестры в моих воспоминаниях. Но сейчас во всем ее облике появилась такая непринужденность, а в ее манерах – такая простота, что я, еще ничего не успев понять, чутьем уловил: эта женщина пережила тяжелое потрясение.
Войдя вслед за ней в тесный коридор, я заметил, как она одета: свитер грубой вязки, джинсы, сапоги из черной кожи. Эта двадцативосьмилетняя женщина одевалась точно студентка в кампусе. Она пригласила меня в гостиную, которая четверть века назад, вероятно, была гордостью хозяев. Тяжелые занавеси в складках, бледно-розовые стены, фальшивый камин «обтекаемой формы». Но сейчас атмосфера этой комнаты напоминала наспех разбитый лагерь: каждая деталь, попав сюда, словно забывала, откуда она родом.
Усевшись на один из двух диванов, я обнаружил на низком столике между ними огромный ворох газет, папок с подшитыми вырезками, книг в бумажной обложке. Возле камина на полу громоздились еще стопки книг. Плакаты, прикрепленные кнопками к стенам призывали на митинги организаций «Движение за свободу слова» и «Студенты за демократическое общество». Раскрашенная мексиканская статуэтка, изображавшая, вероятно, бога Кецалькоатля, подпирала кипу долгоиграющих пластинок, наваленных на полу около проигрывателя со стереоколонками.
Оглядывая комнату, я не сумел скрыть удивление. Очевидно, Кейт Маколифф это заметила. Сев на диван напротив меня, она сказала:
– Да, я живу здесь, как и прежде. Эта квартира давно принадлежит нашей семье.
Зачем она это говорит? Оправдывается? Комнату освещали лишь две неяркие лампы в больших кувшинах южноамериканской работы, стоявших на полу. Но в царящем вокруг полумраке я все же различал ее лицо без косметики, ее напряженный взгляд, видел за всем этим определенный образ жизни и линию поведения, которых я от нее никак не ожидал. Что с ней произошло за эти шесть лет после нашей встречи в Риме? Куда девалась надменная юная особа в элегантном костюме? Кейт Маколифф словно прочла мои мысли.
– Думаю, я должна вам кое-что объяснить, Жак. Первым делом хочу поблагодарить вас за то, что вы все-таки выбрались в Нью-Йорк.
– Не надо меня благодарить, – ответил я сухо. – Я здесь ради Тины.
Кейт Маколифф покачала головой.
– Вы ее увидите. Если хотите – прямо сегодня вечером… Знаете, я простить себе не могу, что тогда поехала за ней в Рим. С тех пор изменилось очень многое. И все же я хотела вам это сказать.
– Все мы меняемся, – сказал я. – И никому нет смысла оправдываться.
На ее лице появилось выражение недовольства, от которого резче выделялись скулы, ярче горели глаза. Я не думал, что она до такой степени может быть похожа на Тину.
– Я не оправдываюсь, – возразила она. – Я уже не маленькая девочка, которая слушается маму.
– Правда?
Снова, как в сентябре шестидесятого, я ощутил боль. И желание отомстить.
– Моя мать умерла два года назад, – произнесла она бесстрастным тоном.
– Мне очень жаль. Я не…
– Не надо жалеть, – отрезала она. – Во всяком случае, моя жизнь изменилась еще до этого.
Я невольно оглядел комнату. Наваленные в беспорядке книги, плакаты на стенах, мексиканская мебель, пластинки, лежащие на полу. Кейт перехватила мой взгляд.
– Понимаю, это место может показаться вам странным. Один мой друг говорит, что я устроила бункер вьетконговцев в будуаре. Но у меня нет времени, чтобы все тут переделать, мне оставили эту квартиру, и я в ней живу, вот и все.
Она выражалась так просто и прямо, что я почувствовал себя еще более сбитым с толку.
– А на что уходит ваше время?
Кейт встрепенулась и не без гордости произнесла:
– Я журналистка, работаю в «Нью-Йорк таймс». Занимаюсь внутриамериканской проблематикой. Если точнее, движением «новых левых».
– Кого вы называете «новыми левыми»?
Казалось, Кейт удивил мой вопрос. Но она спокойно ответила:
– Это студенческие движения. Движения борцов за гражданские права. Феминистские организации. Разве во Франции о них не знают?
– Знают, – не слишком находчиво ответил я.
– Вообще-то вам, наверно, пора что-нибудь выпить. Выпьете чаю?
– С удовольствием.
– Подождите, я сейчас, – сказала она, вставая.
Она направилась к двери, а я с удивлением смотрел ей вслед. Чопорная светская дама, которую я видел в Риме, стала гибкой, словно индианка.
Я взглянул на газеты, наваленные на столе. Среди них лежала студенческая газета Калифорнийского университета, отпечатанная на грубой бумаге, рядом – сборник стихотворений Лоренса Ферлингетти. Потом я поднял глаза к окну: за ним все еще падал снег. Вокруг этой мирной гостиной расстилался город, скованный холодом, погружавшийся в ночь. С женщиной, которая сейчас кипятила воду на кухне, я встречался только раз, в сентябре шестидесятого года, и встреча длилась всего полчаса. Кто она, Кейт Маколифф? Ощущение нереальности происходящего, какое возникает после долгого перелета, в первые часы пребывания в далеком, чужом городе, вдруг переросло в тревогу. Где Тина?
Вошла Кейт Маколифф, неся поднос с чайником, чашками и сахарницей. Она сдвинула в сторону бумаги и поставила поднос на низкий столик между диванами. Когда она наклонилась, разливая чай, ее темные волосы свесились на глаза. Она грациозным движением откинула их назад. И мне показалось, что с нее вдруг спали невидимые путы, сковывавшие ее шесть лет назад.
Она села на диван напротив меня.
– Вы меня вызвали из-за Тины, – произнес я, пожалуй, чересчур напористо.
Кейт Маколифф взглянула на меня без улыбки. Очевидно, тон моего голоса ясно давал понять: «Он все еще влюблен в Тину».
– Да, – отозвалась она после небольшой паузы. – У нее тяжелые проблемы из-за наркотиков. Когда она вернулась из Рима, я думала, что дело пойдет на лад. Тина перестала нюхать кокаин, но она связалась с самыми эксцентричными людьми в городе. А три года назад она начала принимать амфетамины, и теперь у нее развилась зависимость.
– Зависимость от чего?
– От таблеток. Туинол, обетрол и как они там еще называются. Но помимо этого она опять стала употреблять кокаин и другие наркотики. Носится по Нью-Йорку, практически никогда не спит – не жизнь, а какой-то ад. У нее были периоды депрессии, параноидальные приступы, и после этого она каждый раз начинает лошадиными дозами принимать кокаин. За последний год ее два раза приходилось класть в больницу. Но сейчас наметился просвет.
– Просвет?
– Да, она проходит курс детоксикации. И вроде бы успешно.
Чай обжигал горло. Каждая фраза Кейт болью отдавалась у меня в сердце. Юная девушка, которую я увидел апрельской ночью в садах палаццо Бьондани. Терраса кафе «Стрега-Дзеппа», пляж в Фонте деи Марми… А теперь этот снег над Нью-Йорком.
– А чем она еще занимается?
Кейт Маколифф бессильно развела руками.
– Можно сказать, ничем. После смерти матери она, как и я, получила наследство.
Кейт отвернулась. И я вдруг почувствовал тяжесть испытания, которое превратило ее в зрелого человека. Сестра, при жизни ставшая чем-то вроде призрака, чувство вины, присосавшееся, словно пиявка. Но страдание закалило ее, а не сломило.
– Чего же вы хотите от меня? – спросил я. – Ведь мы с Тиной так давно расстались.
– Она не забыла вас, Жак. Она мне сказала об этом.
– Она так сказала?
Кейт взглянула мне в глаза.
– Да.
Я промолчал. За окном по-прежнему шел снег. Кейт Маколифф неподвижно сидела на диване, длинные темные волосы обрамляли бледное лицо.
– Мне хотелось бы повидаться с Тиной, – сказал я вдруг.
На лице Кейт мелькнула доверчивая улыбка.
– Знаете, она и сейчас такая же красивая. Только внутри все разладилось. Я не очень-то надеюсь на этот курс лечения. Но так или иначе, я уверена: она будет рада вас видеть.
– Вы можете ей позвонить?
Кейт Маколифф посмотрела на часы.
– Не думаю, что сейчас она может быть дома.
– Где же она может быть?
Лицо Кейт стало жестким.
– В компании придурков, за двадцать пять улиц отсюда. Если хотите, я вас туда отведу.
…
Такси свернуло на 47-ю улицу. Снег шел не переставая. Мы проехали по нескольким авеню, где машины вереницей ползли друг за другом. Фонари бросали желтоватый отблеск на тротуары. В ущельях между небоскребами бушевал вихрь снежных хлопьев, словно решив навечно затянуть город пушистой пеленой, превратить его в белое чистилище. У перекрестков безостановочно крутились проблесковые маячки на полицейских автомобилях. Целые кварталы зябко съежились в бледном свете луны.
Мы приближались к Ист-Ривер. Кейт Маколифф сидела рядом со мной, закутанная в темно-серое пальто. Я видел ее лишь в профиль. Так она была очень похожа на Тину. Сквозь стальной корпус желтого «форда» проникал обжигающий холод. Справа и слева рядами тянулись офисные здания, их верхние этажи терялись в крутящихся снежных облаках. Может быть, именно таким будет Апокалипсис – медленное оцепенение, белесая ночь, опускающаяся на башни Манхэттена?
Но вот дома стали ниже. Сквозь завесу снежных хлопьев я различал почерневшие кирпичные стены старых складских помещений, верхушки резервуаров на металлических сваях. Вдруг мне показалось, что тут, посреди города, я попал в таинственный мрак индейского кладбища.
– Это здесь, – сказала Кейт.
Таксист мягко затормозил. Я сунул ему несколько долларовых бумажек. Кейт указала мне на старое здание, по фасаду которого зигзагом шли пожарные лестницы. Десять шагов – и мы у входа. За дверью нам открылся коридор, слабо освещенный голыми электрическими лампочками на шнурах.
– Сюда, к лифту, – сказала Кейт.
В стены впитался запах свежей краски и прогнившего дерева. Лифт был похож скорее на заводской грузовой подъемник, с винтами домкрата и лоснящимися от масла металлическими кабелями. При этом был выкрашен серебряной краской. Кейт нажала на кнопку над номером 5. В здании вовсю работало отопление, даже в шахте, по которой поднимался скрипучий, тряский подъемник, веяло теплом. Чем выше, тем слышнее становились звуки музыки: видимо, где-то вертелась пластинка. Судя по потолочным балкам и массивным опорным столбам, это здание в 20-е годы было складом или фабрикой. В подобных местах при «сухом законе» устраивали подпольные кабаки. Их можно увидеть в старых гангстерских фильмах: танцовщицы с султанами из перьев, рулетка, а вокруг рекой льется шампанское.
Вдруг подъемник вздрогнул и остановился. Пятый этаж. Музыка слышалась отчетливее. На площадке лестницы нам в глаза ударил свет прожектора. Под ним висела доска с надписью «Незваным вход воспрещен». Из-за приоткрытой двери доносился шум голосов, беззаботный гомон, как на коктейлях в светском обществе. Кейт направилась к двери, я последовал за ней – и моим глазам представилось зрелище, необычнее которого трудно что-либо вообразить.
В помещении размером с фабричный цех прохаживались человек пятьдесят. Когда-то здесь стояли ряды ткацких станков или швейных машинок. На фоне таких цехов операторы студии «Кистоун» снимали буффонаду с пузатыми длиннобородыми комиками. Ажурные стальные опоры, плиточный пол, зарешеченные окна с надписью «пожарный выход» – когда-то, во времена президента Кулиджа, здесь было процветающее предприятие, кипела работа. Но станки исчезли, и воцарилось запустение. Мы были на луне.
Да, на луне. Стены, потолок, мебель – все было либо покрашено серебряной краской, либо задрапировано алюминиевой фольгой, заложенной складками и воланами: ее неровная, зернистая поверхность напоминала обертку от гигантской плитки шоколада. В свете прожекторов она переливалась, как муар, превращая зал в огромное зеркало, сияющее, как космический корабль, и искажающее контуры предметов, как в ярмарочной «комнате смеха». На стенах отражались человеческие фигуры, причудливо изогнутые или вытянутые, словно загнанные в трубку калейдоскопа.
Посреди цеха стоял большой диван с тремя подушками. Тут и там – вращающиеся кресла, покрытые серебряной краской из распылителя: подходящая мебель для заседаний «мозгового треста» фирмы «Ранк ксерокс». В одном из простенков – большой фабричный шкаф. Недалеко от старого настенного телефона поставили радиолу с двумя стереоколонками, когда мы вошли, оттуда лилась музыка, темная, густая и сладкая. Я заметил в углу музыкальные инструменты – гитары, ударные, а также микрофоны и электрические провода. В углу напротив располагалось оборудование для киносъемки: камера, штатив, зонт, коробки с пленкой. Но любопытнее всего здесь были картины: именно они создавали ощущение странности и буйной пестроты. Одни были прислонены прямо к серебристой перегородке; тут же стояли флаконы с чернилами и ванночки для трафаретной печати. Другие картины висели на веревках, точно мокрое белье. Еще картины были на стенах. Бутылки кока-колы, запечатленные на ярко-алом фоне. Парящие в воздухе коровы, построенные в боевой порядок, точно эскадрилья бомбардировщиков. Жаклин Кеннеди в лилово-зеленых тонах – разнообразнейшие оттенки, от самого насыщенного до почти прозрачного. Цветы, похожие на маки, одинаковой формы, но в причудливых узорах и крапинках, словно какой-то безумный садовод раскрасил клумбу волшебной кистью мудреца из страны Оз.
Я застыл на месте. Этот серебряный грот, сверкающие стены, ослепительные прожекторы – все это напоминало какой-то воображаемый Марс или пещеру космической Цирцеи. Как будто на ледяном панно высветилась карта неведомой местности, на которой телефон и гитары, кинокамеры и картины, Жаклин Кеннеди и маки были экспонатами музея инопланетных диковин. Снег шел снаружи, но зима царила здесь, в этой комнате. Вы оказались внутри черепной коробки, где мозговые извилины расправились, точно щупальца, и захватывали своими алюминиевыми нейронами всякое человеческое существо, попавшее в зону досягаемости.
В углах этой странной лаборатории происходило какое-то движение. Возле радиолы извивались в танце три девушки, тоненькие, белокурые, с отдельными серебристыми прядями. На одной была короткая кофточка в леопардовых разводах, в ушах – клипсы из перьев попугая, на другой – черный джемпер со стоячим воротом и кепка, на третьей – темно-синяя футболка и собачий ошейник. На ногах у всех трех были сетчатые колготки и кожаные сапоги. Девушки танцевали под музыку в стиле «ритм-энд-блюз», но не так, как танцуют в Гарлеме – гибко и грациозно, а резко, порывисто, мотая головой: в этом чувствовалась не только природная угловатость, но и что-то безумное. У покрытых фольгой перегородок составлялись и рассыпались небольшие группы танцующих. Молодые люди в черных майках, девушки в мини-платьях, увешанных монетками, респектабельные господа в свитерах – все они как будто следовали этикету, смысла которого не понимали. Хотя на раскладных столиках стояли картонные стаканчики и бутылки виски или кока-колы, атмосфера была иная, чем на коктейле или вернисаже. Такое впечатление, что тут развлекались члены космической секты, освободившиеся от скафандров и парящие в невесомости. Прожекторы освещали съемочную площадку с множеством актеров, но камеры не работали. Среди зимы распустились цветы, но их стебли были из пластика. Гитары ждали отлучившегося гитариста. У этой церемонии не было объединяющего центра. Тела присутствующих двигались, словно выполняя какой-то холодный восточный ритуал. Все в целом напоминало театр кабуки, дающий представление в морозильнике.
Кейт тронула меня за руку.
– Тины здесь нет, – сказал я.
– Подождите немного.
Когда мы вошли, несколько голов разом повернулись в нашу сторону, как будто персонажи картины отметили появление на полотне новых фигур. В их взглядах нельзя было прочесть ни симпатии, ни неприязни. Они глядели точно астронавты, погруженные в анабиоз.
– Пойдем поздороваемся с Энди, – сказала Кейт. – Все-таки мы у него в гостях.
– А где он?
– Видите вон того типа, тощего, в парике?
В семи или восьми метрах от двери стоял человек среднего роста, какой-то весь угловатый, в черной кожаной куртке поверх матросской тельняшки, узких черных брюках и грубых солдатских ботинках, выкрашенных серебряной краской с помощью распылителя. На мертвенно-бледном лице выделялись дымчатые очки. Парик с косым пробором, с прилизанными, похожими на паклю кукольными волосами тоже был обрызган серебряной краской. Держа голову неподвижно, словно ее подпирал гипсовый воротник, глядя в сторону, он слушал возбужденную толстую девицу, которая сама смеялась над своими шутками. Рядом стоял мрачный брюнет, весь в черной коже, со зловещей улыбкой на губах и тонким кожаным бичом, накрученным на руку. Другой приближенный хозяина дома, щекастый, жеманно жестикулирующий мужчина лет тридцати в хорошо сшитом костюме-тройке, походил на молодого Чарльза Лоутона.
Присмотревшись, я понял: человек в посеребренном парике был как бы центром, вокруг которого присутствующие совершали свои на первый взгляд необъяснимые перемещения. Даже находясь на порядочном расстоянии, эти люди не спускали с него глаз, искали возможности подойти поближе. Однако этот серебряный сфинкс был окружен невидимым барьером, непреодолимым, как линия высокого напряжения. Невольно возникала ассоциация с властителем подводного мира или с андалузской святой в усыпанной драгоценными камнями раке.
– Пойдем к нему, – сказала Кейт.
Она прошла сквозь круг подданных и храбро направилась к небожителю. Все разом посмотрели на нас, как будто мы посягнули на алтарь Священного изумруда. Кейт Маколифф явно не соблюдала принятую здесь иерархию.
– Хелло, Энди, – произнесла она.
Серебряный сфинкс не шелохнулся.
– Хай, Кейт, – сказала толстая девица.
– Хай, Бриджит, – отозвалась Кейт.
– Хай, Кейт, – сказал двойник молодого Чарльза Лоутона.
– Хай, Генри, – ответила она.
А мрачный садист с намотанным на руку бичом не проронил ни слова.
После обмена лаконичными приветствиями Кейт повернулась ко мне и сказала:
– Энди, я хочу тебе представить Жака Каррера. Он французский журналист.
При слове «французский» серебряный сфинкс чуть скривил губы. Он не протянул мне руку, а лишь слегка отстранил ее от туловища, причем указательный палец этой руки был направлен в пол. Очевидно, это был сигнал: один из рабов, стоявший сзади, мигом удалился.
Мне показалось, что ко мне принюхиваются, как к свежему мясу.
– Aw уо in Nu Yaak fo' a long time? (Вы долго пробудете в Нью-Йорке?) – кокетливо поинтересовалась толстая девица.
– Пока не знаю.
– Жак – приятель Тины, – объяснила Кейт.
Голова серебряного сфинкса чуть пошевелилась.
– В самом деле? – произнес он безразличным тоном.
У меня было такое впечатление, будто передо мной колышется нейлоновый призрак и просвечивает меня рентгеновскими лучами. Это неестественно белое, возможно, напудренное лицо могло принадлежать какой-нибудь маркизе XVIII века или восставшему из гроба вампиру. Один их персонажей Эдгара По материализовался, чтобы дать мне краткую аудиенцию, и остался при этом равнодушным и безжалостным.
Придворные белого императора смотрели на Кейт без особой симпатии. Мне показалось, она над ними подсмеивается. И испытывает к ним ненависть.
– Во Франции знают Энди? – спросил молодой Чарльз Лоутон.
– Да, – ответил я. – Наши критики пишут о поп-арте.
– Будущей весной Энди поедет в Европу, – сказала толстуха.
– Aough yes, – подтвердил Энди. – But I hate Jean-Luc Godard [21]21
О да. Но я не выношу Жана-Люка Годара (англ.).
[Закрыть].
Услышав этот высочайший вердикт, трое придворных закивали головами. Энди Уорхол опять слегка скривил губы. Раб, недавно исчезнувший по знаку хозяина, вернулся, неся «полароид». Он почтительно вручил аппарат Энди.
Уорхол отступил на шаг (это движение было замечено присутствующими), не снимая дымчатых очков, поднес к лицу «полароид» и навел на меня. Затрещала вспышка, Уорхол опустил фотоаппарат и передал его ассистенту, который в мгновение ока – фотография даже еще не успела высохнуть – исчез где-то в глубине мастерской.
– Тина еще не пришла? – спросила Кейт.
– Aough по, – металлическим и в то же время томным голосом ответил Уорхол.
– Думаешь, она придет?
– Aough yes.
В этот момент шум вокруг стал заметнее. Кто-то усилил звук проигрывателя, и к трем девушкам присоединились другие танцующие. Уорхол направился к сцене – медленно и размеренно, точно автомат. Он шел, повернувшись к нам спиной. Увидев его сзади, я подумал, что это зрелище вполне вознаграждает за его неучтивость.
Музыка звучала очень громко. Теперь возле радиолы танцевали несколько молодых людей. «You keep me hangin' on» [22]22
Держи меня, не отпускай (англ.).
[Закрыть], – слышалось из стереоколонок. Молодым людям в майках и ковбойских сапогах не нужны были партнерши для танцев, они держались на расстоянии от девушек и старались подражать их движениям. Я украдкой взглянул на Уорхола. С бесстрастным, безразличным видом он наблюдал за ходом эксперимента по возбуждению женского экстаза в мужском теле, по переносу гормонов Клеопатры в организм самца. Серебристые стены, прожекторы, картины на стенах – весь этот фон был мрачнее, чем казалось на первый взгляд. Силуэты танцующих с каждой минутой все больше походили на изломанные угольно-черные фигуры с картин экспрессионистов – мне вдруг вспомнились шведские актрисы 20-х годов, в болезненном трансе хватающие воздух ртом. Маленькая толпа в мастерской как-то вдруг оживилась. Я ощутил запах конопли. Появилась еще одна гостья – виляющая бедрами, чрезмерно белокурая женщина; черты лица у нее, впрочем, были мужские. Двое парней, обнявшись, прошли мимо. В углу я заметил девушку в мини-юбке, на вид совсем юную и наивную; она достала из кармана и открыла небольшой флакон, втянула носом его содержимое, а потом ее голова снова откинулась назад.








