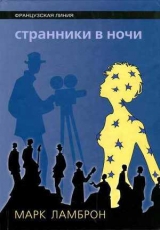
Текст книги "Странники в ночи"
Автор книги: Марк Ламброн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 19 страниц)
Кейт Маколифф подняла на меня утомленные глаза.
– They're creeps [23]23
Они балдеют (англ.).
[Закрыть], – сказала она.
Мне захотелось выпить. Я взял Кейт под руку, и мы направились к одному из столов с напитками.
– Got some speed? [24]24
Колеса есть? (англ.)
[Закрыть]– спросил меня на ходу юноша с лицом ангела.
Я не понял вопроса.
– Ему нужны амфетамины, – пояснила Кейт и сделала юноше знак, чтобы он от нас отстал.
Наливая в картонные стаканчики кока-колу и виски, я заметил на стене стенд с фотографиями голливудских звезд прошлых лет. Улыбающийся Фэтти Арбакль, а рядом нимфетка с темными кругами под глазами. Мэрилин Монро и Джейн Рассел. Эррол Флинн в костюме капитана Блада. Лекс Баркер в роли Тарзана, в набедренной повязке и с обезьянкой Читой на плече.
Я протянул Кейт стаканчик. Но не успела она отпить, как к нам подошел престранный субъект. Это был щуплый молодой человек с блестящими глазами, с волосами, стоявшими на голове торчком, как рога у черта.
– Привет, Кейт! – заорал он.
– Привет, Ундина, – раздраженно ответила она.
Он смерил нас взглядом, словно эльф, попавший в компанию фей, потом торжественно указал пальцем на меня.
– Это новенький? Совсем-новый-джентльмен-по-нему-звонит-Биг-Бен? Ура-стальная-эскадрилья-наш-Икар-большие-крылья?
Он нанизывал слова на манер джазового певца, негра из клуба «Аполло», импровизирующего диалог в ритме свинга.
– Оставь нас в покое, – отрезала Кейт.
Он плотоядно улыбнулся.
– Нет-нет-нет, – сказал он, грозя ей пальцем. – Добро-пожаловать-сюда-крутите-в-небе-виражи-ух-Кейт-не-джентльмен-конфетка-Ундина-крылышка-ми-хлоп-в-любом-гнезде-снесет-яйцо… Ми-и-лый, ми-и-лый, ми-илый…
Он менял размер как солирующий саксофонист и при этом сверлил меня взглядом.
– Катись отсюда, Ундина, – повторила Кейт.
Он сделал ей глубокий реверанс, но не послушался. Демонстративно повернулся к девушкам, танцующим возле радиолы.
– Ты их видела, Кейт? – начал он снова, уже в другом ритме. – Этих девушек Дреллы? У них фейерверк в головеееее… Энни с Дальнего Запада в Манхэттене, оу, йеее. Они скачут верхом на буйволе, но это лишь в голове. Родео-Кочайз-Америка! У меня есть пилюльки, шеф, я ими воюю, шеф. Йеее. Огненная вода, трубка мира, Дрелла воздаст за себя… Мозги всмятку! У Дреллы лицо-личинка, Дрелла доктор, видит нутро… Кетчуп, Хайнц! И Дрелла рисует, бэби, серии-долларов-серии-пенисов… Электрические стулья… Оранжевая Мэрилин! Триста тысяч вольт под задницей! Голливуд-Секонал!
– Катись, Ундина!
Он приподнялся на носки, точно балерина, подмигнул и снова опустился на пятки, отчаянно виляя задом.
– Ундина-правду-говорит, уа! Я – Папа! Папа Ундина! Они все кланяются мне! Оскар Уайльд… И Мэри Пикфорд… И Джаспер Джонс… И генерал Кастер! Ундина итальянец… Они приходят в Ватикан, чтоб на меня взглянуть хоть раз, все девушки Дреллы… Наоми! Бэби Джейн! Эди! Тина! Нико! Я-папа-Ундина-я-мессу-служу-вместе-с-Энди… Римский католик… Он Дьявола видел… Не-летающие-тарелки-не-лучи-смерти… Догма! Догма! Кардинал Спеллман – самозванец! Астарот! Вельзевул-с-раздвоенным-копытом! Только Энди здесь святой… Он служит мессу на берегу Ганга, осыпанный лепестками роз… Догма! Ундина – Догма!
Внезапно маленький джокер повернулся на каблуках и исчез.
– Тина часто бывает здесь? – спросил я у Кейт.
Она подняла на меня свои прекрасные, усталые глаза.
– Раньше она проводила здесь все время. Сейчас приходит реже. Они уже слишком хорошо друг друга знают.
– Кто эти люди?
Она обвела взглядом мастерскую.
– Верховные жрецы Энди или что-то в этом роде. Псих, который к нам приставал, называет себя Ундина. Приходит сюда с компанией приятелей, они величают себя «бандой Кротов»… Толстуха – дочь Ричарда Берлина, хозяина «Херст корпорейшн». Парень с хлыстом, Джерард, – помощник Энди… Умный, с пухлыми щеками, – Генри Гелдзелер, сотрудник музея Метрополитен, здесь он, можно сказать, капеллан… Есть еще и другие, просто сегодня они не пришли – Чак, Пол, Лу…
– А что здесь происходит днем?
– Всякое, – ответила Кейт. – Энди изготавливает картины методом трафаретной печати. Одна рок-группа тут репетирует. А еще Энди снимает фильмы.
– А актеры кто?
Кейт Маколифф указала на присутствующих.
– Многие из них сегодня здесь. Это друзья Энди. Почти все они – эйхеды.
– Кто?
– Эйхеды. Сидят на амфетаминах.
– Уорхол тоже?
– Нет. Сейчас – нет.
Я окинул рассеянным взглядом это странное сборище. Из радиолы, усиленная стереоколонками, неслась песня к фильму о Джеймсе Бонде. Голос Ширли Бесси…
Уорхол стоял неподвижно, приложив палец к губам. Возможно, созерцая танцы своих рабов, он чувствовал себя хозяином тайной ракетной базы, спрятанной в кратере вулкана. Бассейн с акулами… Владыка атоллов, заново родившийся на Северном полюсе… Серебряная космическая база под нью-йоркским снегопадом… Силверфингер…
И тут я увидел ее.
Она вошла в мастерскую с двумя тощими парнями в темно-синих пальто. Ее силуэт я узнал бы даже на Луне. Эти удлиненные линии, эта осанка, эта манера проходить через комнату, словно преодолевая на своем пути невидимые препятствия. Черный брючный костюм тесно облегал фигуру, подчеркивая ее достоинства.
Коротко подстриженные волосы обрамляли лицо, которое я все эти годы видел лишь во сне. Если какая-то мелодия может всю жизнь звучать у тебя в душе и лишь изредка – наяву, то сейчас настал один из этих редких моментов. Она пела мне о благоухании кипарисов и ночах без сна, о легком весеннем ветре и времени, когда наши взгляды говорили за нас, о лете, которое я провел с Тиной на озаренных солнцем пляжах.
Кейт Маколифф тронула меня за руку.
– Тина здесь, – прошептала она.
– Вижу. Она знает, что я должен прийти?
– Нет.
Тина шла медленно, ни на кого не глядя, словно ее окружали безликие существа. В огромной мастерской ее притягивало, как магнит, то место, где находился Энди Уорхол. Оба ее спутника уже успели раствориться в толпе.
Когда Тина подошла к Уорхолу, тот едва повернул к ней голову. Тина наклонилась, и он что-то прошептал ей на ухо, потом кивком указал ей в ту сторону, где были мы с Кейт.
Никогда не забуду выражение лица Тины в эту минуту. Она увидела сестру. Увидела меня. И остолбенела, точно ей явился призрак. Этим призраком был я. Потом она отошла от Уорхола и робко направилась к нам, а я – меня тоже с трудом слушались ноги – двинулся ей навстречу.
– Джек?
Когда она произносила мое имя, в ее голосе звучало удивление: так удивляются, наткнувшись на зарытую в песке и давно забытую вещь.
– Это я, Тина.
Я вгляделся в нее. При такой прическе черты лица казались мельче, как бы чуть расплывались. Под глазами обозначились темные круги, скулы выделялись уже не так четко. И что-то обреченное, беззащитное появилось в ее лице: чувствовалось, что она уже не в силах бороться. Человека с таким лицом не стоило мучить расспросами. Это было очевидно – и я ужаснулся.
– Что ты тут… делаешь? – с запинкой спросила она.
– Хотел повидаться с тобой.
– Повидаться со мной?
Она посмотрела на меня так, точно я сказал какую-то дикость.
– Тина, я тебя не забыл.
Она опустила глаза.
– Ты не должен был приезжать сюда, Джек. Во всяком случае, ради меня… Это Кейт, верно? Это она тебя разыскала?
Не ответив, я обернулся, чтобы взглянуть на Кейт. Но Кейт исчезла. А музыка играла все громче и громче.
– О Джек, – сказала она, – знаешь, мир изменился.
Возможно, мир и вправду изменился. Была ли женщина, появившаяся здесь, среди этой ледяной вакханалии, той самой, что повстречалась мне в Риме шесть лет назад? Вокруг нас были уже не камни Авентина, в сумерки отдававшие дневной жар, не залы княжеских дворцов, полные танцующих. Это была покрытая серебряной пылью мастерская, где в картинах словно отражались стоявшие на столах бутылки кока-колы, а между ними расхаживали привидения в дымчатых очках; вместо веселой магниевой вспышки папарацци здесь жужжал «полароид», просвечивавший вас рентгеном. Возможно, я слишком долго жил и страдал по законам былой любви. Но Тина была передо мной, здесь и сейчас.
В мастерской подданные Уорхола обделывали свои делишки, а я сделал то, что казалось странным здесь, в том месте, где я вновь нашел Тину, но было в духе того времени, когда я встретил ее впервые: я взял Тину за руку и повел к выходу. И тут же заметил косые взгляды одурманенных таблетками «кротов», иронические гримасы тут и там; на меня надвинулась мощная волна осуждения, неприятия, физически ощутимой враждебности. Уорхол проводил нас взглядом. Я успел уловить выражение его лица, вернее, отсутствие выражения. Казалось, он из-за своих темных очков наблюдает за космическим экспериментом. Французский журналист уводит из мастерской Тину Маколифф. Информация принята. Траектория зафиксирована.
Снежная буря прекратилась. На тротуарах сверкал свежевыпавший снег. Выходя из мастерской, Тина надела теплую красную куртку. Я предложил взять такси до моего отеля.
– Нет, Джек, пойдем ко мне, на Бикмен-плейс, это в двух шагах отсюда.
Она уцепилась за мою руку. Я чувствовал, что она нетвердо держится на ногах, но все же решилась идти. Мы свернули на Первую авеню. Изредка медленно проезжали машины. Все было спокойно. На набережной Ист-Ривер смутно виднелся небоскреб ООН. В освещенных вестибюлях жилых домов уже стояли елки, увешанные гирляндами электрических лампочек: они будили в прохожих заманчивые мечты о тепле, воспоминания детства.
– О, Джек, с тобой так приятно идти, – сказала Тина.
Я уже почти сутки не спал, но холод взбадривал меня. Говорить не хотелось, я шагал по заснеженному городу с женщиной, когда-то причинившей мне боль, а теперь ее жизнь стала сплошной болью, ну и пусть, я ни о чем не жалел, важно было только то, что происходит сейчас, я чувствовал, как во мне бушует радость, я был счастлив оттого, что живу, что вновь настало мое время, да, точно, я опять иду по улице с Тиной, я прижимаю ее к себе, а это значит, что я жил и все еще живу.
Мы дошли до Бикмен-плейс, небольшого квартала у реки, застроенного георгианскими виллами. Укрытые снежной пеленой островерхие крыши, обледенелые стволы деревьев, свинцовые переплеты окон в ореолах инея – казалось, я попал в какую-то северную сказку. Венки из остролиста на дверях были словно из хрусталя. Тина остановилась. Под капюшоном куртки ее покрасневшее от мороза лицо выглядело багровым.
Я привлек ее к себе. Ее прекрасные глаза, усталые, растерянные, смотрели на меня как будто из другого мира. Снег озарял ее своим сиянием. Какой бы она ни была – роковой женщиной, молчальницей, наркоманкой, пусть даже законченной психопаткой, – ни с кем я не взлетал так высоко в небо.
– Джек, – спросила она, – по-твоему, я еще красивая?
Я изо всех сил сжал ее в объятиях.
– Sei la piu bella, Tina. Nessuna a Roma e piu bella di te.
…
Меня разбудил телефон. Я взглянул на часы: десять утра. Я находился в гостиной маленькой квартирки, где жила Тина. Вокруг – ни звука. Я поднялся с кресла, в котором провел ночь, постучал в дверь спальни. Потом нажал на ручку и открыл дверь. В комнате никого не было.
Я прошел через гостиную в кухню, приготовил себе кофе. Бикмен-плейс по-прежнему застилал пушистый снежный ковер. Старая дама гуляла с собакой под заиндевевшими деревьями.
Усевшись перед дымящейся чашкой кофе, я начал восстанавливать в памяти события вчерашнего дня. Странную обстановку в мастерской Уорхола. Прогулку по тихому, занесенному снегом кварталу. Потом – загадочное поведение Тины, когда мы с ней вошли в ее квартиру. Налив два стакана виски, она усадила меня в кресло, стоявшее в гостиной.
– Подожди меня, – сказала она, – мне нужно взять кое-что из спальни.
И исчезла. Прошло пять минут. Она не возвращалась. Я заглянул в спальню: она лежала на кровати одетая и крепко спала, размеренно дыша, приоткрыв рот. Она даже не погасила лампу на тумбочке. Просто свалилась и заснула, как будто весь остальной мир не имел для нее никакого значения.
Я выключил лампу, выпил оба стакана виски и, полумертвый от усталости, прикорнул в кресле.
Гостиная носила на себе отпечаток стиля, когда-то так любимого в определенных кругах старого Нью-Йорка: лепной потолок, затейливо украшенный камин, английские окна. Такая девушка, как Тина, по своей воле ни за что не поселилась бы в подобном месте. Это становилось ясно с первого взгляда. Вокруг белого пластикового стола были расставлены круглые, похожие на пузыри, табуретки. По сравнению с ними белое кожаное кресло, в котором я спал, казалось каким-то мастодонтом. Два стальных хромированных торшера свесили вниз абажуры-колокольчики. По белому ковру, в нескольких местах прожженному сигаретами, были разбросаны подушки с геометрическим орнаментом. Другой мебели в комнате не было, только стереопроигрыватель и телевизор овальной формы на прозрачной пластиковой ноге. На ковре валялись журналы Vogue, стояли подсвечники с розовыми и лиловыми свечками. Чувствовалось, что эта комната целый сезон была забавой для посетителей, а потом они перестали ее замечать. На стенах были прикреплены кнопками две одинаковые афиши:
COME BLOW YOUR MIND
The Silver Dream Factory Inevitable
With
Andie Warhol
The Velvet Underground
And
Nico
The Dom, April 1966, 19–27 [26]26
ПРИХОДИТЕ ОСВЕЖИТЬ МОЗГИ
Фабрика "Серебряный сон". Мимо не пройдешь.
С участием Энди Уорхола,
группы "Бархатный андеграунд" и
Нико
"Купол", 19–27 апреля 1966 года (англ.).
[Закрыть]
Со стороны входной двери послышался шум. Кто-то поворачивал ключ в замке. Я встал. Хлопнула дверь, и через секунду в комнату вошла Тина. В руках у нее был бумажный пакет.
– Где ты была?
– Ты спал, Джек, и я вышла за сэндвичами и булочками.
Тина поставила пакет на низкий столик. Она переоделась. Сейчас она была в синем пальто, свитере с высоким воротом, расклешенных брюках. Передо мной было лицо, которое я впервые увидел в Риме, только немного осунувшееся, побледневшее, смятенное, как будто ее красота страдала от ужасающей душевной бури. В тусклом зимнем свете было видно, что ее затягивает тьма. И все же эта кошачья грация, груди, круглившиеся под мягким свитером, этот чувственный рот по-прежнему так же неодолимо будили во мне желание.
Я подошел к ней и взял ее за плечи.
– Нет, только не это!
Она отвернула голову, чтобы не дать мне губы.
– Только не это! – повторила она. – Не с тобой.
– Почему?
– Нет, Джек! Слишком много зла ты мне причинил.
Меня как будто ударили кулаком в лицо.
– О чем ты?
– Тебе не понять, Джек. Ты пробудил во мне все это… Я не хочу начинать снова…
Я почувствовал, как мои пальцы впиваются ей в плечи. Но она не шелохнулась.
– Что значит «все это»? – с нажимом спросил я.
– Демонов.
Она не опустила глаз.
– Каких демонов?
– Что-то внутри меня. Оно свело меня с ума, Джек. Если ты меня хоть немного любишь, останься со мной, и не будем больше заниматься этим. Теперь все по-другому.
– Тина, ты сама была демоном!
У нее задрожала нижняя губа.
– Нет, – выкрикнула она, – это была не я!
Она рывком высвободилась, упала в большое кресло. Судорожным движением вытащила из кармана брюк пачку «Мальборо», закурила. Руки у нее тряслись.
– Сядь, Джек. Сядь, пожалуйста.
Я подтащил к себе круглый пластиковый табурет. Тина опустила голову, потом подняла. В глазах у нее стояли слезы.
– Не надо на меня сердиться, – сказала она. – Они меня лечат торазином. Кормят барбитуратами, транквилизаторами. Вся эта дрянь, которой меня пичкают доктора, нагоняет такую тоску…
Тина пододвинула к себе пепельницу, стоявшую на ковре. Рука у нее все еще дрожала.
– Знаю, о чем ты думаешь, Джек. Я стала говорить больше, чем тогда, верно? Это от «колес». Они развязывают язык, прогоняют сон, хочется все время что-то делать. Даже когда я перестаю их принимать, они продолжают на меня действовать. Я слишком много говорю. Я насквозь вижу тех, с кем имею дело.
Каждое из ее слов ранило меня как нож. Я чувствовал, что Тине хочется поговорить. А мне надлежало молчать.
– Они называют меня наркоманкой, – продолжала она. – Они не знают, каково это: искать дозу, чтобы на несколько часов убить своих демонов, и потом расплачиваться, как расплачиваюсь я… Я давно уже пыталась получать удовольствие там, где его можно получить, потому что мои родители всегда мне отказывали в этом… Я решила сниматься в кино, чтобы мать знала: я живой человек и могу зарабатывать деньги моим красивым телом, которое она хотела продать первому встречному идиоту из Бостона… Кино она презирала, но все же признавала его важность: еще бы, ведь за ним стоят такие деньги! Актеры, Джек, – лучшие люди в Америке, их любят, они приносят радость, а для мира моих родителей это непереносимо… Когда я была маленькая и что-то делала не так, мать говорила: «You are evil». Нельзя из-за разбитой чашки говорить ребенку: «Ты – зло». Нельзя так говорить…
Тина закурила еще одну сигарету. Хотя волосы у нее теперь стали короче, она по-прежнему взмахивала рукой, чтобы отбросить непослушную прядь, падающую на лицо. Она глубоко затянулась.
– Ты-то сможешь меня понять. Я хотела уйти из детства: очень уж мне в нем было невесело. Я была девочкой, которая всегда молчит, я боялась слов, боялась сказать глупость. Все хотели, чтобы я сидела молча, и я молчала. Я возненавидела родителей за то, что мне было с ними так плохо, я принимала разную дрянь, чтобы от них сбежать, но всякий раз они тут как тут, затаились там, в могиле, и снова наказывают меня. Они прячутся в «колесах», они поджидают меня за дверью, понимаешь? Но им меня не достать, Джек. Я ушла слишком далеко. Теперь они меня пальцем не тронут. Я принимаю все, что мне дают доктора, хочу, чтобы эта жизнь прекратилась. Знаешь, как меня обозвали в позавчерашней газете?
– Нет, – ответил я, хотя было ясно: Тине не нужен мой ответ.
– «Танцующая игрушка». A dancing toy. Мужчины всегда западали на меня, я ничего не могу с этим поделать. Им хочется меня трахнуть, и если это может доставить им удовольствие, а меня избавить от сердечных страданий, то почему бы и нет? Я долго так думала. От «снежка» становишься как слепая. Плохо понимаешь, кто с тобой в постели сегодня. Не можешь спать, а рядом все время чьи-то тела. Тебе хотелось бы разглядеть среди них одно-единственное, но уже не получается. Я знаю все это наизусть, Джек. Сотворение куклы… Хочешь, покажу кое-что? Иди сюда.
Она погасила сигарету, встала и направилась в спальню. Я пошел за ней.
Тина открыла стенной шкаф. Там полно было вязаных кофточек из серебряной пряжи, лифчиков в виде узкой ленты, мини-платьев из махровой ткани, цветных колготок. И на всем этом – этикетки: Fourbi, Kenneth Jay Lane, Lord&Taylor. А еще на полках валялись накладные ресницы, пластиковые сережки, жакеты из блестящего джерси и куча париков.
– Видишь? – сказала она, и в ее голосе прозвучали нотки враждебности. – Я отлично умею этим пользоваться. Если я немного с приветом (она сказала это по-английски: sidetracked), это не значит, что я не умею притворяться куклой. Надеваю серебристо-белокурый парик, сапоги из блестящей кожи – и они в восторге. В данный момент им нравятся худенькие, как эти певички-негритянки, ну, знаешь, всякие там Мэри Уэллс, Флоренс Баллард.
Я слушал Тину. Слушал ее с жадностью – и сердце у меня сжималось. Ей было только двадцать пять, а она перебирала эти фетиши так, словно примеряла саван.
– Ты должна все это выбросить, – сказал я. – У тебя этого чересчур много.
Тина пожала плечами.
– Ну то, что ты видишь, – это остатки. Мои приятели взяли что могли.
– Какие приятели?
– Амфетаминщики. Они таскают у меня вещи и продают, чтобы купить таблетки. А мне плевать.
Она закрыла шкаф и вышла из спальни. А я даже не попытался удержать ее. Когда я смотрел на молодую женщину, роющуюся в ворохе ненужных ей нарядов, у меня вдруг возникло одно воспоминание и заслонило ее от меня. Я снова увидел Тину, идущую мимо суперсовременных домов в богатом римском квартале Париоли. В тот день мне пришло в голову, что теперь она пользуется иными ориентирами, чем я, что мы с ней по-разному воспринимаем перспективу. Это странное ощущение: когда человек на твоих глазах перемещается в другое пространство. Живая, теплая Тина, которую я видел в кадре у Брагальи, уже тогда начала превращаться в застывшую полароидную икону. Может быть, в той, прежней Тине я искал именно это: неприметную трещину, которая с годами будет все расширяться, едва проявившуюся болезнь души? Неужели я хотел этого – чтобы пустая личина завладела мной, поработила меня, исковеркала?.. Воспринимает ли она меня как мужчину или я тоже превратился в силуэт, вырезанный из фольги, в сцепление молекул, танцующее перед ней среди серебристого тумана?
Тина снова села в кресло. И опять закурила.
– Знаешь, – продолжала она, следуя какой-то своей, непостижимой логике, – эти типы, которые крутятся возле Энди, почти все педики. У них там есть скамьи для порки, собачьи ошейники, всякие ортопедические штучки. Им хочется, чтобы все трахались, как принято у них, в любой момент, любыми способами, как делают они, когда Энди их снимает. На «Фабрике» есть один парень, Чак Уэйн, он говорит, что так делали римляне, Нерон, Калигула…
– Тебе лучше знать, Тина. Ты ведь жила в Риме, разве нет?
Казалось, она меня не слышит.
– Супружество, верность, беременность, – продолжала она, – для людей с Фабрики всего этого не существует. В общем-то я их понимаю. Они не хотят иметь детей, а я не могу их иметь. Чак говорит, что сейчас появляется все больше и больше людей, которые живут так, словно им и не положено заводить детей, словно они – последнее поколение, которому суждено похоронить все предыдущие перед тем, как откроется Рай… Знаю, тебе все это кажется странным. Не надо было мне столько говорить, я сейчас не принимаю «колеса», но я не могу с собой справиться, я так довольна, что опять тебя вижу… Я была влюблена всего два-три раза – на самом деле я была влюблена в тебя, Джек, но мне от этого слишком больно… В прошлом году я тоже была довольна, я провела месяц в Лондоне, там был один гитарист, такой элегантный, такой знаменитый. Он увозил меня за город, где большие деревья и лужайки, он настоящий английский помещик. У него в коробочке было полно таблеток, он пел мне блюзы… Странное дело, он может поиметь всех девушек, каких захочет, всех-всех, это правда, но если он заплачет, то только над воспоминаниями детства. Тебе не холодно?
– Нет.
В квартире было очень тепло, даже жарко.
– А я немножко мерзну. Знаешь, что еще говорит Чак Уэйн?
– Нет.
Она показала на телевизор.
– Он говорит, что Уолтер Кронкайт через телевидение посылает телепатические сообщения.
– Кронкайт? Телеведущий?
– Да. Когда он рассказывает все эти новости – про Вьетнам, про речь Хамфри, про переговоры с русскими, – его контролируют инопланетяне. Так говорит Чак. Ты сидишь перед телевизором, смотришь на экран, и на тебя воздействуют волны: Кронкайт работает как ретранслятор. Вот почему он всегда такой чопорный, застывший, вроде робота.
– А что он ретранслирует?
– Послания марсиан. От него исходит излучение, которое накрывает всю страну. Вот почему у нас происходят беспорядки в негритянских гетто, забастовки в университетских кампусах, конфликты между поколениями. Их цель – уничтожить Америку, а Кронкайта они используют в качестве антенны.
– И ты в это веришь?
– Нет. Но Кронкайт и правда странный. Наверно, на нем проводят какой-то опыт.
Я с трудом сохранял выдержку. Какие приключения надо было пережить за эти годы, чтобы теперь, встретившись со мной, нести весь этот бред? Но тут у нее на лице вдруг появилось грустно-нежное выражение, которого я никогда не видел раньше.
– Надеюсь, хоть ты от меня не отвернешься. Знаю, я невыносима… Но я надеюсь, ты останешься у меня, мы не станем будить демонов, но я бы хотела, чтобы ты побыл со мной… Удивительная вещь: когда я думаю о тебе, ты встречаешься мне не в воспоминаниях о Риме, а в воспоминаниях детства. Пусть тебя там не было, но я словно бы пережила вместе с тобой самое лучшее, что было у меня в детские годы…
– И что же это было – самое лучшее в твоем детстве?
– Музыка.
– Музыка?
– Да, музыка по вечерам. Отец слушал концерты по радио. Он почти полностью тушил свет и включал приемник – такую большую, занятную штуковину, с круглыми белыми ручками, красными лампочками, названиями станций. Я думала, что там, внутри, живут домовые. Оттуда слышался голос, он объявлял программу концерта, называл волшебные имена, имена тех, кто посылал нам эту музыку, я как сейчас их слышу: Юджин Ормонди, Пьер Монте… И еще композиторы: Сибелиус, Чайковский, Равель… «А сейчас послушайте Третью симфонию Брамса в исполнении оркестра под управлением Леопольда Стоковского». Я не знала, откуда берется этот голос, и думала, что папин радиоприемник – громкоговоритель, через который к нам обращаются мертвые. И начиналась музыка, звуки скрипок наплывали как волны, от музыки в темноте становилось тепло, словно от большого, красного, пушистого зверя… Большой зверь спит в лесной чаще, и хочется прижаться к его теплому, пушистому меху, свернуться калачиком и спрятаться. Вот что мне казалось, когда я слушала музыку и закрывала глаза…
Ее голос звучал мягко, отстраненно. Она ушла в свои грезы.
– Что ты видела, когда закрывала глаза?
– Ничего. Я не знала, почему живу именно в этом доме. В моем квартале дома были как огромные, многоэтажные замки, и я воображала себе, как там, внутри этих стен, живут люди: наверное, жизнь у них интересная, захватывающая, более счастливая, чем моя. Я думала, что у домов есть подвалы, что целые семьи ютятся под землей… Я не могла себе представить, что когда-нибудь уйду из этого мирка, из этой комнаты, от красного покрывала на кровати, от ящика с игрушками… Комнату для детей обставляют родители, а ты растешь там, и никакой другой обстановки словно и быть не может. Тебе кажется, что ты часть этой комнаты, что ты останешься здесь навсегда, хотя на самом деле это просто четыре стены, оклеенные обоями, а посредине – кровать. По сути – клетка. Но это твоя клетка, здесь ты засыпаешь, ныряешь с головой под одеяло, и тебе тепло, и ты думаешь, что сейчас появятся домовые, ты ждешь их.
– И они приходят?
– Нет. Ты идешь в школу, вас рассаживают по местам – тебя и других девочек. Они пока не понимают, зачем их здесь собрали, но стараются быть паиньками. Мамы приводят их по утрам, потом забирают, беседуют между собой, и девочки думают, будто их мамы – взрослые, хотя нет ничего хуже тридцатилетних женщин: они такие сумасбродки… Но тебе кажется, будто другие девочки – просто идеал, и мамы у них идеальные, и непонятно, почему же твоя мама такая. А спустя немного времени, когда ты разговоришься с ними, до тебя доходит, что девочки, которыми ты восхищалась, самые красивые, самые ухоженные, аккуратнее всех причесанные, и бант завязан как надо, – что этим девочкам так же скверно, как тебе, а то и хуже. Но они стискивают зубы и делают все, что им велено, – неизвестно, почему так происходит. Но это может длиться годами. Это может длиться всю жизнь. Думаю, что…
Зазвонил телефон. Тина встала и пошла в спальню. Я слышал, как она произнесла несколько слов и тут же повесила трубку.
– Звонила Кейт, – сказала она, вернувшись в гостиную. – Я знаю, что это она вызвала тебя в Нью-Йорк. Вчера ты пришел с ней.
– Это не имеет значения, – ответил я.
– Нет-нет, Джек, меня все считают сумасшедшей, но я прекрасно понимаю, как много делает для меня Кейт. Она живет за нас двоих, Джек, она стремится реализовать лучшее из того, что заложено во мне. Моя жизнь – это она, а я…
– А ты?
– А я не умела быть благодарной. И никогда не сумею.








