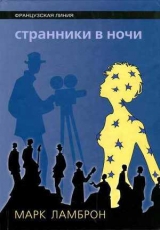
Текст книги "Странники в ночи"
Автор книги: Марк Ламброн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
Кейт Маколифф (вставка 2, 1990 год)
Чтобы преодолеть замкнутость в себе, было лишь два пути: служение людям или саморазрушение. Тина выбрала солнце Италии, но в итоге оказалась на кокаиновых берегах. Ничто не предвещало такого поворота судьбы. Когда ей было десять лет, а мне тринадцать, именно ее все осыпали комплиментами. Прелестная девочка с бантиками, детский полдник, сервированный на французском фарфоре. Позднее, на вечерах с танцами у знакомых в Верхнем Ист-Сайде или на Кейп-Код нахальные угловатые молодые люди приглашали именно ее: она была идеальной героиней романтической комедии. Мне надо было проявлять снисходительность – как-никак я была старшая. Но я мучительно завидовала. Стыдно вспомнить. В этой зависти было что-то слащавое: типичный нарциссизм маленькой идиотки, не желающей замечать реальной жизни. И все-таки лучше бы я осталась завистливой. Тогда моя жизнь пошла бы предначертанным путем. Муж, который может точно назвать сегодняшний курс Доу-Джонса, няня, гуляющая с детьми, подруги с их участливо-ядовитыми расспросами.
Тина отвергла правила благопристойности. В Риме она демонстрировала себя на обложках журналов. В Нью-Йорке, в 1963 году, она стала «девушкой месяца» в «Плейбое». И опять я позавидовала, но на сей раз ее свободе. Я знала, с какой легкостью Тина меняет мужчин, я представляла себе сестру в их объятиях. Добрый доктор Грюнберг помог мне кое-что понять. Пуритане, с одной стороны, почитают целомудренное женское тело, а с другой – лихорадочно мечтают о его поругании. Пасторы и доллары, баптистские молельни и порнография в маленьких кинотеатрах на Сорок второй улице: в основе всего этого – почти религиозная одержимость чужой сексуальной свободой. В те дни моя зависть превратилась в горестное ощущение потери. В эпоху Тома Мэллоя и Грега Чандлера, когда Тина уже сидела на таблетках, я больше ни над чем не смеялась и ничему не завидовала. Попав в окружение Уорхола, она перепробовала все виды наркотического зелья. И было совсем не весело смотреть, какой она стала – нанюхавшаяся, обколовшаяся, наглотавшаяся амфетаминов. Мне не нравилось, что тело моей младшей сестренки, когда-то сидевшей вместе со мной в ванне, превратилось в батарейку, которая постоянно нуждается в кокаиновой подзарядке.
В шестьдесят шестом году дело приняло страшный оборот. В кадрах фильма, снятого Уорхолом, она появляется в сияющем белоснежном ореоле, в блеске первозданной красоты, словно расцветшая лилия. Будто сама природа сотворила лицо двадцатишестилетней Тины на радость целлулоидной пленке: такие лица были у звезд немого кино. Один критик заметил, что в этом фильме у Тины неестественно расширены зрачки. Возможно, в день съемки я приходила к ней на «Фабрику»: в то время я еще пыталась вытащить ее из этого омута, воздействовать на нее – одним словом, сыграть роль матери. Тину часто называют жертвой Уорхола. Но, на мой взгляд, у него не было такой власти над моей сестрой, чтобы погубить ее. Просто в Нью-Йорке Тина нашла для себя зеркало, и это зеркало звалось Энди Уорхол. К тому же в тот период, когда Дрелла снимал «Жемчужную королеву № 2», у него были другие заботы. Он только что удалил от двора свою главную фаворитку, Эди Седжвик, которая подозрительно сблизилась с окружением Боба Дилана. Он готовился снимать следующий фильм, «Девушки из Челси», где Тина уже не участвовала. Она никогда не была рабыней Уорхола. Она использовала его в той же мере, в какой он использовал ее.
Иногда я просматриваю «Жемчужную королеву № 2» на видео. Главным образом тот эпизод, где она сидит прямо перед камерой. Она почти не шевелится, точно зашла в кабину фотоавтомата и замерла в ожидании вспышки. Можно подумать, она смотрится в прозрачное зеркало, а за зеркалом ее всегда жду я. На пленке мелькают черные и белые хлопья, проступают серые штрихи. Кажется, что она состоит из мельчайших точек, освещение – допотопное, как в мрачных фильмах Дрейера. Лицо Тины окружает белое сияние, вроде нимба на изображении святой. Сейчас она исчезнет – или возродится. Все построено на контрасте, как узор, в который складываются чернильные пятна на бумаге, или контуры рисунка, которые обозначаются после обработки кислотой. Такое впечатление, что передо мной первая в мире фотография, рождение Венеры, заснятое Надаром. На звуковой дорожке – приглушенный шум города, убаюканного зимой. Тина слегка поворачивает голову, и тень на ее шее чуть заметно перемещается. Она – белая королева этого неподвижного мира, безмолвного, бесцветного, бесстрастного. Под сияющей поверхностью – голый остов, призывающий Ничто. The Skull [33]33
Череп (англ.).
[Закрыть]. Стоит лицу чуть дрогнуть, ореол колышется, кажется, будто это снято на спиритическом сеансе и камера пытается поймать в объектив ускользающий призрак. Была ли Тина этим призраком? Вот она опять застыла, как статуя. Если я протяну руку к экрану, то коснусь лишь поверхности. Тина слабо улыбается. Она тает в незапятнанной белизне. Исчезает из нашего мира.
Нью-Йорк, февраль 1966 года.
Однажды вечером, осенью 1966 года, Тина приняла какой-то коктейль из наркотиков и потеряла сознание. «Скорая помощь» отвезла ее в одну из больниц Вест-Сайда. Я поехала с ней. Врач в приемном покое попросил разрешения обыскать ее сумку. Мы вынули оттуда несколько шприцев, ватные тампоны, флакончики со спиртом, таблетки бензедрина. Под косметикой, блокнотом и чековой книжкой лежала черно-белая фотография. Одна из площадей Рима – названия я не знаю. Лицо человека, стоявшего рядом с Тиной, было мне знакомо. Она глядела на него улыбаясь, как довольная маленькая девочка. Стыд поднялся во мне горячей волной. Шесть лет назад я изгнала Тину с этой фотографии. То, что произошло тогда между нами, стало решающим событием нашей молодости.
Несколькими днями позже я упомянула при ней имя того французского журналиста. В ее глазах появилось что-то похожее на светлую печаль.
– Жак… Жака я любила, – сказала она.
Никогда раньше Тина не произносила этого слова в разговоре со мной. И ни с кем другим тоже. Мне хорошо известны гадкие слухи о моей сестре. Тина всегда молчит. Она ничем не интересуется. С ней страшно. Она слишком любит красивых парней. Она большой ребенок. Никогда не знаешь, чего от нее ждать. Она сама себя боится. Непонятно, откуда она такая взялась. Она упорно ищет что-то такое, чего нет на свете. Она всегда одна. На нее смотрят как на бездушную вещь, но она не бездушная. Никто не любит Тину, и сама она никого не любит.
Но она носила с собой эту фотографию.
Когда я позвонила Жаку в Париж, у меня было тяжело на сердце – я видела, что сестра скатывается все ниже и ниже. И я ухватилась за эту безумную мысль – вернуть ей французского журналиста. Я не знала, как он живет, что делает после отъезда из Италии. Но его возвращение было одной из последних карт, которыми я могла сыграть за Тину. И вдобавок это смягчило бы угрызения совести, терзавшие меня все последние годы после моего позорного поведения в Риме. Подумать только – я разъезжала по городу с частным детективом, нанятым моей матерью…
Жак прибыл в Нью-Йорк через неделю после нашего разговора. Когда он появился у меня на пороге, я сделала все, чтобы он не заметил моего раскаяния. Казалось, он удивился, увидев меня, даже сказал что-то насчет «преображения». Что он мог понять? Однако я сразу почувствовала, что его страсть к Тине не угасла. Прошло шесть лет, но вот он здесь, в моей квартире, увешанной плакатами, – тридцатипятилетний мужчина, не расставшийся со своей давней мечтой. Сейчас я увидела в нем то, чего не сумела разглядеть в 1960 году. Мне показалось, что он созрел, определился. Лицо стало другим, голос звучал иначе. Дело в том, что за эти годы изменилась я сама. В 1960 году я смотрела на людей как на что-то раз и навсегда сложившееся. В 1966 году мне казалось, что они в постоянном движении. Французский журналист был не лишен обаяния. Кто видел его на фотографиях, знает, что он был чем-то похож на летчика, волевого, но не бесчувственного. Моя сестра когда-то любила этого человека. И, возможно, продолжала по-своему любить его и сейчас. Я знала, что вскоре уеду из Нью-Йорка. Мои отношения с Дуайтом Тейлором были на исходе. Он заканчивал курс антропологии: возможно, я была для него основным подопытным экземпляром. В то время многие пары, возникшие в ходе идейных сражений 1963–1964 годов, распались, не выдержав испытания реальностью, желанием, ночной стороной жизни. Стали широко применяться противозачаточные таблетки. Обстановка в стране становилась все драматичнее. В октябре в Окленде была основана организация «Черные пантеры», а в Вашингтоне – движение феминисток. Несколькими неделями позже Тимоти Лири и Аллен Гинзберг устроили первый митинг-концерт в Сан-Франциско, в парке «Золотые ворота». Во Вьетнаме было уже 385 тысяч американских солдат. Пока моя сестра бродила в подземных покоях владыки Уорхола, над Нью-Йорком задул свежий ветер. И я вдохнула его полной грудью.
Я пишу об этом для того, чтобы поточнее восстановить ход событий. Что волновало меня в январе 1967 года? Трагическое положение Тины, разрыв с Дуайтом Тейлором, напряженная обстановка в «Нью-Йорк таймc» в связи с вьетнамской войной, отказ от борьбы некоторых моих друзей-активистов, пустившихся в волшебные путешествия с ЛСД. Все накалилось до предела. Мне было двадцать восемь. Зачастую именно в этом возрасте в душе человека в последний раз вспыхивает жажда насилия. Сегодня для меня очевидно, какова была цель моей жизни – силой разума победить нескончаемую ложь, к которой свелось существование моей матери. Наверно, я и писать начала главным образом для того, чтобы обуздать в себе ее безумие. Но в определенный момент мне вдруг захотелось дать ему волю, чтобы оно пронизало меня, взорвалось во мне, я захотела быть дочерью любви и войны. А может быть, я и не хотела этого – просто так получилось.
В январе 1967 года я попросила отправить меня специальным корреспондентом во Вьетнам. До сих пор удивляюсь тому, с какой готовностью редакция откликнулась на мою просьбу. «Думаю, у них были минимум три мотива для положительного ответа, – сказал мне однажды старый реакционер Норман Подгорец. – Во-первых, возможность хоть ненадолго сплавить вас из Нью-Йорка. Во-вторых, вы женщина, а им хотелось послать на фронтовую полосу маркитантку со своей собственной – это крайне важно! – со своей собственной точкой зрения. В-третьих, посылая вас, они уязвляли „новых левых“ в чувствительное место: это доставляло им садистскую радость. Но если говорят, что есть три мотива, это всегда означает, что имеется и четвертый, не менее важный, чем остальные: вы держались как аристократка, а перед этим люди из „Нью-Йорк таймс“ никогда не могли устоять».
…
То, чего я боялся, случилось 25 января. Вечером я пришел к Тине на Бикмен-плейс. Она открыла мне дверь, густо накрашенная, с блестящими глазами. Телевизор работал при выключенном звуке. Зато проигрыватель просто надрывался. Тина, страшно возбужденная, танцевала, вертясь на месте. На ней было платье, увешанное золотыми монетками.
– О, Джек, – сказала она, бросаясь на кухню, – сейчас я налью тебе виски. Мы можем пойти потанцевать в «Купол»… А еще я хочу заскочить к Энди, говорят, он снял новые фильмы… Положить тебе льда? Немножко или побольше?
Я заглянул в кухню. Она лихорадочными движениями наполняла стаканы, но часть виски пролилась мимо, на пол. Тина пыталась сладить с формочкой для льда, которую только что вытащила из холодильника. Наконец, устав от борьбы, швырнула формочку в мойку и протянула мне полный стакан. Рука у нее дрожала. В гостиной гремела музыка.
Вернувшись в гостиную, она со стаканом в руке остановилась перед телевизором. Было время вечерних новостей.
– Посмотри, Джек, – сказала она таким голосом, словно перед ней возникло видение. – Видишь у Крон-кайта этот ореол вокруг головы? Ну такую светящуюся штуку? Чак прав: мы не понимаем, о чем рассказывает этот тип, но он посылает волны нам в мозг.
Она смотрела на экран, покачивая бедрами в такт музыке. Дело было ясное: она опять взялась за свое.
– Перестань, Тина!
Она не ответила.
Я снял иглу с пластинки. Музыка смолкла.
– Эй, Джек, включи музыку! – потребовала она. – Поставь ту песню еще разок. Давай!
– Нет.
Тина бросилась к телевизору и повернула ручку громкости до отказа. Квартира наполнилась голосом Уолтера Кронкайта. Но Тина продолжала танцевать, словно завороженная этим голосом.
– Тина, прекрати!
Она повернулась ко мне с умильной, зазывной улыбкой.
– Эй, Джек, это не смешно…
– Опять нажралась своих дерьмовых таблеток! – кричал я.
– Нет, Джек.
В глазах у нее горел безумный лживый огонек.
Я подошел к ней, хотел схватить за рукав. Она увернулась, отскочив в сторону, я снова шагнул к ней – и тут она истерично заорала:
– Не трогай меня, Джек! Не трогай! Даже ты не знаешь, кто я на самом деле… Даже ты никогда не смотрел на меня по-настоящему. Ты такой же, как все, тебе бы только трахаться со мной и валяться на мне… Они не понимают, что меня нельзя трогать. Пусть меня никто никогда не трогает!
Она смотрела на меня, как будто я был чудовищем. Убийцей. Я не мог знать, что творится у нее в голове, но я видел блуждающий взгляд, дрожащие губы; в этой комнате опять поселилась болезнь. Мир сверкал и переливался. Тысячи крохотных листков бумаги вылетали из телевизора, как во время парада на Бродвее, они порхали, отбрасывая металлические отблески, падали на кресла, стол, диван, подхватывали их и увлекали за собой в воздушной пляске, серебристые молекулы, радужные чешуйки, засасываемые сквозняком, закручивающиеся столбиком, как снежные хлопья, голос Крон-кайта управлял ими, его голова испускала ослепительные лучи, проникавшие в мозги телезрителей, маскировочные конфетти искрились в свете прожекторов, пляска стальных лун и алюминиевых комет становилась все неистовее, сияющие клинки ракетами взмывали вверх и сливались воедино, серебряные ручьи стекали по стенам с потолка – и возвращались в вены Тины.
Это было не просто инстинктивное движение. Я вдруг закатил ей звонкую пощечину. Она зашаталась и упала на диван. Она даже не вскрикнула, но я видел ненависть в ее глазах. Потом она согнулась пополам и обхватила голову руками.
Я выключил звук телевизора и подошел к ней. Она неподвижно сидела на диване.
– Тина!
Она не ответила. Я осторожно провел рукой по ее волосам. Она подняла голову: в глазах стояли слезы.
– Сядь, Джек. Сядь рядом со мной.
Я опустился на диван. Она сразу положила мне голову на плечо. Я притянул ее к себе.
– Не надо на меня сердиться, – произнесла она. – Сегодня ночью опять приходил тот человек.
Я почувствовал, что она дрожит.
– Какой человек?
– Не знаю. Его лицо как в тумане. Это бывает ночью, в спальне. На кровати разложены какие-то вещи… Он подходит к кровати, на которой лежу я. Я не могу разглядеть его лицо, но я его не боюсь. Он садится на кровать, я чувствую к нему доверие… Он ласково заговаривает со мной. Тихо перебирает мои волосы, это так приятно… Его рука гладит мне шею, потом опускается ниже, на спину, и я вздрагиваю от удовольствия…
Она говорила медленно, заторможенно, словно во сне.
– Тина, кто этот человек?
– Не знаю. Я в ночной рубашке, и так странно чувствовать на себе эту большую руку. Он говорит: не бойся. Теперь его рука у меня спереди, трогает ноги выше колен, меня еще никогда там не трогали, я чувствую горячее прикосновение и не понимаю, зачем он это делает…
Голос Тины звучал тихо, сдавленно. У него переменился тембр: теперь это был тоненький, почти детский голосок.
– Ты не видишь его лица?
– Нет, я не вижу его лица, но я его знаю… Он говорит: не бойся, целует мои волосы, плечи… Он задирает мне ночную рубашку – не понимаю почему, он же не доктор. А сейчас… Зачем он повернулся ко мне лицом?
Кажется, он хочет меня задушить… Но я… я не хочу… я не хочу этого! Я не…
Тина закричала. Она рывком высвободилась и посмотрела на меня страшным взглядом.
– Я вижу его лицо, Джек, вижу… О нет…
– Что ты видишь, Тина?
Она уставилась на меня безумными глазами.
– Это ты, Джек. Ты!
Прошла неделя, и я сдался. Я не спорил, когда она заявляла, что у одного из преследующих ее призраков мое лицо – это был симптом болезни. Я даже мог бы полюбить эту болезнь. Но на моих глазах разрушалась сама личность Тины. Бредовые тирады, бесконечная смена нарядов, приступы идиотского смеха, телефонные звонки в любое время дня и ночи, наркотическая эйфория, словно отрывавшая ее от земли, дикие вопли – все это вымотало меня до предела. Чтобы приспособиться к ней, надо было тоже принимать таблетки, тоже резвиться на краю пропасти. Ее приняла к себе большая семья, в серебристых одеждах, со своими ритуалами, своими гаденькими секретами, своими наглыми притязаниями, своей тихой тиранией. Тина как будто говорила на одном ей понятном языке, она держала меня на расстоянии, словно я был с другой планеты, принадлежал к другой расе, словно у меня были другие радости и печали. Она теперь испытывала влечение только к своему зелью – влечение гораздо более властное, чем то, которое когда-либо могла испытывать ко мне. Наркотик вытеснил меня из ее жизни, острым крюком впился в ее нутро, разлился по жилам, швырял ее из угла в угол, как тряпичную куклу. В ней притаилась серебристая змея, которая безраздельно владела ею, плевалась ядом из ее рта. Я ненавидел эту зверюгу. Она выедала Тину изнутри, и так должно было продолжаться до тех пор, пока от девушки не останется одна дрожащая оболочка, хаос разрозненных молекул. Я был зол на самого себя: я превратился в раба, раз за разом покорно принимавшего все, что наркотик творил с Тиной. Раньше я верил, что между двумя людьми, сколь бы они ни были разными, всегда есть точка соприкосновения, подобно тому как на границе между двумя государствами существует пункт перехода. Но теперь переход был закрыт.
Тина захотела снова пойти на «Фабрику». Я сказал, что не пойду с ней. Эта сцена повторялась несколько дней подряд. Тина вела против меня войну, и так или иначе она непременно бы победила. Я не хочу говорить о ней плохо. Я вообще больше не хочу говорить обо всем этом. Была в моей жизни зима, когда я попытался вернуть женщину из царства мертвых. Она еще жила, как жила Эвридика в кромешной тьме преисподней. Я знаю, бывает, что угасшая любовь разгорается с новой силой, а война после перемирия бушует еще страшнее. Этим заполнена наша жизнь: роковая случайность и разлука, нечаянная встреча и воля к счастью. Вы можете однажды увидеть женщину – и состариться рядом с ней. А можете в один прекрасный день полюбить ее, потом вдруг потерять, потом опять встретить и начать все сначала. Я никому не пожелаю такой любви, какая была у нас с Тиной. Все, что досталось на мою долю, – это грязь и мучения.
У меня в гостиничном номере зазвонил телефон. Кейт Маколифф хотела со мной увидеться. Она звонила, пока меня не было, и телефонистка записала время и место встречи: завтра, в баре на Шестьдесят шестой улице.
Я пришел вовремя. Бар оказался унылым и неуютным. Кейт уже сидела за столиком. Она одарила меня благодарной улыбкой, но чувствовалось, что она напряжена. На ней был какой-то бесформенный свитер.
– Рад вас видеть, Кейт, – сказал я.
– Я тоже рада, Жак. Вы что-то неважно выглядите. Хотите кофе?
– С удовольствием.
Подошел официант и принял заказ.
– Я позвала вас сюда, – нерешительно начала она, – потому, что… не подумайте, будто я пытаюсь контролировать Тину, но я…
– Тину никто не может контролировать, – перебил я.
Она слегка покачала головой.
– По-вашему, как она сейчас? – как-то вдруг спросила она.
– Странный вопрос. Вы и сами можете на него ответить.
Кейт подняла на меня усталые, печальные глаза.
– Я пытаюсь на него ответить уже двадцать лет.
– Вы так и не найдете ответа, Кейт.
– Знаю. Мне кажется, я уже осознала это.
Официант поставил на столик две чашки дымящегося кофе. Он с завистью пялился на Кейт.
– Сахар? – предложил я.
– Нет, спасибо. Мне надо вам кое-что сказать, Жак.
– Да?
– Кейт пристально взглянула на меня.
– Хочу поблагодарить вас за то, что вы остались в Нью-Йорке.
– Мне нужно было написать несколько статей.
Кейт слегка усмехнулась.
– Да, конечно. Но вы ведь понимаете, что я хочу сказать.
Я промолчал. Кофе был хорош, почти такой же крепкий, как итальянский эспрессо. На улице работало радио, слышалась музыка.
– Вообще-то я хотела поговорить о другом, – продолжала Кейт. – Скоро я уеду из Нью-Йорка.
– Куда же вы направляетесь?
– «Нью-Йорк таймc» посылает меня в командировку.
– Куда именно?
– Во Вьетнам.
Я чуть не поперхнулся.
– Вас?
Она строго посмотрела на меня. Я задел ее самолюбие.
– Да, меня. Вы, наверно, в курсе, что наша страна ведет войну? Быть в курсе – это ваша профессия, не так ли?
Это уже звучало как издевательство. Я был потрясен. Кейт Маколифф покидает Пятую авеню, чтобы отправиться в Тан Сон Нхут!
– В каком городе вы будете работать?
– Поначалу в Сайгоне. Потом будет видно.
– Но ведь там…
– Опасно, да? Знаете, Жак, это мое дело.
– И надолго вы туда?
– Срок не определен. Надеюсь, что смогу быть там полезной.
– Потому что здесь от вас никакой пользы?
Она сокрушенно развела руками.
– Честно говоря, я думаю, что большой пользы от меня здесь уже не будет. И вы знаете почему.
Я сидел молча. Над головой Кейт на стене висела фотография Кассиуса Клея в красной майке.
– Потому что она крадет у вас жизнь? Так? – взорвался я. – Скажите это вслух, Кейт, скажите хоть раз, вам от этого станет легче, да и мне тоже.
Кейт поднесла чашку ко рту – и снова поставила ее на блюдце.
– Никто не крадет ничью жизнь, – тихо произнесла она. – У каждого из нас есть выбор. Тина свободный человек, она имеет право выбирать. Вы должны понять, Жак: она так же свободна, как мы с вами. Прошло много времени, пока я заставила себя правильно отнестись к этому.
– Когда вы уезжаете?
Она ответила не сразу:
– Я должна отбыть через пять дней. Сначала полечу в Сан-Франциско: мой предшественник прибудет туда. А вы?
– Я?
– Да, вы. Что вы собираетесь делать дальше?
Она с тревогой ждала ответа.
– Не знаю. Правда, не знаю.
Через два дня мне позвонили из «Франс Пресс». Моя серия американских репортажей понравилась начальству, но теперь больше не было необходимости оставаться в Нью-Йорке. Я попросил найти для меня новые темы. Это вызвало недовольство. Я пригрозил, что возьму отпуск. Они призадумались и обещали через некоторое время позвонить снова.
Вечером того же дня у меня в номере снова зазвонил телефон. Это была Тина. Накануне она затащила меня в бар на Семнадцатой улице под названием «Макс Канзас-Сити», сияющую неоном кормушку для полуночников-наркоманов. В задней комнате шла бойкая торговля. Мне стало противно, и я ушел, оставив ее там одну.
Сейчас ее голос будто доносился издалека. На линии были помехи. Тина, явно успевшая принять дозу, рассказала, что сегодня утром села в маленький двухмоторный самолет к двум друзьям (каким друзьям?) и они совершили потрясающий перелет в один городок в штате Мэн (наверно, в воздухе наглотались таблеток), и что она останется там на два-три дня. И вдруг спросила:
– Ты знаешь, что Кейт улетает во Вьетнам?
В ее голосе звучала паника.
– Знаю, а что?
В трубке молчание. Потом она сказала:
– Ты ведь журналист, Джек. Ты должен поехать с ней.
– Поехать с ней?
– Сделай это, Джек. Сделай это ради меня. Если с ней что-то случится, я этого не вынесу.
В трубке эхо повторяло ее слова, и от этого голос звучал жалобно, тревожно.
– Тина, когда ты вернешься в Нью-Йорк?
Ответа не было. Я решил, что нас разъединили. Но потом опять услышал ее голос:
– Джек, поезжай туда. Я тебя никогда ни о чем не просила, а теперь прошу. Сделай это ради меня.
– А почему я должен это делать?
В трубке затрещало. Голос Тины был совсем далеко.
– Потому что… потому что ты любил меня, Джек. Вспомни об этом. Потому что ты любил меня…
Оглушительный треск. Нас разъединили. Или Тина повесила трубку.
На следующий день я пошел прогуляться в Центральный парк. Вдоль решетки Резервуара пробегали молодые люди, у них были подбриты затылки, как у солдат, которых теперь каждый день показывали по телевизору. Что я буду делать, когда вернусь в Париж? Кого увижу в зеркале? Везунчика, который четырнадцать лет назад не вполне заслуженно приобрел репутацию бывалого корреспондента «Франс Пресс» в Индокитае? Равнодушного эгоиста, который шесть лет назад сбил с толку молодую женщину, потерпевшую сейчас полный жизненный крах? Мне скоро должно было стукнуть тридцать шесть, и я оказался в тупике. Меня завели туда обстоятельства, во многом случайные, не зависящие от моей воли. Апрельской ночью 1960 года в саду римского палаццо я встретил белокурую красавицу. В январе 1967 года я метался между двумя сестрами, которые, каждая по-своему, играли с собственной жизнью. Мне было мучительно видеть, как медленно гибнет Тина. Если уж суждено бросить кости еще раз, пусть, по крайней мере, у случая будет ее лицо. На улочках нью-йоркского Чайна-тауна я снова ощутил запах супа и зеленого чая – запах первых месяцев моей журналистской карьеры. Он вызывал в моей памяти атмосферу войны. «Вы вернетесь в Сайгон», – сказала мне предсказательница из Шолона. Попалась ли на моем пути королева Сиан? Смотрел ли я в лицо Злому Плясуну? В то утро в Центральном парке моросил дождь.
Когда я вернулся в гостиницу, мне позвонили. Телефонистка «Франс Пресс» сказала, что сейчас со мной будет говорить Клод Руссель. «Скажите, дорогой друг, что я могу для вас сделать?» – были его первые слова. И я подумал: когда же он оставит свой иронический тон?
Три дня спустя я сел на самолет до Сан-Франциско. Документы для аккредитации мне должны были прислать туда. В сентябре 1960 года другой самолет оторвался от взлетной полосы римского аэропорта и взял курс на Америку. В начале февраля 1967 года я покинул Нью-Йорк, не повидав на прощание Тину.
Когда «боинг» поднялся в воздух, я машинально взглянул на часы. Было без нескольких минут восемь.
Ундина на «Фабрике», должно быть, уже танцевал.








