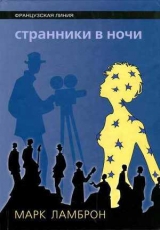
Текст книги "Странники в ночи"
Автор книги: Марк Ламброн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 19 страниц)
Кейт Маколифф (вставка 1, 1990 год)
Здесь мне хотелось бы добавить к рассказу Жака несколько страниц. По-моему, он ни в чем не погрешил против истины. Это написано французом, сумевшим преодолеть специфически французский взгляд на вещи. Могу подтвердить как свидетель: он не преувеличивает, говоря о своей любви к Тине, об испуге и растерянности, охвативших его по прибытии в Нью-Йорк в декабре 1966 года. Я видела Жака в тот день. Мы с ним беседовали. С нашей первой встречи минуло шесть лет, и на этот раз я была глубоко растрогана его добротой и отзывчивостью. Я позвала его – и вот он здесь. Увидев его снова, я осознала, насколько изменилась сама, ведь он едва узнал меня. Наши жизни – линии на песке. Бури стирают их и чертят заново.
Насильственная репатриация сестры в сентябре 1960 года – позор моей жизни. Жак был свидетелем и – в той же мере, что и Тина, – жертвой этого происшествия. В Риме я действовала как заведенный механизм: все было подготовлено, моя мать заручилась поддержкой американских и итальянских властей. Это было даже не похищение – просто несовершеннолетняя девушка, одуревшая от транквилизаторов, под присмотром полиции вместе с сестрой села в самолет. Я думала, что спасаю Тину от отчаяния, от безумия, от наркотиков. Когда я вспоминаю этот день, я стараюсь не смотреть в зеркало, а оно старается не смотреть на меня. Ничто не может меня оправдать, кроме, разве, того, что я попыталась придать моей жизни иное направление. После 1962 года все у меня пошло по-новому: завтрашний день должен был перечеркнуть вчерашний.
Здесь я хочу обозначить лишь некоторые этапы моего пути. Я вспомнила о них, читая заметки Жака. Они не проливают свет на тайну Тины, но, быть может, объясняют, как я все это пережила.
Когда Тина вернулась из Рима, наша мать заставила ее пройти курс детоксикации в одной филадельфийской клинике. Там сестру как будто избавили от кокаиновой зависимости. Несколько месяцев она провела в Нью-Йорке, возвращаясь, как мы думали, к нормальной жизни. Она сорила родительскими деньгами, покупала платья на Седьмой авеню, нанимала лимузины, посещала дорогие рестораны. Только это и нужно было моей матери: она мечтала, чтобы Тина подцепила какого-нибудь любителя игры в поло, владельца офиса на Уоллстрит, где на стенах висят портреты основателей династии. К тому времени с кино и модными дефиле у Тины было покончено. Впрочем, все это осталось, но в ином качестве. Дело в том, что она вскоре попала в компанию молодых клубменов с выбритыми до синевы подбородками, уже начинавших сожалеть о славных временах Эйзенхауэра. Среди ее друзей были самые беспокойные представители нью-йоркской буржуазии – круг молодежи, где вращались и наследники давно сложившихся состояний, такие, как Картер Бёрден и Джон Хэй Уитни, и приобретшие светский лоск сыновья богатых выскочек – Холцеры, Энгелхарды, Райтсмены.
При президенте Кеннеди в определенной части старого Нью-Йорка возникла совершенно особая атмосфера. Сейчас, оглядываясь назад, можно беззлобно посмеяться над этим стремлением к прогрессу, в котором сквозило плохо скрытое тщеславие. Вдруг вошло в моду голосовать за демократов, дружить с Пьером Сэлинджером и Ли Радзивилл, финансировать Негритянский американский рабочий союз или Студенческий комитет за ненасильственные действия. Отказ от освященных временем бытовых традиций совершался шумно и демонстративно. Сейчас это вызывает улыбку. Из фамильных особняков на Семидесятой улице люди переселялись в Вест-Сайд, в двухкомнатные квартирки, оформленные Пэриш-Хэдли, художником по интерьеру, который работал на Жаклин Кеннеди: там царила изысканная пустота, а вместо портретов кисти Джона Сарджента, унаследованных от дедушки, на стенах висели коллажи Роберта Раушенберга. Поболтать и выпить чаю заходили уже не в «Русский чайный салон», а в «Рыбку и чайник». Носили туфли от Margaret Jerrould, а не от Perugia. Все чаще можно было увидеть молодых людей в свитере, с трубкой в зубах, с важным видом рассуждавших об экономисте Гэлбрейте и о статье в «Нью-Йорк таймс», где говорилось о психиатре Лейне, считавшем шизофрению просто жизненной позицией. Кеннеди начал космическую гонку. Готовился полет на Луну, и все мы были охвачены лунной лихорадкой, мечтали о ракетах и галактиках. Все стало возможным в этом космическом чаду, даже на страницах «Плейбоя» зашла речь о Тихо Браге. Миллионы американцев почувствовали в себе неисчерпаемые жизненные силы. В то время как домохозяйки еще читали «Ридерз дайджест» и смотрели по телевизору передачи с Люсиль Болл, в секретных военных лабораториях уже испытывали психотропное оружие, скоро должны были появиться полчища монстров, порожденных галлюцинациями, гигантские бабочки, мириады ящериц. Все казалось достижимым, все было обречено. Мир уже прорезала тоненькая, незаметная трещина. Но кто из нас тогда об этом знал?
Тина в Нью-Йорке танцевала и веселилась. В ту странную эпоху было принято маскировать душевные раны безудержным оптимизмом. При Кеннеди полагалось мыслить позитивно. Экспериментировать, познавать себя, учиться подходить к проблемам творчески, но не так, как советовал старик Дейл Карнеги, через всякие там уроки правильной дикции или курсы по освоению бытовой техники. Теперь надо было просто отплясывать твист с Картером Бёрденом. В жизнь победоносно вошла девушка в мини-юбке, красных колготках и клипсах из перьев. В каком-то смысле Тина еще до Уорхола поняла, что каждый человек рано или поздно получит свои пятнадцать минут славы. В 1959–1960 годах она позировала для обложек модных журналов, снималась на «Чинечитта». Когда она, печальная и раздавленная, вернулась в Нью-Йорк, то с изумлением обнаружила, что причуды и безумства Старого света – ничто в сравнении с теперешними нравами ее родного города. В краю ее детства произошел нежданный переворот. Как некогда прерии Дальнего Запада, душа Америки подверглась завоеванию: летали разноцветные стрелы, надвигались караваны переселенцев.
Тина стала одной из звезд кафе «Пепперминт лаундж». Теперь мало кому хотелось слушать Арта Фармера в джаз-клубе на Тринадцатой улице, восторженно прищелкивая пальцами. Теперь было модно ночь напролет извиваться под твисты Чабби Чекерса. В 1955 году все женщины стремились быть похожими на принцессу Маргарет. В 1962-м – на Аманду Лир. На страницах Harper’s Bazaar и Vogue стали появляться модели в платьях трапециевидного покроя, с рисунком, имитирующим поп-арт, и в сапожках «родео». Следовало жить в этом стиле. Быть самому себе писателем, кинорежиссером, фоторепортером. За один вечер показываться в десяти разных местах, словно рыцарь, который верно служит десяти владыкам. Каждый снимает свой фильм, но без камеры. Каждый пишет свою книгу, но ее страницы разлетаются. Сущность – это поведение. Поведение – это сущность. Я покупаю одежду в Bloomingdale’s, машину – в автосалоне «Дженерал моторе», пластинки – у одного парня на Сорок четвертой улице; потом мне приходит в голову сделать на джинсах отвороты, позолотить бампер машины, крутить пластинку только с одной стороны, но никак не с другой. Моя жизнь – творчество, а творчество – моя жизнь. Я свободен.
В 1962 году Тина стала совершеннолетней. Она не вышла замуж за Картера Бёрдена или за Джона Хэя Уитни. Моя мать надеялась, что вся эта кутерьма закончится как в фильме «Нью-Йорк-Майами», где сбежавшая из дома богатая наследница обретает счастье и покой в законном браке. Но на календаре был уже не 1934 год. Тина переехала в маленькую квартирку на Бикмен-плейс. И два года прожила там с Томми Мэллоем. Это был долговязый, тощий парень из Нью-Хемпшира, работавший на Бродвее театральным агентом. Том снова пробудил в ней бредовые идеи. Опять она стала мечтать о кино. Долгими часами слушала музыку Генри Манчини. Вбила себе в голову, что ей надо сниматься вместе с Полом Ньюменом или Джорджем Сигалом. Но у Тома Мэллоя не было никакого влияния в Голливуде. По правде говоря, он даже на самого себя не мог повлиять. Том был ярким примером молодого нью-йоркца, поклоняющегося лондонской моде. Эти ребята носили рубашки с жабо и стриглись «в кружок», обожали итальянские машины с откидным верхом и высокие кожаные ботинки, повсюду появлялись в сопровождении потрясающих девушек, у которых на все случаи жизни было два определения: groovy [27]27
Старый хлам (англ.).
[Закрыть]или smashing [28]28
Улет (англ.).
[Закрыть]. На месте Эмпайр Стейт Билдинга им мерещился Биг Бен. Церковь Святого Патрика заменяла им винчестерский собор. Песни Чака Берри больше нравились им в исполнении «Роллинг стоунз», чем в авторской версии. Жизнь им представлялась круглой, все приобретало закругленные очертания: каплевидные светильники, обтекаемые, похожие на фасолину, автомобильные кузовы, оранжевые пластиковые очки. Даже их любимый ночной клуб на Сент-Марк-плейс назывался «Купол». И Тина опять танцевала там ночи напролет. Мы ничего не могли с ней поделать.
Том Мэллой ходил в костюмах от Cardin, носил бакенбарды, как у полковника английских колониальных войск прошлого века. При этом у него были не все дома. Я слышала, что его компания устраивала охоту на мутантов в Центральном парке; они были уверены, что вокруг большой лужайки прячутся в кустах гибриды волка и рыси, ночные животные с фосфоресцирующими глазами. В Нью-Йорке 1964 года молодых людей, подсевших на амфетамины, можно было узнать по трем признакам: во-первых, лихорадочная веселость и жажда деятельности, во-вторых, пристрастие к серебристым оттенкам и, наконец, безмерная любовь к музыке в стиле «соул». Если человеку нравились холодный блеск алюминия, серебряная краска из распылителя, сверкание хромированной стали, это позволяло предположить, что он употребляет амфетамины. Вероятно, игра света на полированных металлических поверхностях напоминала им всем переливчатые, искрящиеся миражи, которые возникали перед ними под действием наркотика. А еще они все время слушали пластинки с музыкой в стиле «ритм энд блюз»: соло на ударных, исполняемое в бешеном темпе, ревущие трубы, голоса певцов, не то поющих на эстраде, не то дерущихся на ринге, – это вызывало у них что-то похожее на опьянение.
Я видела Тину в серебристых платьях от Rudi Gernreich – они тогда только появились. Она без конца слушала «сорокапятки» Уилсона Пикета. И то, и другое было показательно. Моя сестра, из которой, бывало, слова не вытянешь, теперь стала необычайно разговорчива. Амфетаминщики всегда болтают без умолку и с восторгом рассказывают совершенно неинтересные истории. Они постоянно смотрят телевизор, свято веря, что участвуют в какой-то захватывающей затее. Два таких человека чувствуют, что растворяются один в другом, им кажется, будто они великолепны, блистательны, они уже не различают, где ощущение, а где реальность. Все это достаточно быстро заканчивается параноидальным состоянием и острыми приступами депрессии, отражается на сердце и нервной системе.
А в сущности перевозбужденные юные англоманы из Верхнего Ист-Сайда были всего лишь верными оруженосцами нового короля Артура – президента Кеннеди. При дворе Камелота появлялось все больше рыцарей в серебристых доспехах. Ибо президент находился в сильной зависимости от инъекций амфетамина и стероидов, которые в лошадиных дозах прописывал ему чудо-доктор Макс Якобсон. Эта терапия стимулировала у хозяина Белого дома и сексуальные импульсы. В 1961–1963 годах Соединенными Штатами управлял эротоман, сидевший на амфетаминах.
В 1961 году мне было уже двадцать три. Я задыхалась от невысказанных слов, от смутного чувства вины. Моя жизнь напоминала стекло в мелких трещинах. И вот я сама, без чьей-либо помощи, отыскала адрес доктора Грюнберга. Он принял меня в своем кабинете в Вест-Сайде, на Восьмидесятой улице. В течение четырех лет я приходила туда почти каждую неделю. Карл Грюнберг спас меня.
Как сейчас вижу его светящиеся умом глаза за стеклами очков в серебряной оправе, его костюм-тройку с часами в жилетном кармашке, словно он хотел удержать время на цепи, – остатки былой венской элегантности в Нью-Йорке шестидесятых. Биографы Грюнберга утверждают, что он родился в Лодзи, в 1898 году. Несмотря на «процентную норму», сумел получить образование, стал свидетелем краха империи, переехал в Берлин, затем в Париж. Лечился у психоаналитика Абрахама, а впоследствии сам постиг эту науку под руководством венского профессора Ханса Сакса – светила современного психоанализа. Грюнберг открыл частную практику в Париже в 1930 году, при поддержке Лафорга и Мари Бонапарт. На стене его кабинета в Вест-Сайде висела фотография Кертеса: набережные Сены весной. В 1940 году ему помогли переправиться из Марселя в Лиссабон. Его путь лежал в Нью-Йорк.
Итак, если мои подсчеты верны, доктору Грюнбергу было шестьдесят три года, когда мы встретились. По-английски он говорил безукоризненно, даже изысканно, хотя и с легким немецким акцентом. Некоторые обороты его речи молодому американцу образца 1960 года могли встретиться разве что в трагедиях Шекспира. Глухое недовольство иногда делало его колючим, во всем он умел найти смешную сторону, гротескные черты. Но чаще он бывал чарующе приветлив и доброжелателен, ибо чувствовал хрупкость и недолговечность каждого человеческого существа. Уже в 1925 году он задался целью найти психологические истоки варварства, жертвой которого едва не сделался пятнадцать лет спустя. Психоаналитики первого и второго поколения заранее предугадали кровавые последствия того, что тогда только готовилось.
Об отношениях, возникших между нами, рассказать трудно. Быть может, во мне всколыхнулась застарелая ненависть, которой доктор Грюнберг сумел противопоставить культуру, основанную на разуме. Я выросла среди людей, привыкших гордиться своим состоянием, родственными связями, удачным потомством – и ничем больше. Благодаря Карлу Грюнбергу передо мной открылись просветы: Моисей на Семьдесят второй улице не таков, каким был на Берггассе [29]29
В Вене, на Берггассе, жил и работал Зигмунд Фрейд (прим. перев.).
[Закрыть]. Психоанализ расколол меня как орех, скорлупа разошлась, стало видно ядро. За четыре года нашего общения доктор Грюнберг, в молчании внимавший моим излияниям, не просто помог мне преодолеть слепую враждебность. Я снова почувствовала, что во мне пульсирует живая, горячая кровь. Я никогда не считала американцев венцом природы. Как-то не верится, чтобы пастор, уплетающий пончики в своей типовой кухне, говорил от имени истинного Бога. Я никогда не мечтала о дочке, похожей на Хайди, или о сыне, напоминающем маленького лорда Фаунтлероя. Я никогда не стремилась быть копией моей матери, и мне до сих пор непонятно, почему ее характер нисколько не изменился под влиянием дочерей.
Была ли она когда-нибудь по-настоящему молода? Видела ли, как легендарный Лестер Янг играет на своем рычащем саксофоне, в паузах затягиваясь сигаретой с марихуаной, прикрепленной прямо к инструменту? Не думаю. Юность ее пришлась на начало тридцатых годов, когда воплощением элегантности считалась миссис Харрисон Уильямс, появлявшаяся в облаке белой пудры и струящихся одеяниях. Мамину жизненную позицию можно выразить в немногих словах: она была урожденная Лонгворт и вышла за Маколиффа. В 40-х годах прошлого века наш предок, начав с нуля, создал основу семейного благосостояния. Столетие спустя деньги стали уже не самоцелью, а почетным трофеем. Они были помещены в дело и приносили прибыль где-то далеко, на заводах и на биржах, в то время как великосветский Нью-Йорк, окружив себя ливрейными лакеями и картинами Фрагонара, замкнулся в своем воображаемом Трианоне. Я родилась в 1938 году, а Тина – тремя годами позже. Что мне запомнилось из моих детских лет? Чопорные няни с Семьдесят пятой улицы, хэмптонские пони и елка, стоявшая в большой гостиной. В общении царил европейский этикет с легким староамериканским оттенком. Дамы в платьях от Dior поворачивались вокруг своей оси, не сгибаясь, как танцующие дервиши. Я ловила в зеркалах их отражения, которые казались призрачными при свете свечей. Неужели это и есть женщина? Неужели со временем в этом зеркальном дворце будет мелькать и мое лицо? Ну уж нет, большое спасибо.
Можно ли сказать про меня, что я дочь своей матери? Если желание быть от нее подальше – это результат аллергии, которую она у меня вызывала, то да, я ее дочь. Если деньги, на которые я существовала, нажиты ее предками, значит, я ее дочь. Если на моих книгах стоит фамилия человека, за которого она вышла замуж, получается, я ее дочь. Я создала себя наперекор матери: в этом смысле она стала для меня точкой отсчета. Чтобы изваять мне другое лицо, надо было вырвать резец из моих слабых рук. Мои собственные попытки мало чего стоили, но меня вдохновила воля целого поколения, придала силу – мне самой ее бы не хватило. Ничто не обязывает нас испытывать благодарность к нашим родителям: их существование – не подарок, а неизбежность.
В 1961 году я перестала быть заложницей того представления, какое сложилось обо мне у матери. Если бы я не воспротивилась ей, то медленно угасла бы от недостатка воздуха. День, когда я с Тиной вернулась из Рима, – это день моего позора. Я была марионеткой в руках матери, думала, что спасаю Тину, а на самом деле вместо одной адской бездны открыла перед ней другую. В самолете она беззвучно плакала. Может быть, именно тогда, во время этого перелета, я родилась заново. Полгода спустя я оказалась на кушетке у доктора Грюнберга. Тина и я бежали разными путями от одного и того же. Это называется семьей – со всем тем, на что она толкает и что разрушает в нас, обрывая связи с окружающим миром.
Я говорила, что почувствовала, как во мне пульсирует живая кровь. И вскоре мне представился случай проверить себя. В 1963 году, во время лечения у доктора Грюнберга, я познакомилась с Дуайтом Тейлором. Это был двадцатидвухлетний парень из Огайо, изучавший антропологию в Колумбийском университете. Дуайт был из учительской семьи, проникшейся рузвельтовским идеализмом. Его отец преклонялся перед Томасом Джефферсоном и Авраамом Линкольном. Такая бескомпромиссная убежденность поразила меня. Я была приучена смотреть на жизнь с позиций аристократии и не имела понятия о том, что существует и другая Америка – одержимая идеей равенства, каждый год перечитывающая Геттисбергскую речь, словно демократические Десять заповедей. Дуайту было безразлично, какую ложу занимают мои родители в «Метрополитенопера», он подходил ко мне с другими мерками. В его отношении к людям не было ни зависти, ни огульного осуждения. Совестливость и реальные дела – только это имело для него значение. Рядом с ним я чувствовала, что становлюсь чище. В его любви ко мне была суровая простота – так любили первые поселенцы, и я упала в его объятия. Можно посмеяться над этим: Тина жила на износ, а я боялась растратить себя, она была искушенной, а я – предельно наивной. Возможно, я не могла отделаться от привитого мне чувства долга по отношению к глубоко лицемерному классу, который меня воспитал. Возможно, встретив Дуайта, я открыла для себя аристократию невинности, побуждавшую к действию и помогавшую забыть прошлое. Напыщенная дурочка, которую Жак видел в Риме, стала поборницей добра, истины и справедливости. Я пыталась рассказать здесь о том, какие манящие горизонты открыла перед нами эпоха Кеннеди. Все эти речи о прогрессе были для одиноких людей словно глоток кислорода. Миллионы юношей и девушек сделали их своим знаменем, чтобы не задохнуться. И я встала под это знамя – конечно, я приняла решение под влиянием другого человека, но приняла его раз и навсегда.
Дуайт был активистом движения «Студенты за демократическое общество», которое возникло за два года до этого в университете Анн-Арбора. Они выступали против холодной войны, против расизма и всесилия бюрократии, за пропорциональное и подлинно демократическое представительство в органах власти, за ликвидацию негритянских гетто, за повышение гражданской ответственности. Нью-йоркское отделение этой организации, где время от времени появлялся ее лидер Том Хейден, было как инкубатор: в нем вызревали идеи, которые завладели людскими умами в течение двух последующих десятилетий. Борьба за мир, установление контроля над деятельностью транснациональных компаний, над состоянием окружающей среды, повышение требовательности к средствам массовой информации, санация и обновление городских кварталов, преодоление табу на межнациональные браки, либерализация применения противозачаточных средств и прерывания беременности – все эти цели впервые были сформулированы там. Студенты спешили покинуть эту лабораторию идей: им не терпелось применить свои познания на практике, приступить к решению неотложных социальных проблем. Еще бы: когда они были скаутами, то приобрели большую сноровку в завязывании узелков. Это было так же захватывающе, как лакомиться черничным вареньем из одной банки с отцами-основателями. Нас вдохновляли песни Боба Дилана и жизнеутверждающие считалки Ричарда Фариньи.
Девушки радовались: их возлюбленные были героями. А героям очень нравилось, что их окружают восхищенные скво, взирающие на них снизу вверх. «В настоящий момент женский вопрос не имеет первостепенного значения», – услышала я на одном собрании. Когда их отцы высаживались в Нормандии, то обходились без помощи женщин: не с Бетти Фрайден же им было советоваться по поводу установки орудий. Настоящая активистка должна была разогревать гамбургеры и печатать листовки на ротапринте. Оба эти занятия не имели ничего общего с тем, что я делала раньше, и потому стали для меня откровением. Никого не смущало то обстоятельство, что я дочь богатых родителей. У моих новых друзей не было сословных предрассудков, характерных для европейцев. Если у активистки имелись средства, единомышленники убеждали ее отдать часть денег на общее дело. Многие мои подруги из Верхнего Ист-Сайда так и поступили. Старая традиция благотворительности – сбор пожертвований для инвалидов войны или сирот – приобретала особую прелесть, когда речь шла о том, чтобы внести залог за арестованного пропагандиста или благоустроить негритянский район где-нибудь в Мичигане. Нет, я не смеюсь над всем этим. Конечно, по сравнению с тем, что случилось позднее, начало нашей деятельности выглядело как беззаботный пикник. Но и тогда наши сердца горели. Кругом было столько событий, которые поражали, ошеломляли, восхищали нас, вызывали негодование или возмущение: гастроли «Битлз» в Нью-Йорке, победа Мохаммеда Али над Сонни Листоном, книга Маршалла Маклуэна «Что такое средства массовой информации», убийство трех молодых борцов за гражданские права негров, совершенное ку-клукс-кланом в штате Миссисипи, первые рейды на Вьетнам; «Одномерный человек» Герберта Маркузе, присуждение Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу, фильм Кубрика «Доктор Стрейнджлав», убийство Малколма Икса, первая мирная демонстрация против вьетнамской войны в Вашингтоне, расовые волнения в Уоттсе, «Белокурое на белокуром», смерть Ленни Брюса от передозировки. Так проходили для нас эти годы, с 1964-го по 1966-й, когда президентом был Джонсон, когда я была с Дуайтом Тейлором.
Я начала писать для бюллетеней «Свободной прессы». Кто составляет листовки, учится писать статьи. Кто пишет статьи, учится сочинять книги. Это школа ремесла. Как-то раз, в 1964 году, редакция «Рэмпартс» попросила меня написать для них репортаж. Им понравилось, они стали заказывать еще. Крупнейшие американские газеты переживали тогда глубокий внутренний кризис. Всем было ясно: время эйфории, живописных видов Хайанниспорта – фамильного поместья Кеннеди, костюмов от Chanel и стероидов ушло безвозвратно. В сознании американцев обозначилась гигантская трещина. Впоследствии мне удалось узнать, какие соображения заставили редактора «Нью-Йорк-таймс», наперекор мнению начальства, привлечь меня к сотрудничеству: я в общем и делом умела писать, я была женщиной, происходила из видной семьи, была близка с «новыми левыми», обладала «внешностью южноамериканской Пассионарии, энергией и чертовской решимостью». Цитирую дословно. Вот так я попала в эту газету.
Но вернемся к Тине. Ее связь с Томом Мэллоем продлилась не слишком долго. Он растворился где-то в Аризоне вместе с новой подругой, ослепительной мексиканкой. Должно быть, они угостили амфетамином гремучую змею. А Тина сошлась с Грегом Чандлером, молодым архитектором, тоже постоянным посетителем клуба «Пепперминт лаундж». Грег фонтанировал идеями, был слегка чокнутым и сидел на таблетках. Дома у него стояли виниловые шезлонги, табуреты из пенопласта, кресла яйцевидной формы. Он обожал новые материалы с эффектными названиями: плексиглас, иноке, полиуретан. Грег украшал белые платья Тины узорами, словно заимствованными с полотен Мондриана или Делоне. Он расписывал ее обнаженное тело, покрывал груди спиралевидными линиями. Грег страшно забавлял Тину. Нельзя сказать, что его замыслы отличались скромностью. Он создал проект искусственного острова, где росли бы секвойи и имелась вертолетная площадка; он хотел, чтобы этот остров стоял на якоре где-то на траверсе Амагансетта. Он хотел установить на Озаркских горах геодезические колпаки, а еще время от времени возвращался к главному делу своей жизни – созданию гигантских ячеистых структур, которые дали бы возможность строить города на сваях, прямо над американскими мегаполисами. Грег говорил, что самое совершенное здание всех времен и народов – это пирамида майя, спроектированная Фрэнком Ллойдом Райтом для Белы Лугоши. Такой вот неунывающий псих, всегда ходивший в свитере и кожаной куртке, со стрижкой под Брайана Джонса. Вдвоем с Тиной они посещали магазин «Параферналиа» и танцевали в клубе «Купол». Полжизни они проводили в телефонных разговорах, иногда по нескольку часов подряд не выпуская из рук трубки, а затем ухитрялись побывать за один вечер на нескольких праздниках. Грег любил слушать группы «Ху», «Притти сингс», «Роллинг стоунз». Но не очень любил своего папу, так же как Тина – свою маму.
Когда я пишу эти слова, то думаю о злосчастной судьбе наших родителей, о злосчастной судьбе их детей, блистательных и сеющих смерть. Мы ненавидели наших матерей, образцовых домохозяек 50-х годов, со смешанным чувством любви и неприязни относились к отцам, которые преклонялись перед генералом Макартуром и Милтоном Берлом. В 1965 году каждый из нас стремился изгладить в себе семейные черты и в этом стремлении заходил слишком далеко. Я вспоминаю Тину и ее подружек с их солнечными очками в кричащеяркой оправе, мини-юбками, таблетками амфетамина. Человек со стороны не увидел бы в этом ничего, кроме простой экстравагантности. Но это было грозное оружие, направленное против матерей. Только вот беда: американские матери неуязвимы. Тина и ее подружки могли обстреливать их ракетами с напалмом – они оставались невредимыми, а напалм возвращался, словно бумеранг.
Приблизительно в это время Тина познакомилась с Энди Уорхолом. Думаю, на «Фабрику» ее привел Грег, и оба они были в полном восторге. Это и понятно: в студии Уорхола, где когда-то действительно помещалась шляпная фабрика, можно было найти конкретное воплощение всего темного и всего светлого, что таилось в их опустошенных душах. Когда-нибудь я напишу исследование об Уорхоле. И объясню, почему именно этому гениальному чудовищу удалось запечатлеть на пленке образ Тины, который я считаю единственно живым и достоверным. Это был двадцатиминутный фильм – больше он ее не снимал – под названием Pearly Queen № 2 [30]30
Жемчужная королева № 2 (англ.).
[Закрыть]. Когда я смотрю на эти разрозненные кадры, где Тина говорит сама с собой, глядя в зеркало, или подолгу молчит, не сводя глаз с объектива, а дальше за окном дремлет Нью-Йорк, укутанный снежным одеялом, из-под которого едва доносятся гудки автомобилей, – я знаю, что он просто включил камеру, но каким-то непостижимым образом эта камера сумела показать настоящую Тину. А еще я напишу о том, что я видела там, по соседству с Сорок седьмой улицей, в 1966 году, когда по вечерам мне приходилось подбирать Тину с самого дна, о грязи, об увядших, мертвых цветах. Расскажу о других ночах, десять лет спустя, когда я встречала Энди в ночном клубе «Студио 54» и он – я тогда перекрасилась в блондинку – говорил мне: «At last you look like Tina» [31]31
Наконец-то ты стала похожа на Тину (англ.).
[Закрыть]. А он в моем восприятии всегда был тем, кого обожатели называли Дрелла – смесь Дракулы и Синдереллы. Они говорили так: «Дрелла сказал, что ты злая. Дрелла думает, что Боб Дилан – ничтожество…» Я расскажу о витаминных коктейлях с метедрином, о других напитках – виски с амфетамином, водке с секоналом, клее с амилнитритом, о том, как особые гурманы делали себе уколы сразу в обе руки, чтобы насладиться одновременным действием кокаина, героина и амфетамина. И напоследок попробую рассказать о неземном очаровании девушек, которым кое-что известно об аде.
С тех пор у меня было много причин думать об Энди. Я видела, как жажда смерти подтачивает красоту молодых американок, видела исхудалые руки, безумные глаза девочек из Новой Англии, в то время как Невинная Дрелла, Дрелла-Дьявол, с упоением рисует цветочки на шелковых экранах. Уорхол говорил, что его любимая музыка – урчание холодильника. Холодильник – это смерть. Холодильник – это Дрелла. Однажды в 1964 году я обратила внимание на то, как он читает: он утыкался носом в книгу или газету так, что бумага оказывалась у самых зрачков. Его глаза искали истину на шероховатой поверхности листа. Истину? Конечно, ведь все лежит на поверхности, в глубине ничего нет. Если он создавал картину, это было лишь отображение образа, копия фотографии. Когда он снимал фильм, то нарочно делал рамки кадра размытыми, чтобы зритель почувствовал: реальность – не более чем целлулоидная пленка. Он обожал «полароиды» за то, что эти аппараты не передают глубины. Нажмешь на кнопку – и все рельефное вмиг станет плоским на картинке, которая тут же выскочит из камеры. Что говорит «полароид»? Как ты воспринимаешь мир? Это решает Дрелла. Дрелла всегда говорит правду.Уорхол, возможно, был величайшим колористом после Матисса, но краски у него были нанесены на черный фон.
Когда я увидела его впервые, у меня возникла незыблемая, абсолютная уверенность, что передо мной – один из ликов смерти. Существо с бледной, угреватой кожей, в белом парике, точно снятом с огородного пугала, берет «полароид» и, любезно улыбаясь, превращает вас в камень. А еще он напоминал старую куклу, обдуваемую невидимым ветром. В те времена он высасывал соки из богатых девушек Верхнего Ист-Сайда – Бэби Джейн Холцер, Эди Седжвик, Тины Уайт. Вокруг него собирался целый зоопарк – полуночники, снобы, неудавшиеся актрисы, бывшие завсегдатаи садомазохистских клубов на Кристофер-стрит. Меня привели на «Фабрику» Грег и Тина: однажды вечером они захотели представить меня своему гуру. У меня было ощущение, словно я попала в Берлин 1925 года. Как будто в этом высеребренном гроте на берегу Ист-Ривер вел съемки Джозеф фон Штернберг. Кажется, в тот вечер там был Нуреев, а еще там было полно разных богатых придурков и молодых людей, витавших в облаках. Все в целом производило впечатление наркотической оргии, причем оргии гомосексуальной. Вы словно оказывались на шахматной доске, где стояли ферзи, слоны, кони и пешки. И все кругом черно-белое: нью-йоркская ночь, сверкающая металлом, прозрачная, – прекрасный фон для лиц, осунувшихся от бессонницы.








