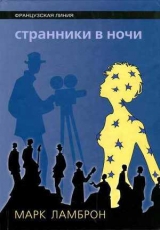
Текст книги "Странники в ночи"
Автор книги: Марк Ламброн
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 19 страниц)
ОРАНЖЕВАЯ МЭРИЛИН
…
Я вернулся в Париж в январе 1962 года. Жизнь поначалу налаживалась с трудом. Я хотел забыть Тину. Рим вымотал меня до предела. А работа в агентстве «Франс Пресс», профессиональные интриги и французская зима отнюдь не настраивали на радостный лад. Хорошо хоть мои начальники, Жан Марен и Клод Руссель, не стали загружать меня работой. Бывший диктор радио «Свободная Франция» и бывший участник Сопротивления, даже оказавшись на высоких административных должностях, по-прежнему симпатизировали вольным стрелкам. Они поняли, что я просто задохнусь, если буду сидеть на одном месте. И я получил статус специального корреспондента: когда редакция хотела подробно осветить какое-либо событие, она прибегала к моей помощи. Тогда в мире было три крупнейших информационных агентства: «Франс Пресс», американское «Ассошиэйтед Пресс» и английское «Рейтер». Полторы тысячи журналистов на пяти континентах, миллионы слов, передаваемые ежедневно на пяти языках, пятьдесят тысяч фотографий, публикуемых ежегодно… «Похоже, вы думаете, что у меня здесь туристическое агентство», – часто говорил Руссель. Но не было случая, чтобы он отговаривал меня куда-то ехать. Просто у него так проявлялось начальственное своеволие.
Мир изменился. Во Франции повеяло ветром благополучия. На мою жизнь между 1962-м и 1966-м годами оказала огромное влияние атмосфера, царившая тогда в стране. Коротко говоря, мы были тогда на пути к тому, чтобы стать самым блистательным из демократических государств. Что представляла собой тогда Франция? Выдающийся руководитель нации, социальные гарантии и мощное, новейшее оружие, современные автострады в провинции и влиятельная ячейка Всеобщей конфедерации труда на заводе «Рено» в Бийанкуре, Роже Фрей в кресле министра внутренних дел и Жаклин Кора на экранах… Все пили ликер Izarra, лакомились шоколадом Menier, покупали обувь Hush Puppies. На президентском самолете «Версаль» глава государства взмывал под облака, чтобы возвестить нашу правду всему остальному миру. Мадам Ивонн в синем атласном платье с голубым шарфиком прогуливалась под руку с президентом Мексики Лопесом Мартинесом, а ее супруг с балкона дворца вице-королей на площади Сокало благодарил музыкантов и обращался с торжественной речью к вершинам вулканов. Брижит Бардо отмечала свое тридцатилетие в обществе Боба Загури. В «Ковент-Гардене» царила Марго Фонтейн, в Большом – Плисецкая, в парижской Опере – Иветт Шовире. Появился новый кумир – Франсуаза Арди: «Она высокая, гибкая, с длинной гривой, длинными ногами, и у нее неплохие шансы прийти шестой на скачках в Лоншане», – зубоскалил какой-то писака. Леонов и Уайт, привязанные пуповиной к своим кораблям, выполняли на орбите балетные па, «Восход» состязался с «Джемини», в кинотеатре «Ришелье» шел «Джентльмен из Кокоди», а в «Нормандии» – «Сто кирпичей и черепица». По вечерам в дешевые квартиры новых городов приходили герои детских телепередач, Плюшевый Мишка и Песочный человечек, и усыпляли детей экономического чуда голлистскими сказками. Тогда было в моде число 1500. Автомобиль назывался «симка-1500». А лифчик «скандал-1500» рекламировали так: «Чашки укреплены на узкой ленте из эластичного тюля „лайкра“, благодаря чему лифчик остается на месте даже при самых резких движениях». Интересно, что это были за движения?
Француженки становились выше, их каблуки – ниже. Девушки оборачивались на улицах, мягко улыбаясь. Они хотели мужа, свой дом и машину. Кюре освящали их брак под звон гитары, Банк сбережений шел навстречу их пожеланиям. О юной француженке образца 1963 года я вспоминаю не без нежности. У нее веснушки, она почти не красится, и от нее пахнет шампунем. Она проста и деловита, учится на курсах машинописи и водит малолитражку, пьет коктейли и читает Мазо де ла Роша в карманном формате. «Нельзя сказать, что твист и подобные ему танцы – прямое средство преуспеть в обществе, но, во всяком случае, они этому не препятствуют», – так писал тогда Ролан Леруа. И был прав. Твист – это танец, при котором юбка должна быть выше колен, тут не надо извиваться, как в мамбо, можно просто раскачиваться вправо-влево, как «дворники» на лобовом стекле. К тому же в этом танце нельзя зайти слишком далеко: по правилам только заключительная часть всегда медленная, щека к щеке, когда руки девушки обвиваются вокруг вашей шеи, а губы приоткрываются и льнут к губам. На террасе кафе «Беркли» сердцееды из модного дома Lazareff демонстрировали свою добычу. Манекенщицы из агентства Катрины Арле, молодые покупательницы из магазина «Скосса», шведские студентки, подрабатывающие нянями, – все они были по-своему очаровательны.
В общем, это был послевоенный период. Наших солдат вывели из Алжира; теперь они несли службу в мирных гарнизонах Германии. Миролюбие храбрых, страховая медицина и Танкарвильский мост. «Во второй половине дня, – заявила мне одна дама, – я предпочитаю пастельные тона: укропно-зеленый, льдисто-голубой, бледно-вишневый». Она имела в виду свои платья. Но и вся эпоха была льдисто-голубого цвета.
Я много разъезжал по свету. Слова в обмен на километры – неплохая сделка. В книге летчика Ролана Гарроса, вышедшей в 1910 году, я нашел рассказ о воздушном путешествии по Сицилии: «В Трапани я поднялся в воздух с улицы, где стоял мой отель, прямо из центра города. Механики подготовили машину на рассвете, она стояла под моими окнами. Я вышел из комнаты в дорожном костюме, запрыгнул в самолет и взял разбег среди фонарей и деревьев».
Мне бы хотелось, чтобы моя жизнь была похожа на это лаконичное описание.
Впечатления
Май 1964 года. Похороны короля Павла I в Греции. Меня командировали в Афины. Такое ощущение, что это не XX век, а эпоха расцвета Византии. Мимо меня прошагала Критская королевская гвардия, прошествовал епископ Хрисостомос, глава Греческой православной церкви, в окружении священников, похожих на евангельских волхвов. Журналистов не допустили в сады дворца Татои, где будет похоронен монарх.
Издалека вижу нового короля, это Константин II, или «Костя»: до сегодняшнего дня он был известен как плейбой и автогонщик-любитель. Отныне он будет носить титул диадоха, который в древности носили полководцы Александра Великого. Его грудь украшают орденские звезды: это ордена Спасителя, Святого Георгия и Феникса.
На улице какой-то старый грек указывает на взвод эвзонов и говорит мне по-французски: «Настоящие вдовы – это они».
Декабрь 1964 года. Чарли Чаплин в своем поместье возле Веве. Ему семьдесят пять лет, и он уделил мне двадцать минут. Белоснежные волосы, физиономия месье Верду, получившего помилование. На нем серебристо-голубой пиджак, красный галстук и полосатые брюки. Он провернул одно дело и страшно доволен собой: он разрешил газете «Известия» опубликовать двадцать тысяч слов его автобиографии. В качестве гонорара он получит пять килограммов икры. На столе лежит журнал с фотографией актрисы Мари-Франс Буайе. Чарли показывает на нее и вздыхает: «Ах, если бы мне сейчас было шестьдесят…»
В какой-то момент он сказал мне по-французски: «Есть в Париже одна улица, напротив „Фоли-Бержер“, улица Жоффруа-Мари, где я могу ходить часами, наслаждаясь воспоминаниями о старом мюзик-холле. Я играл в этом театре в 1909 году. Тогда я в первый раз выехал из Англии».
Он поднимает руку – и тут же опускает. Девятьсот девятый год – это было так давно. Чарли умолкает.
Август 1965 года. Аден. С 1939 года эта территория была британской колонией, но скоро перестанет ею быть. Здесь идет партизанская война, повстанцы через Каир получают русское и чешское оружие. Двенадцать англичан были убиты, и среди них – спикер местного парламента сэр Артур Чарльз. Полиция арестовывает детей, которые переносят в школьных портфелях тротил, а в термосах – пластиковую взрывчатку. Шестеро террористов повешены.
Я подыхаю от жары в отеле «Крессент». Единственное утешение – девицы в бикини, загорающие на пляже Стимер-Пойнт, который охраняют вооруженные до зубов солдаты. Я познакомился тут с одним старым журналистом из «Дейли телеграф». Он носит гетры и курит турецкие сигареты. Он сказал мне:
– Я принадлежу к поколению англичан, которые проморгали приход Гитлера к власти. В двадцать пятом году Лондон проявлял удивительную беспечность. Потом, конечно, была война в Испании, сталинская агентура, Освальд Мосли, который хотел стать британским фюрером. Все эти люди были чрезвычайно плохо воспитаны. Мы тогда могли бы спокойно охотиться на куропаток, забыв про весь остальной мир, но пришлось считаться с патологическими проявлениями национализма в Европе. Там расплодились диктаторы – в Германии, в Италии, в России, Испании, на Балканах. Вот и пришлось нам немножко подраться… Знаете чем неприятен наш век? Тем, что люди теперь склонны соблюдать верность идеологии, а это противоречит представлениям о верности, какие сложились у нас с незапамятных времен. Но мне моя мать всегда была дороже, чем Молотов, а мой отец – дороже, чем Джон Фостер Даллес. Таковы мои взгляды.
Февраль 1966 года, ФРГ. Истребитель «Старфайтер» – «самый дорогой в мире гроб». Скандал влечет за собой расследование. «Старфайтер» – истребитель типа Ф-104, производится в ФРГ по американской лицензии. Но немцы внесли в технологию некоторые изменения, чтобы сделать из него истребитель-бомбардировщик. Результат: неполадки в двигателе, взрывы в кабине, аварии при взлете или при посадке. Пятьдесят один самолет вышел из строя, двадцать семь пилотов погибло. Майор Ленхерт задохнулся под неисправной кислородной маской, и неуправляемый самолет успел пролететь над Данией и Швецией, пока не разбился в Норвегии.
Меня принял командующий военно-воздушными силами ФРГ Эрих Хартман. Во время войны он одержал десятки побед, девять раз его сбивали советские зенитки, десять лет он провел в плену в Сибири. Нельзя сказать, чтобы это сделало его особенно разговорчивым. Он смотрит на меня в упор:
– В этом деле со «Старфайтером» нет ничего удивительного. Ведь «Люфтваффе» недосчиталось целого поколения пилотов.
Апрель 1966 года, Лондон. Я пришел на выступление гуру Шри Ваттиядеша в Карма-центре Вест-Энда. Бывший кинотеатр переделали в районный ашрам. Вход платный: гуру нужны средства на благочестивые цели. Несколько ароматических палочек курятся перед кинетической мандалой, больше напоминающей картины Вазарели, чем храмы Гуджарата. Публика сидит на циновках, которые расстелены прямо на полу. Здесь присутствуют молодые люди в длинных фиолетовых пиджаках и белых жабо, дамы средних лет со строгой прической, принятой у теософов, девушки в темно-красных платьях и в браслетах. В зале гнетущая, сомнамбулическая атмосфера. К запаху ладана примешиваются другие, те, которые обычно вдыхаешь в джаз-клубах. Некоторые ученики гуру, сидящие в позе лотоса, закрывают глаза. У других глаза открыты, но разница невелика. Какие-то феи в брюках от Mary Quant перебрасываются словами, напоминающими условные сигналы: Marquee, Spencer Davis Group, Melody Maker, поправляя взбитую прическу и поглядывая в ручное зеркальце в розовой пластиковой оправе.
Гуру занял место на эстраде. Он напоминал фигурку Будды на каминной доске. Деликатно прокашлявшись, он разглаживает бороду. Тема сегодняшней лекции – «Камасутра». Первые же слова гуру завораживают аудиторию. Следует заметить, что этот провозвестник высших истин, накрасивший скулы шафраном, несмотря на легкий индийский акцент, говорит по-английски не хуже, чем Джордж Бернард Шоу.
…
В то время я познакомился с Марианной К. Каштановые волосы, карие глаза, около тридцати лет, большая квартира в доме 30-х годов на улице Ренуара. Она была скорее изящна, чем красива, чудесно сложена, достаточно избалована жизнью. Ее муж разбогател на строительстве в парижских пригородах новых жилых кварталов, архитектура которых напоминала одновременно центральные улицы Москвы и постройки Альберта Шпеера: этот стиль был тогда в большой моде. В общем, деньги текли к нему рекой. У Марианны их стало столько, что можно было о них не думать. И она посвятила себя мужчинам – такова была избранная ею сфера благотворительности. В течение нескольких месяцев я был одним из призреваемых бедняков, то есть одним из ее любовников.
Марианна любила старомодные бары, где пахнет навощенным паркетом, опилками и адюльтером. Она усаживалась на высокий табурет и закидывала ногу на ногу. А я смотрел на край юбки, обтягивающий бедра. У француженок из обеспеченного класса вообще имеется бессознательно-эротичная склонность к демонстрации ног. В отношении груди они соблюдают некое целомудрие – возможно, это связано с мыслью о вскармливании будущего младенца. А вот ноги, которым для занятий теннисом и плаванием давно уже была предоставлена определенная свобода, могут явиться во всей красе. Тут начинается изощренная, напряженная игра, в ход идет все: крутой изгиб бедра, высота каблука, длина юбки, след, оставленный ее краем на коже, цвет колготок, гармонирующий с цветом платья. Состоятельные француженки обожают свои ноги. Подчеркивают их форму, придают им шелковистый блеск, облагораживают – и выставляют напоказ. В таком заигрывании есть доля бесстыдства, а может, даже извращенности. Марианна знала эту науку в совершенстве.
У нее были в Париже любимые уголки. Я встречался с ней в пассажах на правом берегу Сены – в пассаже Шуазей, галерее Вивьен, пассаже Панорам. Из-за света, проникавшего сквозь стеклянную крышу над нашими головами, казалось, будто мы попали в аквариум. Витрины, уставленные разными диковинками, антикварными вещами, тропическими редкостями, принадлежностями для ванны и душа… Ее каблуки звонко стучали по мозаичному полу. Марианна почти не разговаривала. Мы блуждали по этим лабиринтам, словно по воображаемому городу. Витрина, проулок, зеркало, закрытые ставни… К таким ухищрениям приходилось прибегать из-за одного родственника Марианны, который мог ее увидеть со мной. Воспоминания о ней окрашены в серо-голубой оттенок парижской зимы. Мне кажется, что я встречался с ней только в облачные дни. Она была стройной и не нуждалась ни в каких диетах, пальто всегда сидело на ней свободно и развевалось на ходу, отражаясь в глубине зеркал.
После этого она неизменно направлялась в одно и то же место – отель рядом с пассажем Жофруа. Там не было холла, только узенький коридор с окошечком, за которым читал газету старик-портье. Он протягивал нам ключ: «Вы ненадолго?» – и брал деньги. На лестнице стоял затхлый запах. На втором этаже ключ с трудом поворачивался в капризном замке. Комната была большая, но меблировка скудная, почти аскетичная. Шкаф из лакированного дерева, железная кровать с узорчатым покрывалом, умывальник. На потолке цвета слоновой кости краска растрескалась так, что там словно образовалась целая россыпь островов. Но Марианне требовалась именно такая обстановка – комната, будто изъеденная ржавчиной времени. Это была клавиатура для ее пальцев, музыка для ее раздумий. А почему, я не мог бы объяснить.
Однажды она показала мне письмо, полное эротического неистовства. От слегка пожелтевшего листка исходил запах увядшей сирени. Изящный почерк, окаймленный чернильными завитушками, словно жемчужинами. Текст этого письма, написанного мужчиной и адресованного женщине, представлял собой эротический вызов, жесткий, не смягченный ничем. Под ним стояла подпись размашистыми заглавными буквами: «Луи». Вверху дата: 1924 год. «Это письмо Арагона», – сказала Марианна. Я поинтересовался, что за женщина сорок лет назад получила это письмо. Она назвала мне имя. Это была ее родственница по материнской линии. Кто-то из родных вскрыл конверт – и эти слова поразили его в самое сердце, как пулеметная очередь. Это произошло в Париже, в 1924 году. Воздух в городе тогда мало отличался от теперешнего, да и женщины в момент пробуждения вряд ли выглядели иначе. Может быть, купальные полотенца были более жесткими, а шелковые ткани – без примеси и все дело именно в этом?
Пожалуй, можно допустить мысль, что Марианна пыталась заново разыграть сценарий, написанный призраками. Ее маниакальное стремление встречаться в пассажах на правом берегу и нигде больше, ее пристрастие к номерам в дрянных отелях, с отставшими от стен умывальниками… Все низменное обладает чудесной силой, которая располагает меня к наслаждению.Эти строки навеяны гневом, палящим дыханием войны, дотла сжигающим женщин. Но в 1964 году Арагон был еще жив. Марианна могла заглянуть к нему, надев платье от Dorothee Bis и красные туфли. Что бы он сказал этой юной сумасбродке? Рассказал бы историю письма сорокалетней давности, на котором чернила напоминали засохшую кровь? Вряд ли бы он даже стал его читать…
Марианна любила надевать платья под стать погоде: в ясные дни яркие, в пасмурные – более тусклых тонов. Она обдумывала предстоящее наслаждение как хитроумный план и стремилась к нему, как к некоему событию. Походы по злачным местам со случайным партнером, коротающим время до поезда. Я испытывал уважение к Марианне: ее взгляд не был холодным. В нем не было осмотрительности, а только спокойствие и чувство свободы. Дамам ее круга редко удается преодолеть эгоизм, который заставляет их придавать непомерное значение собственной персоне, собственной добродетели и тому, как они распоряжаются собственным телом. Их надо завлекать, завоевывать, пускать в ход чары и льстивые слова. Все это утомительно. За кого они себя принимают? А вот Марианна была нетребовательна, как женщина Востока. Мне редко приходилось слышать от нее слово «я» – опасливое, собственническое, себялюбивое «я» чопорной француженки. Какой смысл делать из этого целую историю, ведь смерть в итоге все расставит по своим местам?
Я проглядываю воспоминания об этих рискованных вечерних играх как милый сердцу фильм. Зеркальные дверцы шкафов, перечеркнутые линией обнаженных тел… Помню, она, словно фотограф, выбирала определенные позы, чтобы я не мог видеть ее глаз. Например, она сидит у меня на коленях, ко мне лицом, ее зад ритмично двигается, голова опущена, волосы свесились и заслонили от меня ее рот. Или лежит на полу, выгнувшись, молча, закрыв лицо руками. Она оставила мне свой автограф: парижские сумерки, холодные зеркала, мгновение ради мгновения, нагота без лица. Десять лет спустя я услышал, как один хам пренебрежительно бросил: «Ну, эта дамочка коллекционировала члены». Но я думаю, что у Марианны было обостренное чувство времени, того, что оно может дать, и того, что оно отнимает, и в свои тридцать лет она оберегала себя от напрасных сожалений в будущем. Я благодарен ей за это безумство, в котором она оставалась честна со мной. Я часто пытался понять, зачем столько женщин обрекают себя на вечную ложь, вступая в брак, и как они могут хоронить себя в этой пустыне, куда не доносится звук живого голоса. «Воспитанностью можно загубить себе жизнь», – написал кто-то. Я знал женщин, которых воспитанность едва не удушила. Взгляды, полные стоической выдержки, отчаяние, лишающее дара речи. А вот Марианне хватило мужества признать некоторые истины. Сказать себе, что каждое мгновение невозвратимо, а тело требует свое. Преодолеть ненависть, приходящую на смену страсти, перестать быть маленькой девочкой, неугомонной, деспотичной, всюду сующей свой нос и вымещающей свои огорчения на других, понять, что надо быть великодушной, что у всякого мужчины есть мечта и не надо убивать эту мечту, по крайней мере не убивать ее сразу, – французские женщины, с которыми стоит иметь дело, редко становятся союзницами смерти. Я не был влюблен в Марианну, и все же она пробудила во мне мечты.
…
По некоторым причинам – позже будет ясно, по каким именно, – мне запомнилась та декабрьская неделя 1966 года, когда меня принял Андре Мальро, занимавший пост министра культуры. Я собирался узнать его мнение по ряду актуальных вопросов. В аппарате министра мне назначили прийти во вторник, в три часа. Меня попросили подождать в одном из залов Пале-Рояля, изобилующем позолотой и пурпурными драпировками, с потолком в кессонах. Иногда слышались мелкие шаги секретарш, приглушенные пушистыми коврами. Затем появился служитель с массивной цепью на груди:
– Министр сейчас вас примет.
Я пошел за ним. Он привел меня в небольшую комнату перед кабинетом, постучал в дверь. Оттуда донесся гортанный возглас. Служитель отступил в сторону, и я вошел.
В эту секунду Мальро опускал на рычаг телефонную трубку. Он встал. И я увидел его глаза, словно обращенные внутрь. Поредевшие с годами волосы были зачесаны назад. Он был одет в темно-синий костюм с белой рубашкой, белым платочком в нагрудном кармане и галстуком под цвет костюма. Он подошел ко мне и пожал руку – быстро и крепко, как боец. У людей, которые составляли круг единомышленников во времена Андре Жида и Троцкого, еще сохранился рефлекс товарищества. Он окинул меня острым взглядом хищной птицы. Потом опять уселся за письменный стол, дернув плечом, словно коннетабль, поправляющий плащ.
– Чем могу быть полезен?
Он сплел пальцы рук и оперся о них подбородком, но через секунду его ладони снова раскрылись, как будто не могли находиться в покое. Казалось, из его рук выпорхнули невидимые бабочки и разлетелись по кабинету.
– Мне бы хотелось, – начал я, – узнать ваше мнение о современном мире. О том, какой стала теперь молодежь…
Мальро бессильным жестом поднял руки. Потом щелкнул пальцами, чтобы прогнать одну из надоедавших ему невидимых бабочек. Другая чуть не влетела ему в глаз – щека дернулась от нервного тика.
– Вы оказываете мне большую честь, месье. Но что такое молодежь?..
Мальро умолк или, скорее, задумался. За колоннами Пале-Рояля виднелись голые деревья сада. Я воспользовался этой паузой, чтобы поставить на стол маленький Philips на батарейках. Мальро посмотрел на магнитофон, точно это был метеорит. Он поднял на меня свои глубоко посаженные глаза – медленно, с трудом, словно поднимал из глубины веков диковинную находку.
– С вашего разрешения, – ворчливо произнес он, – я поставлю вопрос иначе. Тут следовало бы поговорить о рыбах и о древних статуях. Это долгая история. Я часто слышу, что теперешняя молодежь мечтает о жизни, более близкой к природе, и обращает взоры на Азию. Ладно, давайте рассмотрим это стремление быть ближе к природе в его связи со старыми идеологиями. Вы ведь наверняка обращали внимание на то, что некоторые личности, во время войны показавшие себя не с лучшей стороны, стремятся всю оставшуюся жизнь крутить педали велосипеда или с головой уйти в экзотику, вроде плавания на «Кон-Тики». Похоже, компромисс, заключенный в свое время с членами оси Рим-Берлин-Токио, впоследствии помогает найти общий язык с рыбами. Или со Снежным человеком.
– Кого вы имеете в виду?
Мальро скрестил руки на столе и положил на них голову. И тут же ему пришлось отбивать нападение сразу двух бабочек.
– Примеров сколько угодно. Возьмите хоть Лени Рифеншталь: в начале карьеры она была актрисой и альпинисткой, потом стала Эйзенштейном Третьего рейха. Теперь вот увлеклась подводным плаванием. Или еще один немецкий альпинист, о котором мне рассказывал Морис Эрцог. Этот член национал-социалистской партии, видный специалист по Гималаям, позднее стал последователем Далай-ламы – очевидно, почуял что-то знакомое и родное, увидев свастику на тибетских колоколах. Такое случается и у нас… Анри де Монфред, писатель и авантюрист, бросил торговлю оружием на берегах Красного моря, чтобы поддержать маршала Петэна, а потом вернулся и стал проповедовать идеи национальной революции окуням и скатам. Или майор Кусто…
– Кусто?
Мальро сделал жест, достойный мима Марсо в роли эпилептика.
– Вы же знаете, наверно, что его семья во время войны не поддержала де Голля… Кстати, адмиралу Дарлану, главнокомандующему вооруженными силами в правительстве Виши, его подчиненные докладывали, будто нашли остров капитана Немо посреди озера Ванзее! У Кусто был брат, сотрудничавший в вишистской газете. После этого в Тихом океане не найдется достаточно глубокой впадины, чтобы отмыть в ней семейную честь. Кораллы, мидии, акулы… Не правда ли, удобно, когда тебя окружает мир молчания? Вспомним еще Линдберга. Вы представить себе не можете, кем был для людей Линдберг в 1927 году. Икар, победитель Солнца. А потом этот Икар увлекся идеями Гитлера. Роковой Интернационал друзей Риббентропа: герцог Виндзорский, белокурые англосаксы с короткой стрижкой… В те времена Линдберг охотно полетал бы на своем «Духе Сент-Луиса» в одной эскадрилье с пилотами Геринга. Что ж, теперь он расплачивается за прошлое. Или пытается о нем забыть. Вам, должно быть, известно, что он полгода исследует океанские атоллы, а другие полгода проводит в саваннах Западной Африки. Линдберг возомнил себя Одином, скандинавским богом-мудрецом, а в итоге превратился в персонажа Джозефа Конрада.
– Какой же вывод следует сделать из этого?
Мальро задумчиво взглянул в окно.
– Вывод вот какой: Рифеншталь, Монфред или Кусто с их летучими рыбами, Линдберг с его орангутангами, немец из Лхасы с его монгольскими яками всегда будут предпочитать царство природы духу законов. Среди голубых акул или среди белых медведей им приходится изведать вершины и пропасти, ощутить свою одинокую избранность, которая недоступна мелким людишкам: это путешествие Зигфрида по Рейну. Ведь совершенно очевидно, что рыба-пила не знакома с идеями Монтескье, а мурена не читала Кондорсе. Впрочем, мурены вообще имеют предрасположенность к нацизму: их кормилец Тиберий им дороже, чем рабы, которых они пожирают. Так-то. Все эти примеры стали для меня прививкой от чрезмерного увлечения жизнью на природе. И когда я вижу, как юные калифорнийцы читают Германа Гессе и выращивают маргаритки, то – пусть даже это происходит в стране Уолта Уитмена и Дейви Крокета – я спрашиваю себя: не предпочтут ли они оленей и гризли общению с людьми? Вот в чем все дело.
Он замолк. Чем дольше он говорил, тем лихорадочнее его руки, руки безумной кружевницы, плели и расплетали в воздухе невидимые узоры. Бабочки все время атаковали его.
Мне вдруг показалось, что я перенесся куда-то далеко. Мрачная и таинственная атмосфера восточного гадания, которая вдруг возникла здесь, среди фресок эпохи Регентства, напомнила мне одну давнюю встречу. В пространстве-времени разверзлась дыра. Правда, в кабинете министра не было ни попугаев, ни каменного Будды, а на заваленном папками письменном столе не лежали карты таро. Но я не мог не вспомнить гадалку из Шолона. Прошло тринадцать лет – и я вновь слышу предсказание. Неужели мне суждено жить от оракула до оракула?
– Молодые калифорнийцы, которых вы упомянули, выступают против войны во Вьетнаме, – сказал я, стараясь не выдать волнения. – Но ведь вы в молодые годы тоже были против присутствия западных держав в Индокитае…
Мальро машинально провел рукой по макушке, словно поправляя несуществующую прядь волос. Когда я произнес «Вьетнам», мне показалось, будто я бросил мяч и морской лев подхватил его носом. И вот мяч завертелся.
– Посмотрите, как подействовал на нас зов Востока в последние двести лет. Христианское учение о спасении души превратилось в мифологию спасительной экзотики. Любопытно, что этот процесс развивается в двух аспектах, абсолютно независимых друг от друга: ведение империалистических войн и внутренняя жизнь человека. Возьмите первых колонизаторов, лорда Корнуоллиса или Шангарнье. Несомненно, эти люди были уверены, что завоевывают на Востоке новые герцогства, они сражались в Аннаме или на Брахмапутре так же, как сражались крупные феодалы в XII веке. В этом смысле империализм, как и антиимпериализм, – дело семейное. То, что колонизаторы совершили во имя западной идеи величия, антиколониалисты оспаривают во имя западной же идеи справедливости. На Востоке мы остаемся в своем кругу. Когда мы с Моненом в 1925 году опубликовали очерк «Индокитай в цепях», нашим заклятым врагом был губернатор, генерал Коньяк. Это был франко-французский конфликт. Но тут был один нюанс, на мой взгляд, совершенно новый: нас вдохновляла мысль о моральном превосходстве покоренных народов. В этом свете то, что мы наблюдаем сейчас – протесты против войны во Вьетнаме или симпатии к маоистскому Китаю, – нисколько не кажется мне удивительным. Восхваление дядюшки Хо или китайских хунвейбинов, распространенное среди нынешней молодежи, вполне созвучно тому безоглядному доверию, которое я в 1925 году заранее готов был оказать участникам движения «Молодой Аннам». Знаете что на самом деле означает вся эта мистика паназиатской освободительной борьбы? Что Бог умер. За восторженным поклонением студентов Сорбонны и Калифорнийского университета Мао Цзедуну, на мой взгляд, стоит не Маркс, а Ницше. Да, Бог умер, и теперь искупления надо ждать не с небес, а от Сына Неба. Именно это я называю мифологией спасительной экзотики…
Мальро поднес руку ко лбу, словно желая вытереть пот. Он перевел дух – и я тоже. Теперь, когда он говорил, его руки будто взмахивали невидимой косой, отбрасывая на землю срезанные колосья. Казалось, в нем тлеет фитиль, от которого каждую минуту взрывается новый бочонок пороха. Я понимал: такая напряженная работа ума не может не сказаться на нервах – так завоеватель взимает дань с побежденного. Его сотрясала дрожь, точно полковника, пристрастившегося к опиуму; казалось, внутри у него прыгает резиновый мячик, ударяясь о ребра. Он видел.Я опять был в Шолоне.
– Вы говорили об аспекте внутренней жизни, – произнес я, хватаясь за соломинку.
– Да, это то же самое, только увиденное с другой стороны. Путешествие на Восток – вот, по моему мнению, симптом, показывающий ослабление позиций иудео-христианского Бога. Первыми эту болезнь подцепили писатели, они мечтали о собственных сказочных дворцах, писали свои «Ватеки»… Зачем, по-вашему, Нерваль и Флобер садились на пароход до Порт-Саида? Это нельзя объяснить одним только влечением к восточным красавицам или отвращением к надоевшему поместью Круассе. Нет, была куда более веская причина – внутренняя пустота, образовавшаяся с исчезновением Бога-спасителя и не заполняемая ничем, кроме рискованных экспериментов со словом. Они отправились на Восток в поисках идолов, читающих мысли, говорящих статуй, кровожадного Молоха и светозарного Зороастра. Тут мы опять пересекаемся с Ницше: Заратустра против Иоанна Крестителя, Дионис против Распятого… Экстаз как путь к истине, дервиши, языческое поклонение Солнцу… Молодые люди, которые сегодня отправляются в Афганистан, по сути, идут той же проторенной дорогой. Знаете, даже доктор Баррес временами смахивал на левантинца, покуривающего кальян. А Олдос Хаксли уже в двадцать девятом году беседовал со мной об индийской мистике… Любопытно, что все упомянутые мною фигуры постепенно занимают места в массовом сознании американцев. Генерал Уэстморленд – это тот же губернатор Коньяк. Молодые люди, которые участвуют в демонстрациях против войны во Вьетнаме, – сыновья моих друзей Монена и Шевассона. А те, кто совершают ритуальное омовение в Ганге, – верные читатели Олдоса Хаксли. Примерно сорок лет назад я был лично знаком со всеми этими людьми: губернатором Индокитая, Моненом и Хаксли. Теперь я – свидетель нынешних событий. Круг замкнулся. Сейчас партия будет разыграна не между Афинами и Иерусалимом, а между Нью-Йорком и Катманду.








