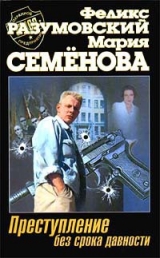
Текст книги "Преступление без срока давности"
Автор книги: Мария Семенова
Соавторы: Феликс Разумовский
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ
– Здравствуй, батя, это я. Нам бы поговорить.
– Объявился, значит, засранец, вспомнил наконец, что родитель у него имеется. Не желаю я с тобой, говнюком, разговаривать. Не о чем.
– Постой, батя, постой, не вешай трубку. О Максиме речь…
– Ты, паразит, все мне врешь, как и про похороны тогда, нет у меня к тебе доверия. Говорил ведь Верке – вытрави плод, послушалась бы – не портил бы ты мне жизнь сейчас, поганое семя.
– Батя, ну не серчай. Давай сегодня поговорим, потом, может, поздно будет.
– А, думаешь, сдохну скоро? Не дождешься, говнюк, я и тебя переживу. Тьфу, пообедать не дал спокойно, как представлю харю твою бесстыжую, блевать тянет. Ладно, только чтобы ты отстал, подваливай сегодня вечером. В квартиру не ломись, все равно не пущу, жди меня на вечернем моционе. Не забыл, где отчий-то дом, засранец?
– Помню, батя, хорошо помню.
– Говнюк ты бессовестный, как только земля тебя носит…
Задушевный разговор по телефону
– Так, говоришь, машина для убийства? – Снегирев посмотрел в окно на задумчиво курившего Тему и, усмехнувшись, перевел взгляд на Кольчугина. – Ну и ладно, хорошо то, что хорошо кончается.
А началось все третьего дня, и, как это обычно у нас бывает, с беспредела. В кольчугинское заведение явились молодые люди в спортивных шароварах «адидас» и пожелали пообедать в кафе – плотно, с водочкой, а главное дело, на халяву, в случае отказа грозя жестоко отомстить. Кормить их, понятно, не стали, а под вечер молодцы вернулись и слово свое сдержали, поломав кое-чего из мебели и побив кое-чего из посуды. Днем следующим они пожаловали снова и начали просто ставить заведение на уши. Однако получилось так, что их самих поставили конкретно в позу прачки.
Ибо как раз в это время к Кольчугину наведался ультраправый россиянин Тема, жаждавший свежих новостей про невесту. Не узнав ничего нового, он загрустил. Прибывшего с ним вместе радикала Мамонта также кинуло в тоску, и, когда в кафе заявились рэкетиры, долго скинхэды раздумывать не стали. Тема после выписки ходил с напоминавшей самурайский посох тростью, кореш его лелеял на груди мотоциклетную цепь с приваренной для основательности гирей, так что вместо кольчугинского интерьера затрещали ребра беспределыциков. Не прошло и пяти минут, как они потерпели сокрушительное фиаско.
Взамен обеда на халяву налетчикам пришлось проблеваться кроваво, за сломанную мебель им самим обломали рога, а для компенсации ущерба Мамонт выгреб содержимое их карманов и пообещал каждого рэкетмена сделать педерастом, если паче чаяния кто сунется еще раз.
– Так что теперь Тема у меня в штатном расписании. – Невесело улыбнувшись, Кирилл подлил Снегиреву сока и, скомкав, выбросил пустой тетрапак в урну. – Если есть кабак, то должен быть и вышибала. В России живем.
Он здорово изменился за последнее время – в сплошной рыжине возникли белые нити, под глазами – мешки, а сами глаза потеряли блеск.
– Штатное расписание, название-то какое. – Снегирев приложился к стакану и, улыбнувшись, подмигнул Кириллу: – Может, хрен с ним, со штатным-то расписанием, господин капиталист? Гражданку одну надо трудоустроить…
– Да ну тебя, Алексеич, скажешь тоже – «капиталист». – Кольчугин непритворно удивился и пожал обтянутыми джемпером плечами. – На автосервисе больших денег не заработаешь, если, конечно, ворованными машинами не заниматься. А что за гражданка-то? Молоденькая?
– Бальзаковского возраста, вон Теме в матери годится. – Снегирев глянул на календарную диву, в одних лишь только туфельках оседлавшую мотоцикл, и вытер сладкие от сока губы. – Инженер-биохимик. Ни кола ни двора.
– Жить негде? – Кирилл почему-то обрадовался, и поперечная морщина на его лбу разошлась. – Так это, может, еще и лучше. Хочу приспособить бомбоубежище под выращивание вешенки, знаешь, грибы такие, вот пусть она и занимается. И для житья там места хватит: вода, сортир – все есть. Только это, сам понимаешь, не раньше чем через неделю в лучшем случае…
– А раньше ее из больницы и не выпишут. – Снегирев допил сок и, не замечая выражения кольчугинских глаз, легко поднялся. – Спасибо, вишневый самый вкусный.
Ему понравилось, что Кирилл на этот раз ничего не спросил о своей сестре. Потому что сказать ему пока было нечего.
На улице было так себе. Порывистый ветер шуршал опавшей листвой, небо хмурилось, а гражданки, даже те, что помоложе, коленки на всеобщее обозрение уже не выставляли. Что делать, близилось «пышное природы увяданье».
«Обосралась птичка божья». На лобовом стекле было све-же и обильно нагажено, и, восстановив его прозрачность, пока небесный привет не затвердел, Снегирев тронул «мышастую» с места. «А как там у пенсионеров со стулом?»
Вытащив «Нокию», он набрал номер Степана Порфирьевича Шагаева, биппером включил магнитофон и, послушав, как общался отставной прокурор со своим сынком-генералом, почему-то вспомнил гоголевского карбонария Бульбу, – чем я тебя породил, тем я тебя и убью.
«Отцы и дети, спор поколений». Глянув на часы, он выехал на Загородный, увернулся от выползавшего с остановки «Икаруса» и, приняв влево, энергично порулил вдоль трамвайных путей. «И чего они не поделили?» На Литовском машин было мало, все больше стояли барышни, предлагали красиво расслабиться, но пока что-то никому не хотелось. Быстро темнело, по улицам сновали желтые «УАЗы» с наглыми полупьяными омоновцами, и жрицы любви предавались пессимизму: ах, видно, и взаправду клиент окончательно измельчал.
Когда, миновав окаменевший фаллос «мечты импотента», Снегирев выехал на Старо-Невский, начал накрапывать дождь – противный, моросящий, по-настоящему осенний. На лобовом стекле «мышастой» заиграли радужные блики, мокрые куртки гаишников заблестели, как кошачьи яйца, и, забившись под карнизы, голуби воркующе законстатирова-ли: погода нелетная, лету хана.
«Буря мглою небо кроет?» Снегирев ушел с Суворовского на Вторую Советскую, развернулся и поставил «Ниву» почти напротив дома, в котором обретался на покое отставной прокурор. «Ну и как там на заслуженном отдыхе?»
Биппером активировал «подзвучку», включил радиосканер и, прибавив громкость, понимающе ухмыльнулся: «Очень удобно, не погрешишь – не покаешься. Лучший путь для мокрушников в рай – это искреннее раскаяние в старости. С чистой совестью на свободу. Вот бы нам так…»
– «Если сыновья твои согрешили перед Ним, то Он и предал их в руку беззакония их, если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю…» – Степан Порфирьевич медленно читал вслух ветхозаветные откровения Иова.
Минут через двадцать, пресытившись, видимо, пищей духовной, он встал, распахнул холодильник, и было слышно, как ударилось стекло о стекло – «ну-ка посошок на дорожку». Крякнул громко, захрустел чем-то смачно, а в это время на Второй Советской показалась «бээмвуха» и, сверкнув фарами, замерла через дорогу напротив «Нивы» – черная как смоль, приземистая, чем-то напоминающая аллигатора с купированным хвостом.
«Ага, похоже, блудный сын явился. – Снегирев сразу откинулся на пассажирское сиденье и, не поднимая головы, вытащил напоминавший трость микрофон направленного действия. – С ним ухо надо держать востро». Между тем было слышно, как Степан Порфирьевич возится с замком в прихожей, бухнула входная дверь, и в квартире стало тихо, только махали маятником настенные, видимо, старинные часы.
«Отец семейства, чай, выпить не дурак. – Нацепив головные телефоны, Снегирев сориентировал микрофон и, включив усиление, сразу же услышал во дворе старческую поступь, сопровождаемую стуком палки об асфальт. – А во хмелю, чувствуется, буен».
– Тьфу, нечисть. – Топнув на подвернувшуюся мурку, Степан Пофирьевич пошаркал дальше, а в это время дверца «бээмвухи» хлопнула и послышался приятный, поставленный отлично голос:
– Здравствуй, батя! Может, в машину пойдем, дождь все-таки?
– Машина мне твоя ни на хрен не нужна. – (Удары палкой об асфальт стали слабеть, и Снегирев подкорректировал ориентировку микрофона.) – Ленька, засранец, толком говори, чего надо, и не мешай гулять, не видишь, моцион у меня.
– Батя, Максим умер, – генеральский голос звучал ровно и без скорбных обертонов, – пьяный выпал из окна, с пятого этажа.
– Опять ты мне врешь, чертов говнюк. – (Шарканье подошв прекратилось, и раздался хриплый, надсадный кашель.) – Как и с похоронами тогда. Знаю, к чему ты клонишь, паразит…
– Вот, батя, взгляни. – (Щелкнули застежки папки, и послышался бумажный шелест.) – Вот фотографии с места происшествия, заключения экспертов о причине смерти, данные следственного эксперимента. А вот протокол опознания, подписанный хирургом, делавшим Максиму операцию. Из Швейцарии привозили. Я специально не говорил тебе ничего, пока сам полностью не убедился.
– Вранье все, не верю. – (Палка яростно ударилась об асфальт, и кашель сделался еще надсаднее.) – Ты могилу материнскую, гад, разрыл, чтобы сережки с покойницы снять, что тебе стоит бумажонку состряпать…
– Да ладно тебе, батя, – генерал понизил голос и, похоже, улыбнулся, – сам знаешь, кто старое-то помянет… А сережки, что ты мамане подарил, к слову сказать, оказались из царских закромов. Так же как и портсигар, который Максим у тебя выпросил, я проверял. А насчет его самого не сомневайся, мертвый он, мертвее не бывает. По его пластиковым картам хмырь один уже две недели на Канарах отоваривается, приедет, будем с ним разбираться. Да только не о том речь. – Генеральский голос стал вкрадчивым. – Батя, я вот чего: Максима не вернешь, а время идет. Ну скажи, где оно, не дай Бог случится с тобой чего, и пропадет все к чертовой матери, достанется кому-нибудь. Батя, скажи.
– А это ведь ты его, Ленька, убил, сына-то родного! – Голос Степана Порфирьевича вдруг задрожал от ярости, и, свистнув в воздухе, палка ударилась обо что-то мягкое. – Думал небось, вместо Максимки я тебе клад открою? Хрен.
Снова свистнула палка, и, сдавленно охнув, генерал уронил папку, но тут же рассмеялся неожиданно зло:
– Расскажешь, батя, все расскажешь.
– Как, на отца родного руку поднял? – От сильного удара экс-прокурор застонал, а в это время дверца «бээмвухи» хлопнула.
– Тихо, плесень, не вошкайся, – послышался незнакомый насмешливый голос.
– Колун, в машину его! – Разъяренный генерал не говорил, а хрипло выдаивал слова, и, понимая, что контрнаблюдения не будет, Снегирев осторожно приложился к биноклю: «Так вот каков знаменитый спец по мокрухе».
На другой стороне улицы одетый в кожу крепыш быстрым движением поднял с колен седобородого старца, не обращая внимания на надсадные хрипы, повел его под руку к «бээмвухе» – на цыпочках, удерживая болевой предел.
– Ленька, гад, ты чего творишь, чертово семя? – Дернувшись, отставной прокурор внезапно обмяк.
– Похоже, готов. Сердце не выдержало. – Провожатый покосился на генерала.
– Готов? – Тот внезапно пришел в ярость и, ухватив покойного за воротник, с бешеной силой принялся трясти его: – Говори, говори, говори… – Глаза его выкатились, на губах появилась пена, и он стал похож на вампира, застигнутого солнцем.
– Это вряд ли, он холодный. – Тот, кого называли Колуном, далеко сплюнул сквозь зубы и холодно посмотрел на генерала: – Куда его?
– Человеку стало плохо на прогулке. Поехали отсюда. – Придя в себя, Шагаев перестал тревожить тело своего отца, «бээмвуха» взревела двигателем и исчезла.
Поди-ка догони ее – «семьсот сороковую», исходящую ревом сирен, с проблесковым маячком на крыше. Да ни в жизнь.
«Добрый вечер, дорогой друг! „Семьсот сороковая“ „БМВ“ с госномером таким-то в природе не существует…»
ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ
То, что было
Фрагмент седьмой
– Значит, доезжаете до Окуловки, – женский голос на другом конце линии был гнусав и полон надежды, – оттуда по утрам ходит подкидыш до Топорка. Минут сорок идет. А уж от Топорка километрах в тридцати Марьино и находится. Сейчас хорошо, дорога просохла. А в Марьине спросите, где дом Тепловой Анны Федоровны, покойницы, зайдите посмотреть, двери там не запирают. Обязательно съездите, – голос сделался елейно-приторным и заискрился ожиданием чуда, – лес, озеро, места замечательные. А о цене договоримся…
– Спасибо, я подумаю. – Шалаевский повесил трубку и, глянув на часы, выбрался из телефонной будки. «Лес рядом, это хорошо, может, в партизаны мне податься?»
На душе у него было так себе. Железнодорожный вояж прошел хоть и без осложнений, но безрадостно. У попутчиков оказался плод страсти, грудной и весьма голосистый, поезд прибыл в Пальмиру ни то ни се – ранним утром, а это самое утро выдалось туманным и хмурым. А вообще-то в северной столице, не в пример первопрестольной, было тихо и благородно. Переставляя враскорячку натруженные ноги, тянулось по домам уставшее шкурье, бомжи, бледно-синие со вчерашнего, нехотя выползали на кормление, а станционные менты – гладкие, лоснящиеся, чем-то похожие на зажравшихся котов – сыто жмурились и на бездомных внимания не обращали: голь перекатная, что с них взять, кроме головных болей?
«Деревня Марьино, крестьянка Анна Федоровна, неплохое сочетание» В сортире при вокзале Шалаевский почистил зубы, умываться, чтобы, Господи упаси, не повредить мохнорылость, не стал и отправился в буфет завтракать.
– Девушка, сосиски с рисом, два беляша, чай. – Особого аппетита Лаврентий Павлович не испытывал, однако, чтобы жить, необходимо есть, а умирать пока что он не собирался. – И вот эту шоколадину, с Кремлем.
От сладкого, говорят, улучшается настроение. А было оно у Шалаевского странным – ни плохим, ни хорошим, а никаким. Будто звенящая пустота внутри, шарик воздушный, готовый лопнуть, гудящий от натяжения трос, который вот-вот порвется. Лаврентий Павлович вдруг отчетливо понял, что нет для него уже ни государства, ни закона, а существует только воля его и священное право сильного – брать.
«Набрехал, значит, классик-то. – Он откусил сосиску и, зачерпнув вилкой рис, принялся задумчиво жевать. – Можно, оказывается, жить в обществе и быть от него свободным. Тем более если представляет оно собой огромную кучу гов-на». Он съел беляши, через силу потребил шоколадину и, не почувствовав на сердце особых перемен, двинулся за билетом до Окуловки.
Путь предстоял тернистый, с пересадкой в Малой Више-ре, и, купив в дорогу тоненькую книжицу с интригующим названием «Смех сквозь слезы», Шалаевский устроился в электричке у окна – невообразимо грязного, слава Богу, что без решеток.
Анекдот. "В психбольнице.
– Доктор, Каменев из второй палаты Ленина бьет!
– Где ж он был, сволочь, в семнадцатом году?"
Еще один. "Ленин в семнадцатом году:
– Товарищи, революция отменяется! Товарищ Дзержинский отчалил на рыбалку!
– Фигня! Управимся и без Дзержинского!
– Без него, может, и справимся, а вот без «Авроры» навряд ли".
За пыльными стеклами хмурился ненастный день, мчались в бешеной гонке столбы, и необъятная, на полсвета, проплывала земля Российская – почерневшие, словно от горя, срубы, ворота, подпертые жердями, покосившийся штакетник вокруг хибар.
Все серое, ветхое, без просвета. Родина, мать!..
В Окуловку Шалаевский попал ближе к вечеру – охренев-ший от контрреволюционного чтива и монотонности ланд – ч шафтов за окном вагона. Очень хотелось есть, и, выбравшись на перрон, он первым делом направил свои стопы на кормоба-зу при вокзале. Ресторация была без претензий – не возбранялось пить до поросячьего визгу, общаться громко и по-матери, а будет в том нужда, уткнуться харей в свеженакрошенный салат «Московский».
– Закончилась солянка, лапшу возьмите по-монастырски. – Крашенная хной официантка, шкапистая, с герпе-сом на губе и тонким пониманием жизни в глазах, приняла у Шалаевского заказ и вскоре принесла ту самую лапшу, мясо по-боярски с грибами и кувшинчик клюквенного кваса. – Счастливо подхарчиться вам.
Все сразу, на одном подносе, хорошо хоть не в одной посудине. Врезала слегка клиенту по ушам – так, детишкам на молочишко, отсчитала сдачу и, скользнув неодобрительным взглядом по паршивой Лаврентия Павловича бороден-ке, отрулила на кухню, – Господи, до чего же мужик-то страхотный!
Странно, но лапша была наваристой, мясо таяло во рту, и, напившись до отвалу кваса, Шалаевский внезапно почувствовал прилив оптимизма. А может, не так уж все и плохо? Сейчас он устроится в гостиницу на ночлег, завтра поедет в Марьино и в качестве нового хозяина заляжет в доме покойной Анны Федоровны. Кто проверять будет, купил и купил. Главное, выждать время, осмотреться, а там видно будет – и с документами, и с извечным вопросом, как жить дальше. Вот уж правда, надежда умирает последней. Вытерев губы туалетной, нарезанной на манер салфеток бумагой, он вышел с кормобазы и направился в центральный квартал Окуловки, где, по рассказам аборигенов, находились гостиница, кинотеатр и оплот местной демократии.
Миновав перрон, Шалаевский спустился по ступенькам на землю, и в глаза ему сразу же бросились грозные буквы плаката: «Стой! По путям не ходить. Опасно для жизни!» «А куда ходить?» Он огляделся по сторонам и, заметив на фоне неба подвесной переход, до которого было топать и топать, не раздумывая двинулся по шпалам – жить, говорят, вообще вредно.
Где-то свистел маневровый тепловоз, от бурых луж на щебенке знакомо пахло танковым парком, и Шалаевский не сразу понял, что три фигуры впереди направляются по его душу. Одна в милицейской форме, другая в железнодорожной, а на третьей был напялен пиджачишко со свекольной повязкой на рукаве, украшенной надписью «Контролер».
– Документы. – У мента были две «сопли» на погонах, шея в прыщах и паршивые рыжеватые усики, а когда он взялся за паспорт Шалаевского, обнаружилось, что ногти у него сплошь изъедены грибком. – Так, Березин Дмитрий Александрович. Почему нарушаете, гражданин? За хождение по путям положен штраф! Пройдемте-ка в отдел, будем составлять протокол.
Он легонько ухватил нарушителя за локоть, железнодорожник одобрительно кивнул давно не стриженным черепом, а контролер-общественник икнул и авторитетно подтвердил:
– В натуре.
– Мужики, протокол-то зачем? – Шалаевский раздвинул мохнорылость в понимающей улыбке и, изобразив всем видом крайнюю доброжелательность, незаметно подмигнул сержанту – Что мы, не люди, что ли? Раз виноват, отвечу, на хрена еще бумагу-то марать..
– Гм. – Многозначительно хмыкнув, общественник глянул на железнодорожника, тот покосился на мента, а милицейский посмотрел наверх, где кучковалась на переходе любопытствующая публика, и крепче ухватил задержанного за локоть:
– Что значит «не надо протокола»? Мы взяток не берем, все знают.
– В натуре. – Обиженно шмыгнув носом, общественник тягуче сплюнул, а лохмач в фуражке подтолкнул Шалаевского в спину.
– Двигай, мужик. Из-за таких, как ты, поезда сходят с рельсов.
– Ну надо так надо. – Пожав плечами, тот посмотрел на любознательный народ на переходе и, в корне задавив желание размазать конвоиров по щебенке, побрел в их окружении к вокзалу. – Я чего, мужики, против разве?
В помещении линейного отдела было неуютно – шумно, суетно и вонюче. Пахло табачным дымом, бомжами и блевотиной. Заливисто храпел в «тигрятнике» бухой рыболов-охотник, словивший по рогам интеллигент пускал кровавые сопли и жаловаться прокурору, похоже, передумал, а возбухавший было военмор уже заполучил в пятак и тихо дожидался представителя комендатуры, – так-то, милый, командуй у себя на барже.
– Вот здесь посиди пока. – Сержант подтолкнул Шалаевского к скамье у входа и, ухмыляясь, двинулся к барьеру, за которым восседал немолодой уже старшина помдеж. – Митрич, выпиши-ка ему на всю катушку, взятку, гад, хотел дать, оформлять, говорит, не надо…
– Ну и взял бы, не доставал бы меня хреновиной всякой. – Тот с мрачным видом вытащил бланк протокола и, покосившись на сержанта, вздохнул: – Уже месяц форму носишь, а все щегол щеглом, клювом щелкаешь. Вот, поучился бы, как работать-то надо. – Он с отвращением отпихнул паспорт в сторону и, чиркнув спичкой, шумно затянулся. – Васька Гусев только что трофейщика слепил, взял с поличным, полный рюкзак стволов. Задал операм работу. – Он махнул рукой в сторону таблички на двери: «Инспектора» – и, ткнув окурок в переполненную пепельницу, презрительно уставился на рыжеусого: – А ты только и знаешь, что мудаков всяких таскать, от которых писанина одна. Зачем они нужны, если все идет в башню? – Он показал рукой наверх, дождался, пока рыжеусый с подручными отчалит, и, разломив паспорт надвое, мрачно глянул на Шалаевского: – Эй, Березин, ближе подойдите. Что ж вы нарушаете, грамоте вас, что ли, не учили? Везде написано: по путям не ходить, а вы все прете, даром что москвич…
Внезапно он замолчал, прищурился, и в голосе его появились грозные нотки:
– Ну-ка очки снимите, повернитесь, э, да это же не ваш паспорт-то! Павел Ильич! – Окликнув дежурного по отделу, он начал подниматься из-за стола, но не успел – с легкостью перемахнув через барьер, Мочегон глубоко вогнал ему в ухо шариковую ручку.
– Ты чего, Митрич? – Подйяв глаза от бумаг, молодой, но уже лысеющий старлей лихо развернулся на стуле, и последнее, что он узрел в своей жизни, был чугунный кулак, раздробивший ему носовую кость, так что острые осколки проникли в мозг.
«Сидеть. – Поддержав обмякшее тело, Мочегон убрал многострадальный паспорт в свой карман и, дернув из-за пояса ПБ, что означало ствол бесшумный восьмизарядный, дослал в патронник девятимиллиметровый патрон. – Заварилась каша…» И еще какая!
– Паша, как у нас с транспортом? – Дверь с надписью «Инспектора» открылась, и появившийся в дежурной части крепыш без промедления схватился за ПМ – сразу врубился, опер все-таки.
Пук – с легким хлопком, будто книгу уронили на пол, пуля вошла ему между глаз, звякнула отстрелянная гильза, и, сноровисто ухватив жмура за галстук, убийца мягко приземлил его, – «баюшки-баю, встретимся в раю».
– Коля, тебя жена к телефону. – Из кабинета оперов выглянул лобастый дядька, и, положив его прямо на пороге, Мочегон незваным татарским гостем проскользнул внутрь. «Вот оно, горе от ума, пол будет не отмыть от мозгов…» За инспекторской дверью находились два стола, сейф и прикованный к трубе россиянин.
– Не шмаляй, у меня лайба рядом. – Тот был бледен, жилист и совсем не дурак. – Говорю, нихт шизен, если что, помогу с документами.
– Твое? – Мочегон обвел взглядом «парабеллумы» на столе и, наклонившись к безмозглому оперу, принялся шмо-нать его. – Воевать собрался?
– Другие собрались. – Прикованный пожал плечами и звякнул наручниками о трубу. – Машина в двух шагах. Уйдем вместе.
– Было бы куда. – Мочегон отомкнул «скрепки» и, дернув за рукав, поставил нового знакомца на ноги. – Веди. Если что, я не промахнусь.
– Момент.
Выдержка у того была что надо. Он кинулся к незапертому сейфу, извлек не первой свежести рюкзак и принялся грузить в него оружие со стола. «Даром, что ли, парился здесь!» Достал ПМ из кобуры убитого, дослал патрон и, сдвинув язычок предохранителя, сунул ствол за пояс – пригодится, дорога длинная.
На улице уже сгустился вечер, фонари горели через одного, и, миновав перрон, спутник потянул Мочегона к зловещему транспаранту: «По путям не ходить». Двинулись по ним быстро и в молчании, а на полдороге случилось то, о чем Шалаевский только и мечтал последние два часа. Впереди замаячил желтый луч фонарика, затем появилось трио станционных богатырей, и тот, что был из рода легавого, возвестил:
– Стой! Милиция! По рельсам не ходить, – а признав Шалаевского, охренел: – Значит, пошел на принцип, мужик? Пойдешь у меня на пятнадцать суток!
Фонарь сержант держал неграмотно, отчетливо определяя свои зоны поражения, и, с наслаждением кастрировав его сильнейшим поддевающим ударом, Мочегон проломил висок железнодорожнику и до кучи вышиб челюсть активисту с повязкой. Все это стремительно, с предельной концентрацией, только резкие выдохи да хруст щебенки под ногами – жуть! И снова дорога вдвоем, в молчании, под звяканье железа в рюкзаке.
– Да, на гуманиста ты не тянешь. – Наконец, обогнув по большой дуге привокзальную площадь, спутник вывел Шалаевского к зеленой «девяносто третьей», снял ее с охраны и, уже тронувшись с места, показал желтые прокуренные зубы. – И это правильно. Люди – звери.
– Очень даже. – Шалаевский осторожно попробовал, хмыкнул и одобрительно посмотрел на своего нового знакомца. – Похоже на борщ.
Звали того Петруччио, по-нашему Петей, по профессии он был отставной комсюк и, несмотря на это, Лаврентию Павловичу нравился. Он ругал по-черному коммунистов, крыл трехэтажным матом демократов и вообще называл всех людей сволочью. Зато не обманул и сделал классные корки на имя Колунова Трофима Ильича, который жил себе до перестройки в Приднестровье, а затем подался куда глаза глядят. Давайте, менты, проверяйте.
В городе пока не светились, торчали в садоводстве под Лугой – общались с природой-мамой; выпив водки, драли по очереди безотказную соседку Верку, и Шалаевский все никак не мог въехать, какого хрена Петруччио от него надо.
Казалось бы, все ясно: вот тебе, кореш, ксива за отмазку, сколько-то денег на подъем, и линяй себе куда знаешь. Нет, говорит, живи сколько хочешь, все у нас с тобой, брат, в перспективе.
Туманная перспективка-то: «Товарищ, товарищ, не видно ни зги! – Идите вперед, не е…те мозги».
Петруччио разливал «Посольскую», Шалаевский наполнил миски борщом и, не чокаясь, хватанул залпом. «Холодненькая, а душу греет. За удачу». Зажевали салом с чесночком, повторили, и, посыпая хлеб крупной солью, принялись хлебать борщ, наваристый, с золотистыми колечками жира. Дуя на пальцы, потащили из углей печеные картофелины, разложили на газетке перламутровую на разрезе скумбрию и, приговорив водочку, стали пить чай – с малиновым вареньем, под разговор.
– Вообще-то ведь существовало два вида раскопщиков – красные, блин, следопыты и черные. – Петруччио уже закрепило, и, вспоминая свое славное комсомольское прошлое, он скривился. – Красные делали все официально, а черных интересовало только оружие и ценности. По большому-то счету все это фигня. – Он посмотрел на языки пламени в печке, потом перевел взгляд на Шалаевского и потряс в воздухе пальцем. – На раскопках поднимались все, это я тебе как бывший инструктор райкома говорю. Курировавший, блин, красных следопытов. Ну а черных тогда никто не курировал, их менты ловили. Иногда комитет, если очень ценное что или важное. А сами черные делились на категории. – Петруччио, как ему казалось, для наглядности, выкинул вверх три пальца, пристально посмотрел на них и мощно икнул. – Первая – это «чердачники», они ходили по деревням и собирали, а иногда скупали оружие и трофеи у местных. Следующая категория – «помой-щики», раскапывавшие немецкие помойки. Фашистские гады грабили музеи и обставляли свои блиндажи фарфором, хрусталем и еще черт знает чем, причем если барахло билось или не нравилось, его выбрасывали. И не куда-нибудь, а в специально вырытые ямы – немцы народ аккуратный. Ну а самая многочисленная категория – это «копалы». Эти рыли все: землянки, окопы, кладбища, хоть наши, хоть немецкие, – вообще трава не расти…
Он удрученно посмотрел на порожнюю бутылку, поднялся было за другой, но передумал и подлил себе заварки.
– Копать не сложно. Трудно найти, а еще труднее продать, особенно оружие. Ты сам видел, вез-то я всего ничего, десяток стволов, специально, блин, на поезде ехал, а что получилось! Кто мог знать, что на перроне мент с металло-искателем окажется! А если не десять стволов толкать, а десять тысяч? – Петруччио отхлебнул из кружки, вытер вспотевший лоб и, посмотрев на подживающее ухо Шалаевского, шумно выдохнул: – В общем, такая тема. Давно еще, при коммунистах, познакомился я с дедом одним, из деревухи под Новгородом. Сам он из кулаков, в войну перешел на сторону немцев, был полицаем, затем старостой, ну а крас-ножопые его, естественно, в лагере промурыжили.
Так вот, за ящик водки этот самый старец презентовал мне план расположения немецких складов в Новгородской области. Оружейных большей частью. Некоторые из них уже отрыли, кое-чего я сам продал потихонечку, но в основном до недавнего времени все они стояли не при делах, – куда сразу столько оружия девать? А мелочевка, сам знаешь, к чему приводит.
– Да уж представляю. – Шалаевский внезапно развеселился и, легко сломав о колено лесовину толщиной в руку, запихал половинки в печку. – К стрельбе на поражение.
Сейчас, находясь в безопасности, с полным желудком, он был все же больше человек, чем зверь, и мог позволить себе такую роскошь, как смех.
– Интересно, пол они от ментовских мозгов отмыли?
– Так вот, брат, – почему-то побледнев, Петруччио сглотнул слюну и отставил кружку с чаем в сторону, – недавно прорезались люди, черные, которым нужно много оружия. Очень много. Очень серьезные люди, вроде тебя…








