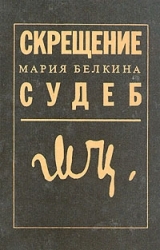
Текст книги "Скрещение судеб"
Автор книги: Мария Белкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Странно, но там, в кабинете столь влиятельного и прославленного в те годы писателя, автора романа «На Востоке», в котором он поет осанну Сталину, – она не доказывает своего права на жилплощадь в Москве, на какие-то жалкие метры, чтобы было где поставить стол и две койки, чтобы была крыша над головой!
Что ей мешает? «Гордость и робость – родные сестры…» Это?! Или ее пленяет, завораживает галантное обращение Павленко?
Но спустя день или два она будет доказывать это свое бесправное право на Москву Меркурьевой, старой, беспомощной, которая уже и вовсе ничем помочь не может! Когда-то она писала стихи, теперь подрабатывает переводами и проводит лето «на травке» в селе Черкизово.
Приведу сначала письмо самой Меркурьевой, на которое отвечает Марина Ивановна:
Ст. Пески – Коломенские
Ленинск. жел. дор.
село Черкизово,
погост Старки
д. Корнеевой.
24. VIII.40
Марина Ивановна, дорогая, посылаю, с надежным человеком Вашу – невольно задержанную – книгу.
Какой я Вас в ней увидела. Вы доталкиваетесь, добираетесь, с усилиями, сквозь толщу препятствий, загородок – к чему-то очень своему, близкому, глубокому, далекому. Вы не верите, что не пускают – и стучитесь, доверчиво и безнадежно в то же время. Трудно писать о таком, говорить легче, хотя нелегко тоже. Вы – одна из труднейших, потому что пытаетесь тронуть что-то не только за поверхностью, но и до, что-то первичное, до сознания. Жаль, не приехали Вы сюда, здесь можно лежать – на припеке, а то в тени – и урывками сказать настоящее слово. А теперь уже поздно, да?
Как у Вас с квартирой? Вещи пришли – хорошо, но не вовремя – куда их уставлять? Все-таки Вы где-то помещаетесь, не теряйтесь же, сообщите мне адрес. Пока направляю к Вам с этим по старому адресу соб. приятельницу – Нину Павловну Збруеву, хорошую женщину, мож. быть, она Вам сможет в чем-нибудь помочь. В ее добром желании можно не сомневаться.
Мы здесь живем на травке, я почти не двигаюсь, Инна Григорьевна мало, она все прибаливает. Но здесь, на чистом воздухе и в тишине, болезни легче выносятся, дурные настроения тоже; они как-то растворяются в окружении мирной природы и домашних зверей. Останемся здесь – я до конца сентября, если позволит осень, Кочетковы – дольше, до холодов, иногда до снега. По приезде увидимся – надеюсь, немедленно. Инна Григ. шлет Вам и Муру, неотделимому от Вас, привет. Александр Серг. еще в Кисловодске, ждем его в начале сентября. Я рада, что Вы их узнали – рада за них.
До свидания, Марина – чудесное имя.
Ваша Вера Мерк.»
«Москва, 31-го августа 1940 г.
Дорогая Вера Александровна,
Книжка и письмо дошли, но меня к сожалению не было дома, так что я Вашей приятельницы не видела. Жаль. Для меня нет чужих: я с каждым – с конца, как во сне, где нет времени на предварительность.
Моя жизнь очень плохая. Моя нежизнь. Вчера ушла с ул. Герцена, где нам было очень хорошо, во временно-пустующую крохотную комнатку в Мерзляковском пер. Весь груз (колоссальный, все еще непомерный, несмотря на полный месяц распродаж и раздач) оставили на ул. Герцена – до 15-го сентября, в пустой комнате одного из профессоров. – А дальше???
Обратилась к заместителю Фадеева Павленко – очаровательный человек, вполне сочувствует, но дать ничего не может, у писателей в Москве нет ни метра, и я ему верю. Предлагал загород, я привела основной довод: собачьей тоски, и он понял и не настаивал. (За городом можно жить большой дружной семьей, где один другого выручает, сменяет и т. д. – а так – Мур в школе, а я с утра до утра – одна со своими мыслями (трезвыми, без иллюзий) – и чувствами (безумными, якобы– безумными – вещами), – переводами, – хватит с меня одной такой зимы.
Обратилась в Литфонд, обещали помочь мне приискать комнату, но предупредили, что «писательнице с сыном» каждый сдающий предпочтет одинокого мужчину без готовки, стирки и т. д. – Где мне тягаться с одиноким мужчиной!
Словом, Москва меня не вмещает.
Мне некого винить. И себя не виню, п.ч. это была моя судьба. Только – чем кончится?
Я свое написала. Могла бы, конечно, еще, но свободно могу не. Кстати, уже больше месяца не перевожу ничего, просто не притрагиваюсь к тетради: таможня, багаж, продажи, подарки (кому – что), беганье по объявлениям (дала четыре – и ничегоне вышло) – сейчас – переезд… И – доколе?
Хорошо, не я одна… Да, но мой отец поставил Музей Изящных Искусств – один на всю страну – он основатель и собиратель, еготруд – 14-ти лет – о себе говорить не буду, нет, все-таки скажу – словом Шенье, его последнимсловом: – Et pourtant il у avait guel-que chose lá… [59]59
Все-таки здесь что-то было ( фр.).
[Закрыть](указал на лоб) – я не могу, не кривя душой отождествлять себя с любым колхозником – или одесситом – на к-го тожене нашлось места в Москве.
Я не могу вытравить из себя чувства – права. (Не говоря уже о том, что в бывш. Румянцевском музее тринаши библиотеки: деда: Александра Даниловича Мейна, матери: Марии Александровны Цветаевой, и отца: Ивана Владимировича Цветаева. МыМоскву – задарили. А она меня вышвыривает: извергает. И кто она такая, чтобы предо мной гордиться?
У меня есть друзья, но они бессильны. И меня начинают жалеть (что меня уже смущает, наводит на мысли…) совершенно чужие люди. Это – хуже всего, п.ч. я от малейшего доброго слова – интонации – заливаюсь слезами, как скала водой водопада. И Мур впадает в гнев. Он непонимает, что плачет не женщина, а скала.
… Единственная моя радость – Вы будете смеяться – восточный мусульманский янтарь, к-рый купила 2 года назад на парижском «толчке» – совершенно мертвым, восковым, покрытым плесенью, и который с каждым днем, на мою радость, оживает – играет и сияет изнутри. Ношу его на теле, невидимо. Похож на рябину.
Мур поступил в хорошую школу, нынче был уже на параде, а завтра первый день идет в класс.
…И если в сердечной пустыне,
Пустынной – до краю очей,
Чего-нибудь жалко – так сына:
Волченка – еще поволчей…
(Это – старые стихи. Впрочем, все старые. Новых – нет.)
С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности: меня– все меньше и меньше, вроде того стада, к-ое на каждой изгороди оставляло по клочку пуха… Остается только мое основное нет.
Еще одно. Я от природы очень веселая. (М. б. это – другое, но другого слова нет.) Мне оченьмало нужно было, чтобы быть счастливой. Свойстол. Здоровье своих. Любая погода. Вся свобода. Все. – И вот – чтобы это несчастное счастье – та́к добывать, – в этом не только жестокость, но и глупость. Счастливому человеку жизнь должна – радоваться, поощрять его в этом редкомдаре. Потому что от счастливого – идет счастье. От меня шло. Здорово шло. Я чужими тяжестями (взва́ленными) играла, как атлет гирями. От меня шла – свобода. Человек – в душе – знал, что выбросившись из окна – упадет вверх. На мне люди оживали, как янтарь. Сами начинали играть. Я не в своей роли – скалы под водопадом: скалы, вместе с водопадом падающейна (совесть) человека… Попытки моих друзей меня растрагивают и расстраивают. Мне – совестно, что я еще жива.
Так себя должны чувствовать столетние (умные) старухи…
Если бы я была на десять лет моложе: нет – на пять! – часть этой тяжести была бы – с моей гордости– снята тем, что мы для скорости назовем – женской прелестью (говорю о своих мужских друзьях) – а так, с моей седой головой у меня нет ни малейшей иллюзии: все, что для меня делают – делают для меня– а не для себя… И это – горько. Я ТАК привыкла – дарить!
(NB! Вот куда завела – «комната»)
Моя беда в том, что для меня нет ни одной внешнейвещи, все – сердце и судьба.
Привет Вашим чудным тихим местам. У меня лета не было, но я не жалею, единственное, что во мне есть русского, это – совесть, и она не дала бы мне радоваться воздуху, тишине, синеве, зная, что, ни на секунду не забывая, что – другой в ту же секунду задыхается в жаре и камне.
Это было бы – лишнее терзанье.
Лето хорошо прошло: дружила с 84-летней няней, живущей в этой семье 60 лет. И был чудныйкот, мышиный, египтянин, на высоких ногах, урод, но божество. Я бы – душуотдала – за такую няню и такого кота.
Завтра пойду в Литфонд («еще много-много раз») – справляться о комнате. Неверю. Пишите мне по адр.: Москва, Мерзляковский пер., д.16, кв.27.
Елизавете Яковлевне Эфрон (для М.И.Ц.)
Я здесь не прописана и лучше на меня не писать.
Обнимаю Вас, сердечно благодарю за память, сердечный привет Инне Григорьевне.
МЦ.»
А спустя две недели, 14 сентября, доведенная уже до крайности своим безвыходным положением, Марина Ивановна раздражается гневным монологом все по тому же поводу, в адрес той же Меркурьевой и все не по томуадресу! А каким мог быть тот адрес? Марина Ивановна понимала, что она бесправна в этом нашем мире, она – глас, вопиющий в пустыне, не более… И все же нервы не выдерживают, и должна быть какая-то разрядка, невозможно же бесконечно копить все в себе. И такой разрядкой может и было то письмо, точнее черновик письма, ибо нам неизвестно, перебелила ли его Марина Ивановна, отослала ли или оно так и осталось навечно в той черновой тетради, начатой ею еще в Париже…
«Ответ на письмо поэтессе В. А. Меркурьевой.
(меня давно знавшей)
– «В одном Вы ошибаетесь – насчет предков»…
Ответ: отец и мать – не предки. Отец и мать – исток: рукой подать. Даже дед – не предок. Предок-ли прадед? Предки – давно и далеко, предки – череда, приведшая ко мне…
Человек, не чувствующий себя отцом и матерью – подозрителен. «Мои предки» – понятие доисторическое, мгла (туман) веков, из к-ой наконец проясняются: дед и бабка, отец и мать, – я.
Отец и мать – те, без к-ых меня бы не было. Хорош – туман!
То́, что я, всё, что я – от них, (через них), и то, что они все, что они – я.
Даже Гете усыновил своего маниакального отца:
А Марк Аврелий – тот просто начинает:
Отцу я обязан… – и т. д.
Без этой обязанности отцу, без гордости им, без ответственности за него, без связанности с ним, человек – СКОТ.
– Да, но сколько недостойных сыновей. Отец – собирал, сын – мот…
– Да, но разве это мойслучай?
Я ничем не посрамила линию своего отца. (Он поставил) Он 30 лет управлял Музеем, в библиотеке к-го – все мои книги.
Преемственность – налицо.
– «Отец, мать, дед»… « МыМоскву задарили»… «Да Вы-то сами – что дали Москве?»
Начнем с общего. Человек, раз он родился, имеет право на каждую точку земного шара, ибо он родился не только в стране, городе, селе, но – в мире.
Или: ибо родившись в данной стране, городе, селе, он родился – по распространению – в мире.
Если же человек, родясь, не имеет права на каждую точку земного шара – то на какую же единств. точку земного шара он имеет право? На ту, на к-ой он родился. На свою родину.
Итак я, в порядке каждого уроженца Москвы, имею на нее право, п.ч. я в ней родилась.
Что можно дать городу, кроме здания – и поэмы? (Канализацию, конечно, но никто меня не убедит, что канализация городу нужнее поэм. Обе нужны, по-иному – нужны).
Перейдем к частному.
Что «я-то сама» дала Москве?
«Стихи о Москве» – «Москва, какой огромный странноприимный дом…» «У меня в Москве – купола горят»… «Купола – вокруг, облака – вокруг»… «Семь холмов – как семь колоколов»… – много еще! – не помню, и помнить – не мне.
Но даже – не напиши я Стихи о Москве – я имею право на нее в порядке русского поэта, в ней живущего и работавшего, книги к-го в ее лучшей библиотеке (Книжки нужны? а поэт – нет?! Эх вы, лизатели сливок!).
Я ведь не на одноименную мне станцию метро и не на памятную доску (на доме, к-ый снесен) претендую – на письменный стол белого дерева, под к-ым пол, над к-ым потолок и вокруг к-го 4 стены.
Итак, у меня два права на Москву: право Рождения и право избрания. И в глубоком двойном смысле —
Я дала Москве то, что я в ней родилась.
Родись я в селе Талицы Шуйского уезда Владим. губ., никто бы моего права на Талицы Шуйского уезда Владим. губ. не оспаривал.
Значит, всё дело в Москве – миров. городе.
А какая разница – Талицы и Москва?
Но «мировой город» – то она стала – потом, после меня, я – раньше нынешней, на целых 24 года, я родилась еще в «четвертом Риме» и в той, где
…пасут свои стада
Патриархальные деревья
У Патриаршего пруда
( моегопруда, пруда моего младенчества).
Оспаривая мое право на Москву, Вы оспариваете право киргиза на Киргизию, тунгуса на Тунгусию, зулуса на Зулусию.
Вы лучше спросите, что здесь делают 3 1/2 милл. немосквичей и что ониМоскве дали.
– Право уроженца – право русского поэта – право вообще – поэта, ибо если герм. поэт Р. [61]61
Рильке.
[Закрыть], сказавший.
Als mich der grosse Ivan ans Herz schlug [62]62
Когда Иван Великий ударил меня по сердцу… ( нем.).
[Закрыть], на Москву не в праве… то у меня руки опускаются, как всегда – от всякой неправды – кроме случая, когда правая – в ударе заносится.
Всеправа, милая В. Ал., все права, а не одно.
Итак, тройное право, нет, четверное, нет, пятерное: право уроженца, право русского поэта, право поэта Стихов о Москве, право русского поэта и право вообще поэта:
Я – вселенный гость,
Мне – повсюду пир.
И мне дан в удел —
Весь подлунный мир!
И не только подлунный!
МЦ.
14 сент. 1940 г. (NB! чуть было не написала 30 г. А – хорошо бы!)»
Письмо Меркурьевой, на которое даст ответ Марина Ивановна, я никогда не держала в руках, но все же как-то не верится, чтобы старая интеллигентная женщина, доброжелательно относящаяся к Марине Ивановне, разыскавшая ее, окликнувшая по возвращении из эмиграции (на что отнюдь не у многих из прежних друзей и знакомых хватило храбрости), вдруг столь бестактно могла бы написать – мол, предки-предками, а вы-то сами что дали Москве, какое у вас на нее право?!..
Может, этот черновой набросок ответа и есть тот внутренний монолог, тот спор внутри себя, который нам так часто приходится вести, уподобляясь Дон-Кихоту, сражающемуся с ветряными мельницами, – изматываясь, изнашиваясь от этой бесплодной и безнадежной борьбы, но не имея сил и возможности, по тем или иным причинам, высказать все напрямик там, где надо бы, где следовало бы и кому следовало бы! И потом вдруг, уже вконец измучившись от бессмысленного прокручивания одной и той же пластинки, от безнадежного спора внутри себя, – срываемся на чем-то, на ком-то, не имеющим отношения к тому, что нас мучило.
Может, Марина Ивановна дает эту гневную отповедь, зацепившись за какую-то случайную и не очень точно сформулированную фразу в письме Меркурьевой?!
Тяжкие это дни… «Я – вселенной гость, Мне – повсюду пир, И мне дан в удел – Весь подлунный мир!»… А тут какие-то восемь квадратных метров на человека она не в состоянии добыть! И все, чем они могут располагать с Муром, это проходной темный закуток на Мерзляковском, где невозможно повернуться и где на каждого приходится меньше трех аршин, а три аршина положено человеку не на землю, а под землей!..
Она опять живет на Мерзляковском. Она ушла с улицы Герцена 30 августа в пустующую комнатку Елизаветы Яковлевны и Зинаиды Митрофановны. Они еще на даче, но к середине сентября, к концу сентября они вернутся, а к пятнадцатому сентября она обещала забрать свои вещи с улицы Герцена и освободить комнату, заваленную ими.
Павленко, как и Фадеев, конечно же, направил Марину Ивановну в Литфонд. Но Литфонд мог ей содействовать в подыскании комнаты в Москве, разве что поместив объявление в газете, а она их дала уже четыре. И все же она упорно ходит в Литфонд, ибо у нее нет иного выхода, нет иной возможности чего-нибудь добиться… И, единственное, что ее радует в те сентябрьские дни, – это то, что Мур все-таки пошел учиться, что его все же удалось устроить в школу.
И именно тогда, в сентябре, на Мерзляковском она снова возвращается к своей тетради, прерванной в Париже в конце мая 1939 года, накануне отъезда… В Голицыно, как мне запомнилось из разговоров с Алей, Марина Ивановна изменяет своей обычной привычке доверять без оглядки все свои мысли и чувства бумаге и только между строками переводов, между подстрочниками «вмурованы» отдельные записи. Шоковое состояние после арестов на болшевской даче, обыски, когда перерывают, пересматривают и забирают все бумаги, страх своего собственного ареста, ожидание этого ареста каждую ночь, ожидание утра, когда можно, наконец, свободно вздохнуть – сегодня еще нет!.. Все это лишает Марину Ивановну возможности общения с листом бумаги.
Но время идет, она притерпелась… Ощущение страха притупилось, а может, начинает казаться – раз уже не сразу, то теперь, может, и вовсе минует: «Поздравляю себя (тьфу, тьфу, тьфу!) с уцелением»… И привычка всей жизни и мучительная необходимость высказать все, успеть записать все – берет верх, и Марина Ивановна возвращается к своей забытой парижской тетради.
«Возобновляю эту тетрадь 5-го сентября 1940 г. в Москве. 18-го июня приезд в Россию. 19-го в Болшево, свидание с больным С. Неуют. За керосином. С. покупает яблоки…» и так далее. Я уже приводила этот отрывок. Лаконично, для себя, восстанавливает картину пережитого.
«Все это для моей памяти, и больше ничьей: Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит такого…»
И естественно, что бежит, – ведь ему только пятнадцать лет…
Эти записи, как и та о Тарасенкове, как и черновик письма Меркурьевой, сделаны в сентябре на Мерзляковском в Москве, неприютной, жестокой, равнодушной Москве, где ее не прописывают, где у нее нет угла, где завтра она очутится на улице с вещами и Муром. Где в самом центре, посреди шумной и людной площади находится в заточении ее дочь Аля. А для ее мужа, Сергея Яковлевича, который тоже находится в заточении, в эти сентябрьские дни перестают брать передачу. И она не знает жив ли он…
И думается, без лишних слов все понятно. Передавая письмо Борису Леонидовичу для Павленко, она, быть может, обмолвилась, а быть может, и была с Борисом Леонидовичем откровенна – он не хотел верить в то, что она готовила что-нибудь крайнее и непоправимое, а она и не готовила, она просто была уже готова к тому – крайнему и непоправимому…
И если…
Что-нибудь жалко – так сына:
Волчонка – еще поволчей…
Но от нас, от посторонних, от просто знакомых, все было сокрыто. Она была замкнута и сдержанна. Она была слишком горда, чтобы жаловаться, да и жаловаться было нельзя!.. Так и жила: – «лоб запрокинув! – гордость велела». И разговор вела всегда на отвлеченные темы, о стихах, о литературе, о прочитанной книге. Она зло и с юмором высмеивала хозяев, которые не хотели сдать ей комнату или которых не хотела она. Рассказывала о Париже, о Чехии, о Бальмонте, о Белом, читала стихи.
– Ведь что со мной делают? Зовут читать стихи!..
Звать звали, но я не помню, чтобы ее просили читать, ее стеснялись просить, но всегда как-то получалось само собой, и она обязательно читала, может, даже и эта столь малая аудитория была ей необходима.
31 августа она была в гостях у нас на Конюшках с Муром, о чем он говорит в своем дневнике:
«1.9.40. Вчера с Вильмонтами были у Тарасенковых – пили чай, кахетинское вино. Тарасенковы живут у родителей жены, за что их можно пожалеть (не родителей, а молодых!). Атмосфера маленько мещанистая…»
Именно тогда, в августе-сентябре, она увлекается Николаем Николаевичем Вильмонтом. Началось это, кажется, еще раньше, но до меня доходит только тогда.
Так и идут две ее жизни: одна, сокрытая от нас, с ночами в очередях у тюрем, с записями в тетради, другая – на людях.
Мы в курсе ее жилищных дел, пытаемся найти что-то через знакомых, но ничего не получается, Москва к зиме наполняется и переполняется, и никто ничего не сдает. Это на лето Николаю Николаевичу удалось устроить ей комнаты в университетском доме.
Мы достаем для нее какие-то книги, пытаемся через Шиперовича, работающего в книжном магазине, продавать ее французские и немецкие книги.
Однажды я встретилась с Мариной Ивановной на Тверском бульваре, у самого скверика перед Литературным институтом, который помещался в том самом знаменитом герценовском доме, где во времена, описанные Булгаковым в романе «Мастер и Маргарита», был ресторан, а теперь почти все здания занимали аудитории и в двух комнатах помещался журнал «Знамя», где работал Тарасенков, а с бокового крыльца – Литфонд.
Марина Ивановна была очень расстроена, она говорила, что тупо ходит в Литфонд, как на работу, каждый день. Надеется им надоесть, и они что-нибудь найдут, хотя бы ради того, чтобы от нее отделаться.
И нашли. Но не Литфонд, как учреждение, призванное оказывать помощь писателям, – случай помог и Арий Давидович Ратницкий.
Когда Марина Ивановна появлялась в Литфонде, он тут же вскакивал и, протискивая между канцелярскими столами свое округлое брюшко, украшенное золотой цепью от карманных часов, прикладывался к ручке. У него была аккуратно подстриженная седеющая уже тогда эспаньолка, выпуклые, добрые карие глаза и неимоверно румяные щеки.
В его служебные обязанности входило хоронить писателей, и по этому поводу ходило много анекдотов. Мой приятель, например, уверял, что когда он захворал в Доме творчества и отдыхающий там Арий Давидович, по доброте своей, зашел к нему, то того чуть не хватил инфаркт! И только из-за суеверия он не сказал тому – еще рано! Приятель утверждал, что собственными глазами видел, как Арий Давидович исподтишка пятерней снял с него, лежащего, на всякий случай мерку, чтобы потом не тревожить вдову… А на Новодевичьем кладбище во время чьих-то похорон Катаев, остановившись у какого-то памятника, задумчиво сказал оказавшемуся рядом Арию Давидовичу:
– Какой красивый камень!
– Да? – многозначительно заметил тот. – Вам нравится?!..
И Катаев, чуть побледнев, отошел.
Несмотря на свой жизнерадостный румянец, не соответствующий погребальному обряду, Арий Давидович умел проводить процедуру похорон с величайшим тактом и сердечностью. И все покойники, как знаменитые, так и незнаменитые, были для него едино равны, и одинаково душевно он их хоронил и вдов не обирал, и на покойниках он не разжился ни дачей, ни кооперативной квартирой, ни машиной – так и жил в одной комнате с женой в коммунальной квартире. А писатели хотя и придумывали про него всякие анекдоты, но в глубине души все же побаивались, ибо знали, что им его не миновать… И до самой своей смерти он хоронил писателей, правда, уже не по долгу службы, а по велению сердца. И, несмотря на свои 96 лет, сохранял все тот же неимоверной яркости румянец, чуть полиловевший от склеротических прожилок.
Вот этот Арий Давидович Ратницкий и нашел для Марины Ивановны комнату, и она помянула его добрым словом в своей тетради.
Он где-то случайно, краем уха зацепил, что кто-то уезжает на Север на два года и ему совершенно безразлично, будет ли жить в его квартире мать с сыном или муж с женой. И Арий Давидович разыскал того – «кого-то» и свел с ним Марину Ивановну, и Марине Ивановне оставалось только срочно раздобыть деньги, чтобы заплатить за год вперед, кажется, две с половиной тысячи!
Таня Ельницкая вспоминала, как пришла Марина Ивановна осенью разбирать корзину с книгами – ту, которую Лева Ельницкий и Тарасенков приволокли с улицы Герцена на Малый Николопесковский, как вынула она из сумки фартук, повязала его, чтобы не запылиться, и, сортируя книги – какие возьмет себе, какие пойдут на продажу – и куря папиросу за папиросой, рассказывала, как дорого обошлась ей комната и как занимала она деньги у всех, у кого только можно было занять.
Но сколь ни были малоимущими те, кто окружал Марину Ивановну, – нужную сумму денег она все же собрала и где-то в двадцатых числах сентября переехала по новому адресу [63]63
Контракт с неким Б. И. Шукстом был подписан 21 сентября 1940 г.
[Закрыть]. После почти года скитальческой жизни она наконец обретает некую видимость оседлости: ее прописывают на Покровском бульваре, дом 14/5 в квартире 62 (последняя московская прописка!); правда, опять на чужой площади, правда, опять временно, но временность эта на сей раз имеет протяженность в два года.








