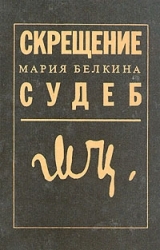
Текст книги "Скрещение судеб"
Автор книги: Мария Белкина
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Борис Леонидович влюблен в свою новую жену Зинаиду Николаевну Нейгауз. И хотя по Москве передают как анекдот его слова, сказанные со свойственной ему растерянностью и удивлением перед свершившимся: «Вы понимаете, ведь я-то был влюблен в Нейгауза, а почему-то женился на его жене!..» – но он действительно любит Зинаиду Николаевну и не хочет ехать в Париж и тоскует в Париже без нее, и Марина Ивановна отстраняется.
Еще весной 1931 года, услышав, что Борис Леонидович разошелся с первой женой – Женей Лурье и женился на другой, Марина Ивановна пишет Тесковой: «Мне не к кому в Россию. Жена, сын – чту, но новаялюбовь – отстраняюсь. Поймите меня правильно, дорогая Анна Антоновна: не ревность. Но – раз без меня обошлись. У меня к Б. было такое чувство, что: буду умирать – его позову. Потому что чувствовала его, несмотря на семью, совершенно одиноким: моим. Теперь мое место замещено: только женщина ведь может предпочесть брата– любви! Для мужчины, в те часы, когда любит – любовь – все. П. любит ту совершенно так же как в 1926 г. – заочно – меня».
«Не суждено, чтобы сильный с сильным соединились бы в мире сём… Не суждено чтобы равный – с равным… Так разминовываемся – мы».
Стихи наколдовывают… А в 1926 году был еще роман и с Рильке, и с Пастернаком, и Марина Ивановна тогда проявила столько, чисто женского лукавства и коварства. Потом, когда все трое будут уже мертвы, их переписка будет явлена миру… А тогда, в том году, она скажет Рильке, объясняя ему себя:
«Я – многие, понимаешь? Быть может, неисчислимо многие! (Ненасытное множество!) И один ничего не должен знать о другом, это мешает. Когда я с сыном, тот (та?), нет – то, что пишет тебе и любит тебя, не должно быть рядом. Когда я с тобой – и т. д. Обособленность и замкнутость…»
Но еще задолго до женитьбы Бориса Леонидовича, еще до того, как она об этом узнает, она жалуется в начале 1926 года все той же Тесковой: «Я никого не люблю – давно, Пастернака люблю, но он далеко, все письма, никаких примет этогосвета, должно быть, и не на этом! Рильке у меня из рук вырвали [48]48
Рильке умер в 1926 году.
[Закрыть], я должна была ехать к нему весною. О своих не говорю, другая любовь с болью и заботой, часто заглушенная и искаженная бытом. Я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значащейся в паспортах, о чуде чужого. О там, ставшем здесь…»
И она увлекается молодым поэтом, почти мальчиком, ему восемнадцать лет – Николаем Гронским. Они встречаются в Париже, затем она его ждет в Пантайяк, где проводит лето с Муром. У Гронского произошел разрыв с невестой, он несчастен, разочарован, и Марина Ивановна врывается в эту душевную трещину со всей своей безмерностью– «до чужой души мне всегда есть дело…» Потом, спустя уже несколько лет, в 1934 году, после его гибели под поездом метро она снова воскресит миф о нем и о своем романе с ним. «Он любил меня первую, и я его – последним. Это длилось год. Потом началось – неизбежное при моей несвободе – расхождение жизней, а весной 1931 г. и совсем разошлись: наглухо…»
«– Но это не все. Юноша оказался большимпоэтом».
Ну а в действительности – он любил ее не первую и любил ли… И она его не последнего и любила ли… А что касается «большого поэта», то хотя она и ссорится со Слонимом, который с ней не согласен, но в письме к Тесковой, сообщая о трех томах Гронского, которые собирается издать его отец, говорит: «А лучший том – когда-нибудь – будет наша переписка, – письма того лета… Самые невинные и, м. б., самые огненные из всех «Lettres d’amour» [49]49
Письма о любви ( фр.).
[Закрыть].
И опять же это остается нам в наследство…
Но, быть может, все же расхождениежизней происходит не от «несвободы» Марины Ивановны, а потому, что она всегда взвешивает! «И взвешен быв, был найден слишком легким…»
И это – «почти обо всех, кого Я любила».
А взвешивать она начинает сразу, при первом знакомстве или при первом незнакомстве, с первых же писем. Она объясняет Бахраху, что это – «некоторое испытание дна. (С той разницей, что плохой пловец, испытывая, боится его упустить, хороший пловец – найти)». Увы, она находит – и слишком быстро, и человек становится ей неинтересен.
«Ум у Сонечки никогда не ложится спать. «Спи, глазок, спи, другой…» а третий не спал…» Ум у Марины Ивановны никогда не ложится спать… Он зорко следил за всем происходящим, наблюдая и за тем, кем увлекается она, и ведя наблюдения и за ней самой. Он как бы третий в той игре, как бы сторонний наблюдатель!
«Бог хочет сделать меня – Богом или поэтом – а я иногда хочу быть человеком и отбиваюсь и доказываю Богу, что он не прав. И Бог, усмехнувшись, отпускает: «Пойди, поживи»…
Так он меня отпустил к Вам на часочек…»
Так и ее ум отпускает ее на часок, но только на часок… А затем вступает в бой и отбивает ее у чувства! «Чувство у меня всегда было умноё, то есть зрячее, поэтому всю жизнь упреки: Вы не чувствуете, Вы рассуждаете…»
«В каждой моей игре – ставкой всегда была – я… И проигрыш всегда был – мой: я себя другому всегда проигрывала, но так как Ябыла безмерная моя душа, то этого другому было – много– и часто ставка оставалась на столе или – или смахивалась локтем под стол…».
И как она боится этого своего много, своей безмерности в мире мер, когда, наконец, поймет, что людям этого не надо, что это их ошеломляет, пугает, что люди хотят совсем иного в жизни. И как она пытается предостеречь и уберечь их от безмерности своей!
«Не удивляйтесь гигантскости моего шага к Вам, у меня нетдругого… только не пугайтесь и не подломитесь и не усомнитесь…»
Это она пишет Анатолию Штейгеру, а Вере Буниной:
«Не бойтесь моего жарак Вам, переносите его со спокойствием природы – стихов – музыки, знающих род этого жара и его истоки…»
И ей же:
«Знаю еще, что могла бы любить Вас в тысячу раз больше, чем люблю, но – слава Богу! – я сразу остановилась, с первого, нет – допервого шагу не дала себе ходу, не отъехав – решила: приехала.
Вы – может быть – мой первый разумный поступок за жизнь…»
И Татьяне Кваниной:
«Таня! Не бойтесь меня. Не думайте, что я умная, не знаю что́ еще, и т. д. и т. д. и т. д. (подставьте все свои страхи)…»
И Бахраху:
«Когда люди, сталкиваясь со мной на час, ужасаются темиразмерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они – не во мне – не размеры. Просто безмерность, встающая на их пути. И они, м. б., правы в одном только: в чувстве ужаса…»
И как эта безмерность и в дружбе и в любви мешает ей самой! И как она отлично понимает, что « сильныепотоки – сверхрта и миморук…»
Потом была колода
Колодца. Басня – та́:
Поток воды холодной
Колодезной – у рта —
И мимо. Было мало
Ей рта, как моря – мне,
И все не попадала
Вода – как в странном сне,
Как бы из вскрытой жилы
Хлеща на влажный зём.
И мимо проходила
Вода, как жизни – сон…
И, утеревши щеки,
Колодцу: – Знаю, друг,
Что сильныепотоки —
Сверхрта и миморук
Идут!..
И вечная неутоленность жажды… И, в общем-то, всегда, несчастна, разочарована, обижена… И как, все зная и понимая, она не может совладать с собой, ей некуда деваться от себя самой. Она такая, какою создала ее природа, Господь Бог, и, как ни пытается она «нахлобучить гасильник» на свои чувства, они все с той же безудержной страстью вспыхивают каждый раз…
«…От чего Вы к жизни излечились, чему научились? Ни от чего. Ни чему. И всяя к Вамэтому живой пример…
В который раз? И разве я не знаю, что все кончится, и разве я верю, что (это во мне к Вам) когда-нибудь кончится, когда-нибудь меня отпустит и что я от Вас опустею: стану опять пустым – и холодным – и свободным домом: domaine… [50]50
У себя… ( фр.).
[Закрыть]»
И снова – в который раз! – она в полете, увлечена, и снова письма каждый день через границу, в горы, туда, в Швейцарию, где в туберкулезном санатории некто Анатолий Штейгер, который когда-то где-то на каком-то из ее вечеров промелькнул и которого она не запомнила, не разглядела, но он ее окликнул, прислал письмо, он болен, у него туберкулез, он очень молод, он моложе Марины Ивановны на пятнадцать лет, и он, конечно же, пишет стихи и, конечно же, разбитая любовь, и он несчастен… И Марина Ивановнна ринулась его спасать.
Наконец-то встретила
Надобного – мне:
У кого-то смертная
Надоба – во мне.
Что для ока – радуга.
Злаку – чернозем —
Человеку – надоба
Человека – в нем.
И письмо за письмом из маленького городка Moret в Савойе, где протекает речка Loing, где старинный замок, увитый плющом, где пещеры и где она проводит летние месяцы с Муром в 1936 году.
«Я – годы– по-моему восемь лет – живу в абсолютном равнодушии, т. е. очень любя того и другого и третьего, делая для них все, что могу, потому что надо же, чтобы кто-нибудь делал, но без всякой личной радости – и боли: уезжают в Россию – провожаю, приходят в гости – угощаю.
Вы своим письмом пробили мою ледяную коросту, под которой сразу оказалась моя родная живая бездна…»
Последние годы у Марины Ивановны почти нет лирических стихов – она пишет прозу, пишет поэму «Перекоп», поэму «О Царской Семье», «Стихи к Пушкину», «Оду пешему ходу», «Стихи к сыну», «Читателям газет» и другие стихи, но лирики нет. А теперь – снова…
Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
(Занимаю тебя разговором —
Чтобы легче дышал, крепче спал.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Кру́гом клумбы и кру́гом колодца,
Куда камень придет – седым!
Круговою порукой сиротства,
Одиночеством – круглым моим!
(Та́к вплелась в мои русые пряди
Не одна серебристая прядь!)
… И рекой, разошедшейся на две,
Чтобы остров создать – и обнять.
Всей Савойей, и всем Пиемонтом,
И – немножко хребет надломя —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым – и руками двумя!
И она уже так вовлечена, что была бы уже там, в Швейцарии, где он, благо до границы всего-то двадцать пять верст, но у нее нет с собой заграничного паспорта, и с нею Мур, и ей не на кого его оставить. И она не может осуществить этой поездки, и когда осенью она наконец может сообщить ему, что все налажено и в феврале она приедет, то выясняется, что надобы, той надобы, которая ей вообразилась, вовсе не было и нет… И те письма его к ней писались скорее всего от санаторной скуки, не более того, и что мечтает он вовсе не о встрече с ней, а о встрече с Монпарнасом и Парижем…
«На это я ответила – правдой всего существа. Что нам не по дороге: что моя дорога – и ко мне дорога – уединенная. И все о Монпарнасе. И все о душевнойнемощи, с которой мне нечего делать.
Вы, в открытке, дорогая Анна Антоновна, спрашиваете: – м. б. большое счастье?
И, задумчиво, отвечу: – Да. Мне поверилось, что я кому-то – как хлеб – нужна. А оказалось – не хлеб нужен, а пепельница с окурками: не я – а Адамович и Comp.
– Горько. – Глупо. – Жалко».
И печатая стихи, которые писались в то лето, и озаглавив их «Стихи сироте», она не без издевки над собой ставит эпиграфом:
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла по улице старушка,
Пожалела сироту…
«всю жизнь напролет пролюбила не тех… Из равных себе по силе я встретила только Рильке и Пастернака. Одного – письменно, за полгода до его смерти, другого – незримо. О, не только по силе поэтической. По силе всей+ силе поэтической (словесной, творческой)»…
Я – die Liebende, nicht – die Geliebte! [51]51
Я – любящая, не – любимая! ( нем.).
[Закрыть]
И с предельной откровенностью и даже жестокостью к себе, на которую не рискнула бы ни одна женщина в мире, она признается мужчине, которого любит, – пишет Борису Леонидовичу: «Я им не нравлюсь, у них нюх. Я не нравлюсь полу. Пусть в твоих глазах я теряю, мною завораживались, в меня почти не влюблялись. Ни одного выстрела в лоб – оцени.
Стреляться из-за Психеи! Да ведь ее никогда не было (особая форма бессмертия). Стреляются из-за хозяйки дома, не из-за гостьи…»
Психея и Ева, и вечный спор – душа и тело. Она – Психея, и отсюда ее неистребимые ненависть и презрение к Еве, которую все любят и «от которой во мне нет ничего. А от Психеи – все… Я с ней – очевидно, хозяйкой дома – незнакома…» Но это же опять одно из многих противоречий Марины Ивановны. В ней уживаются и Ева и Психея, сосуществуют, споря и ненавидя друг друга. Психея побеждает, да, но Ева живет своей обыденной и повседневной жизнью. Тоскует по любви Психея или Ева тоже? И разговор все время о Психее, быть может, из-за гордыни – ибо Еву в ней не замечают…
«…Все такие разумные люди вокруг, почтительные, я для них поэт, т. е. некоторая несомненность, с к-ой считаются. Никому в голову не приходит – любить!
Всю жизнь «меня» любили: переписывали, цитировали, берегли мои записи (автографы), а меня – так малолюбили, так – вяло.
Моя надоба от человека – любовь. Моялюбовь и, если уже будет такое чудо, его любовь, но это – как чудо, в чудном, чудесном порядке чуда…»
Но чудо это свершается столь редко! И дружбы быстро разрушаются, любови быстро гаснут. И снова она в отчаянии восклицает: «Может быть, я долгой любви не заслуживаю, есть что-то – нужно думать – во мне – что все мои отношения рвет. Ничто не уцелевает. Или – век не тот: не дружб».
«…Придя в мир, сразу избрала себе любить другого…», но любит ли она этого другого, умеет ли любить? Или она просто любит любить. Любит свою любовь?! Ведь, уносясь в полете, она даже забывает иной раз оглянуться, – поспевает ли онза ней, или отстал, или и вовсе не собирался поспевать! В томах ее писем (когда будут все изданы, это действительно будут тома!), которые она писала тем, кем увлекалась, главное действующее лицо – любовь, ее любовь, онасама! Они– их, в общем-то, и нет. Все эти письма – единый трактат о любви, разбитый лишь на главы, и в подзаголовке их имена, но если имена убрать и пронумеровать главы, то, в общем-то, мало что изменится, ибо это исследование своей любви, любви к мужчине, любви к женщине, любви-дружбы, любви-страсти. И главное – желание потратить свою душу и невозможность этого…
Когда-то она писала Борису Леонидовичу про его талант: «Вы не потратитесь. (Ваша тайная страсть: потратиться до нитки!)… Вы не израсходуетесь, но Вы задохнетесь… Вам надо отвод: ежедневный, чуть ли не ежечасный. И очень простой: тетрадь».
Может, все эти письма – ее отвод, иначе она могла бы задохнуться…
К слову сказать, и в письмах Марина Ивановна опережает свое время: она пишет их с той предельной откровенностью, с которой не было принято писать в те годы, а она отлично знала страшность и неотвратимость слова и понимала, что, обращаясь к одному, она говорит со всеми…
А на вопрос: умела ли она любить? любила ли другого– она опять же сама дает ответ: «боюсь, что беда (судьба) во мне, я ничего по-настоящему, до конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души, т. е. тоски, расплесканной и расхлестанной по всему миру и за его пределами. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве, – тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, т. е. длить, не умею жить во днях, каждый день, – всегда живу внесебя. Эта болезнь неизлечима и зовется: душа».
Этой болезньюМарина Ивановна больна и здесь в Голицыно, зимой 1939–1940 года.
И если я так злоупотребила цитатами из писем Марины Ивановны, то сделала это потому, что вряд ли кто лучше ее самой сумеет рассказать о ней. А этот беглый заход в прошлое, мне кажется, дает хотя бы некоторое представление об источнике ее ранящейлирики и о тех душевных муках и трагедиях, которые сопутствовали ей всю жизнь. И нам теперь понятнее будет, сколь органичны и неизбежны были ее увлечения здесь, в России, после приезда из эмиграции, тогда в Голицыно, в Москве, в последние годы ее жизни, и как, пройдя сквозь пытки Болшево, ей было особенно необходимо почувствовать, что она жива – живети снова – в полете…
И в этом ей содействует, быть может, сам того не понимая, не замечая поначалу, Евгений Борисович Тагер. Он приезжает в декабре в Голицыно. Он знает, что там находится Марина Ивановна, он увлекается ее стихами, он наслышан о ней от Пастернака, он рад встрече с ней. Он первый подходит к ней в голицынской столовой и говорит ей всякие взволнованные слова. Он молод, темноволос и темноглаз, он интересен, интеллигентен, он хорошо воспитан, начитан, он знает поэзию, поэтов, он литературовед. Он ищет встреч с Мариной Ивановной, он ждет ее прихода, он к ней внимателен, предупредителен. Они гуляют вместе в голицынском лесу, прокладывая тропки в сугробах снега. Метет январская поземка и заметает их следы, когда он провожает ее по Коммунистическому проспекту в безымянный переулок, где за куриным двориком она живет. Они перекидываются шутливыми записочками за столом, они встречают Новый год в голицынской столовой, обмениваются сувенирами, он пишет ей шутливые стихи: «Замораживается стих и не оттаивает, когда рядом сидит Цветаева…»
Марине Ивановне многого не надо, желаемое она принимает за сущее, фантазией дополняет то, чего не предоставляет ей действительность, и она уже в полете, она уже творит свой мир, где все подчинено ее законам! Тагер живет один – его жена занимается искусством, бывает наездами; и Марине Ивановне никто и ничто не мешает общаться с Тагером. Она переписывает ему от руки стихи к Гронскому, переписывает всю «Поэму Горы». Однажды она зашла к нему, дверь была полуотворена, он спал в меховой курточке, Марина Ивановна, не разбудив его, ушла. И родились стихи:
Двух – жарче меха! рук – жарче пуха!
Круг – вкруг головы.
Но и под мехом – неги, под пухом
Гаги – дрогнете вы!
Даже богиней тысячерукой
– В гнезд, в звезд черноте —
Как ни кружи вас, как ни баюкай
– Ах! – бодрствуете…
Вас и на ложе неверья гложет
Червь ( бедныемы!).
Не народился еще, кто вложит
Перст – в рану Фомы.
7 января 1940 г.
Но полет Марины Ивановны на сей раз был совсем недолог и не высок, и, вопреки своей привычке, она все время оглядывается и оговаривается – «…есть один – милый, да, и даже любимый бы– если бы… (сплошное сослагательное!) я была уверена, что это ему нужно, или от этого ему, по крайней мере – нежно…» – пишет она Веприцкой. – «Я всю жизнь любила таких, как Т. и всю жизнь была ими обижена – не привыкать-стать…» А обижена она тем, что Тагер сказал ей: «Будет лучше, если вы будете меньше обращать на меня внимания!» И она тут же пишет ему из Голицыно в Голицыно послание на нескольких страницах – целый трактат о том, что такое вниманиеи кому это внимание больше нужно – тому ли, ктообращает внимание, или тому, на когообращено это внимание. И начинает она это письмо с фразы Тагера: «Будет лучше, если Вы будете меньше обращать на меня внимания…» [52]52
Это послание мне показала жена Тагера, Елена Ефимовна, и я смогла только бегло его прочитать. (Цитирую по памяти. М.Б.)
[Закрыть]
Но не обращать внимания она не может, она не умеет не вовлекаться, она уже вовлеклась! А тут еще уехала в Москву Людмила Веприцкая, окончился срок ее пребывания в Доме творчества, а Марина Ивановна успела за это время к ней привязаться. Веприцкая славилась своим неуживчивым характером. Маленькая, решительная с горящими черными глазами, с вечно дымящей папиросой во рту, которые зажигала одну от другой, когда она входила в редакцию и низким голосом приветствовала присутствующих – все замирали в ожидании неприятностей, все знали, что так просто ее визит не пройдет! В Литфонде, обслуживающий персонал в Домах творчества ее боялись. Окружающие сторонились. Она, видно, была очень одинока и, может, страдала от своего характера, от неумения ладить с людьми. Марина Ивановна сразу сошлась с ней: «Я Вам сразу поверила, а поверила потому – что узнала– свое. Мне с Вами сразу было свободно и надежно…» «Вы мне напомнили одного моего большого женского друга, одно из самых увлекательных и живописных и природныхженских существ, которое я когда-либо встретила. Это – жена Леонида Андреева, Анна Ильинична Андреева, с которой я (с ней никтоне дружил) подружилась…» «От нее шел Ваш жар, и у нее были Вашиглаза – и Ваша масть, и встретившись с Вами, я не только себя, я и ееузнала. И она тоже со всеми ссорилась! – сразу и ничего не умела хранить…»
Продолжалась ли их дружба потом в Москве? Или, как и большинство дружб Марины Ивановны, растворится в пространстве, во времени?! Я в те годы фамилии Веприцкой не слышала. А когда писала книгу, ни у кого ничего не могла узнать об отношениях ее с Мариной Ивановной. Обращаться к ней самой не хотелось, судьба столкнула нас в годы войны, и от знакомства этого остался очень неприятный осадок. С Алей Веприцкая встретилась и дала ей перепечатать четыре письма Марины Ивановны из Голицына, но дружеских отношений как-то не возникло. Я знала, что Веприцкая потребовала от Али клятву, что та возьмет на себя опеку над ее взрослым и очень тяжело больным сыном в случае, если она, Веприцкая, умрет. Аля этой клятвы не могла дать, ей и самой было трудно с ее старыми тетками… Кажется, они потом совсем перестали встречаться. [53]53
Л. В. Веприцкая умерла в 1988 году. В 1990 в журнале «Грани» были опубликованы четыре письма Цветаевой к ней. Опубликованы с опечатками.
[Закрыть]
…Итак Людмила Веприцкая уехала из Голицына, и Марина Ивановна была опечалена, и ее даже охватывает чувство сиротства, и она еще больше тянется к Тагеру. Но затем приходит время и его отъезда… И Марина Ивановна вручает ему письмо:
«Нынче, 22-го января 1940 г., день отъезда
Мой родной! Непременно приезжайте – хотя Вашей комнаты у нас не будет – но мои стены ( нестены!) будут – и я Вас не по ниточке, а – за́ руку! поведу по лабиринту книжки: моей души за 1922 г. – 1925 г., моей души – тогда и всегда.
Приезжайте с утра, а может быть и удача пустой комнаты. – и ночёвки – будет, тогда всё договорим. Мне важно и нужно, чтобы Вы твердо знали некоторые вещи – и даже факты – касающиеся непосредственно Вас.
С Вами нужно было сразу по-другому – по страшно-дружному и нежному – теперь я это знаю – взять всё на себя! – (я предоставляла – Вам).
Одного не увозите с собой: привкуса прихоти, ее не было. Был живой родник.
Спасибо Вам за первую радость – здесь, первое доверие – здесь, и первое вверение – за многие годы. Не ломайте себе голову, почему именно Ва́м вся эта пустующая дача распахнулась всеми своими дверьми, и окнами, и террасами, и слуховыми оконцами, почему именно на Вас – всеми своими дверями и окнами и террасами и слуховыми глазка́ми – сомкнулась. Знайте одно: доверие давно не одушевленного предмета, благодарность вещи – вновь обретшей душу. («Дашь пить – будет говорить!») А сколько уже хочется сказать!
Помните Антея, силу бравшего от (легчайшего!) прикосновения к земле, в воздухе державшегося – землею. И души Аида, только тогда говорившие, когда отпили жертвенной крови. Всё это – и антеева земля и аидова кровь – одно, то, без чего я не живу, нея – живу! Это – единственное, что внеменя, чего я не властна создать и без чего меня нету…
Еще одно: когда его нет, я его забываю, живу без него, забываю так, как будто его никогда не было (везде, где «его», проставьте: её, живой любви), даже отрекаюсь, что она вообще есть, и каждому докажу как дважды два, что это – вздор, но когда она есть, т. е. я вновь в ее живое русло попадаю – я знаю, что только она и есть, и что я только тогда и есть, когда онаесть, что вся моя иная жизнь – мнимая, жизнь аидовых теней, не отпивших крови: нежизнь.
Так, может быть, следует толковать слово Ахилла – Я предпочел бы быть погонщиком мулов в мире живых, чем царем в царстве теней.
Но все это: и Ахиллы и Аиды и Антеи исчезает перед живой достоверностью, что я нынче в последний раз сидела с Вами за столом, что мне уже некуда будет – со всеми Ахиллами, и Аидами, и Антеями, что руки, в которые все – шло – шла – вся, – отняты.
(У меня чувство: что мы с вами – и не начинали!)
Напишите первый. Дайте верный адрес. Захотите приехать – предупредите. Приезжайте один. Я себяк Вамни с кем не делю. Один, на весь день – и на очень долгий вечер.
Спасибо за все.
Обнимаю Вас, родной.
М.»
Марина Ивановна пишет: «Был живой родник…» – но то был не родник, то снова был водопад, «поток сверх рта и мимо рук!» Водопад, обрушившийся на Тагера, привыкшего к нашей обыденности выражения своих чувств и не знавшего тогда, что письмо это повторяет столь схоже другие ее письма к другими что, быть может, это и была-то всего лишь отчаянная мольба не оставлять ее надолго совсем одну с ее Аидами, Ахиллами, Антеями – там, за куриным двориком, где ей не к кому придти… И главное – еще столь страстное ее желание, столь свойственная ей необходимость повести кого-то, кто в данный момент ей показался, по лабиринту своей души!..
В тот день, двадцать второго января, Марина Ивановна провожает Тагера на станцию. А двадцать третьего рождаются стихи:
Ушел – не ем:
Пуст – хлеба вкус.
Все – мел.
За чем ни потянусь.
…Мне хлебом был,
И снегом был.
И снег не бел,
И хлеб не мил.
И тем же числом помечено другое стихотворение:
– Пора! для этогоогня —
Стара!
– Любовь – старей меня!
– Пятидесяти январей
Гора!
– Любовь – еще старей:
Стара, как хвощ, стара, как змей,
Старей ливонских янтарей,
Всех привиденских кораблей!
Старей! – камней, старей – морей…
Но боль, которая в груди, —
Старей любви, старей любви.
И двадцать четвертого – страшные по своей точности и лаконичности строки!
Годы твои – гора,
Кожа твоя – кора,
Ложе твое – нора, —
Про́житая пора!
Прощаясь с Тагером, Марина Ивановна договаривается о свидании в Москве, она дает ему телефон Елизаветы Яковлевны, по этому телефону они должны будут условиться о дне встречи, и они уславливаются, и в записочке, она пишет: они посидят где-нибудь в кафе, поговорят, ей очень хочется рассказать о себе. «Обязательно приходите. Очень прошу смочь» [54]54
Цитирую по памяти. М.Б.
[Закрыть].
Но он не смог. Или не захотел смочь, или жена не захотела. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства, свои соображения, дела. А Марине Ивановне так необходима была хотя бы иллюзия отношений… И вечер, когда Марина Ивановна вырвалась из Голицыно, она провела не с Тагером, как этого хотела, а с Борисом Леонидовичем, который – «бросив последние строки Гамлета, пришел по первому зову – и мы ходили с ним под снегом и по снегу – до часу ночи – и все отлегло – как когда-нибудь отляжет – сама жизнь…» [55]55
Быть может, именно об этой ночной прогулке и рассказывал Борис Леонидович нам с Тарасенковым – там у памятника Тимирязеву.
[Закрыть]
«…Мне было больно, мне уже не больно…»
«…Господи! – от кого и от чего в жизни мне не было больно, было небольно?…»
И тут же Марина Ивановна обращает в Голицыно внимание на Замошкина. И пишет о нем Веприцкой: «Есть один, которого я сердечно люблю – Замошкин, немолодой уже, с чудным мальчишеским и изможденным лицом. Он – родной. Но он очень занят, и я уже обожглась на Т…»
Аля из Туруханской ссылки написала однажды Борису Леонидовичу о матери: «Часть ее друзей и большинство романов являлись, по сути дела, повторением романа Христа со смоковницей (таким чудесным у тебя). Кончалось это всегда одинаково: «О как ты обидна и недаровита!» – восклицала мама по адресу очередной смоковницы и шла дальше, до следующей смоковницы…»
Не знаю, в те ли дни или чуть раньше, но январем помечено неоконченное стихотворение о любви «бродяге». Там за куриным двориком, за перегородкой в чужом доме, Марина Ивановна перебирает в памяти и как-бы прощается со «спутниками души своей». (Есть что-то в этом от ее Казановы в «Фениксе»!) И хотя я знаю, что теперь во всех книгах будут цитировать эти ее стихи [56]56
Впервые напечатано в 1990 году в «Библиотеке поэта» «Большая серия», издание третье.
[Закрыть], но позволю и себе сделать тоже. Вот отрывок:
О первые мои! Последние!
Вас за руку в Энциклопедию
Ввожу, невидимый мой сонм!
Многие мои! О, пьющие
Душу прямо у корней.
О, в рассеянии сущие
Спутники души моей!
Мучиться мне – не отмучиться
Вами,
О, в рассеянии участи —
Сущиедуши моей!
Многие мои! Несметные!
Мертвые мои (– живи!)
Дальние мои! Запретные!
Завтрашние не – мои!
Смертные мои! Бессмертные
Вы, по кладбищам! Вы, в кучистом
Небе – стаей журавлей…
О, в рассеянии участи
Сущие– души моей!
Вы по гульбищам – по кладбищам —
По узилищам —
Тогда, в январе, в Голицыно впервые возникает разговор об издании сборника стихов Марины Ивановны. Какой-то человек из Гослитиздата, этим делом ведающий, предлагает ей издать книгу. И остановка только за стихами. Но у нее нет своих книг, тетрадей, все задержано на таможне. Она достала у Бориса Леонидовича «После России», но эту книгу увез Тагер в Москву и не торопится вернуть.
И еще: необходимо «Ремесло». Марина Ивановна хочет составить эту новую книгу для Гослита из выпущенных ею в эмиграции – «Ремесло», Берлин, 1922 и «После России», Париж, 1928. Из двух она хочет сделать одну.
Но начиная составлять книгу, она уже сомневается в том, что книга будет.
1 февраля она посылает записочку в Москву старшей сестре Сергея Яковлевича Вере Яковлевне Эфрон, которая в это время работает в Государственной библиотеке имени Ленина, с просьбой добыть ей сборник стихов «Ремесло»:
«Милая Вера! Очень большая просьба. Мне предлагают издать книгу избранных стихов. Предложение вполне серьезное, человек с весом. Но – дело срочное, п. ч. срок договоров на 1940 г. – ограниченный. Хочу составить одну книгу из двух – Ремесла и После России. Последняя у меня на-днях будет, но Ремесла нет ни у кого. – Ремесло, Берлин, Из-во Геликон, 1922.
Эта книга есть в Ленинской библиотеке, ее нужно было бы получить на руки, чтобы я могла переписать, т. е. ту часть ее, к-ая мне понадобится. А м. б. у кого-нибудь из Ваших знакомых – есть?
Главное – что меня очень торопят.
Целую Вас, привет Коту.
М.Ц.»
Ремесло в Ленинской библиотеке – есть, наверное, мне всеговорят.
– Нынче (1-ое февраля) Муру 15 лет».
Но Вера Яковлевна вряд ли могла получить «Ремесло» из Ленинки: книги для перепечатки там не выдают. А «После России» все еще у Тагера, и Марина Ивановна из-за гордыни к нему не обращается, она им обижена, звонить ему не хочет. Положение спасает Ной Григорьевич Лурье, который в это время живет в Голицыно, он соединяет Марину Ивановну по телефону с Тагером, и в разговоре выясняется, что у того есть и «Ремесло». Кто-то дал ему на время почитать. И теперь Марина Ивановна надеется заполучить от него обе книги, быть может, тот, кто одолжил ему «Ремесло», позволит ей перепечатать ее стихи…
Но, видно, в скором времени Марине Ивановне становится известно, что книгу ее включить в план издания 1940 года уже поздно, ибо планы издательств составляются и утверждаются заблаговременно. А что касается 1941 года, то она может сдать книгу и осенью. Значит, время терпит, да времени сейчас и вовсе нет. Марина Ивановна живет «поденными переводами», ей надо зарабатывать деньги, ей надо каждый день гнать строки переводов…
А на дворе уже февраль с его пронзающим душу синим часом, когда снег становится особенно синь, и воздух синь, и голые, черные ветки деревьев кажутся навечно мертвыми, прочерченными чей-то холодной, равнодушной рукой в синеве. И нет никакой мягкости красок, и зыбкости света, и расплывчатости теней, и никаких полукрасок, полутонов, полунамеков, полунадежд – все кажется раз и навсегда графически четко обозначено в этом холодном синем мире! Есть беспредельность вечности и предельность твоя… И даже в здоровую душу заползает тоска, и ты начинаешь беспричинно томиться печалью. И как, должно быть, особенно тяжко было Марине Ивановне в этот голицынский синий час, когда и без того «подо всем: работой, хождением в Дом Отдыха, поездками в город, беседами с людьми, жизнью дня и снами ночи – тоска…»








