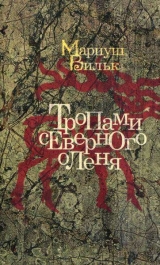
Текст книги "Тропами северного оленя"
Автор книги: Мариуш Вильк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Немаловажны также запечатленные в «Русских лопарях» ландшафты Лапландии. Ведь Николай Николаевич прошел по Кольскому полуострову до начала индустриализации! Еще не существовало ни железной дороги Петербург-Мурманск, кардинально изменившей облик Кольской земли, ни добывающих предприятий (никакого никеля, никаких апатитов), ни асфальтовых шоссе, ни противоракетных баз. Кольские пейзажи Харузина – почти девственные – не менее ценное свидетельство, чем портреты людей в бытовых зарисовках. Потому что и пейзажи, и человек Севера в их первозданном обличьи исчезли безвозвратно. Сегодня можно лишь читать да фантазировать. А затем поехать и убедиться, что все давно изменилось.
И еще одно. «Русские лопари» Харузина не только разрушили множество тогдашних стереотипов, касающихся Севера и кольских лопарей, но и сегодня помогают обнаружить ряд общих мест нашего сознания. Например – тундра. Большинство читателей, услышав это слово, воображают большое и плоское пространство, покрытое болотами и водой (а порой вечной мерзлотой), поросшее морошкой, клюквой и редкими купами карликовой ивы и березы. А Николай Николаевич утверждает, что тундрой здесь называют сухое (прежде всего!) место, где растет олений ягель, причем совершенно неважно, вершина ли это горы, равнина или лесная поляна. Более того, если местному жителю сказать, что тундра – это болота, он обидится. На вопрос, как дойти до озера Духов, отвечают, что сперва надо идти пару верст по болоту, потом через тайболу, а дальше будет тундра, там уже легко.
ОЗЕРО ДУХОВ
Персики в Ловозерских тундрах не растут. Зато летом морошка рассыпана, словно цветы, осенью краснеет рябина, и белые лезут прямо на дорогу, а олений ягель по обочинам издалека напоминает зеленовато-серую пену. И мир там другой – как у Ли Бо! – не наш человеческий. Всякий раз, отправляясь на берег Сейдъявра (озера Духов), кроме спального мешка и еды, я кладу в рюкзак томик китайского поэта. С ним и странствовать веселее, и научиться можно многому.
Ловозерские тундры (по-саамски – Луяврурт) – мощный горный массив, взбугрившийся на северо-востоке Балтийского щита в процессе каледонского орогенеза[94]94
Орогенез (горообразование) – процесс формирования горных сооружений под влиянием интенсивных восходящих тектонических движений, скорость которых превышает скорость процессов, ведущих к выравниванию поверхности Земли. Процессы горообразования неоднократно происходили на протяжении геологической истории в заключительной фазе развития геосинклиналей (молодые горы), нередко распространяясь и на платформы (возрождённые горы). Главное проявление – складкообразование. В геологической терминологии орогенез является синонимом процесса складкообразования в результате вертикальных тектонических движений. Таким образом, каледонская складчатость – это продукт каледонского орогенеза.
[Закрыть] (между кембрийским и девонским периодами), то есть примерно четыреста миллионов лет назад. По мнению советского геолога, академика Александра Ферсмана, раньше это был подземный вулкан. И в самом деле – Ловозерские тундры по форме напоминают огромный кратер с озером Духов внутри. Не исключено, что вулкан этот не совсем погас, потому что раз в несколько лет священное озеро выбрасывает на берег тонны мертвого сига. Быть может, в воду проникают какие-то вулканические газы, а может, ее отравляют залежи редкой руды, выбираемой из Ловозерских тундр уже более полувека.
Впрочем, озеро Духов издревле пользуется несколько специфической славой. Некогда оно было местом саамских обрядов, магии, жертв и запечатленных в скалах мифов. В 1922 году экспедиция Александра Барченко[95]95
Александр Васильевич Барченко (1881–1938) – писатель, журналист. По профессии – врач-невропатолог. Был ученым консультантом Главнауки, заведующим нейроэнергетической лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины. Арестован в мае 1937 (обвинялся в шпионаже, в организации масонской террористической контрреволюционной организации «Единое трудовое братство») и расстрелян в 1938 г. Реабилитирован в 1956 году. При аресте у Барченко были конфискованы и после приговора уничтожены все книги, рукописи и его главный научный труд «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» со всеми приложениями, которые он готовил к печати.
[Закрыть] (с разрешения Дзержинского) исследовала там феномен меряченья.[96]96
Меряченье (от якутск. «мэнэрик» – «делать странности»), или арктическая истерия – состояние, характеризующееся подражанием словам, жестам и действиям окружающих, неудержимым желанием исполнить их приказы, а также другими проявлениями. Иногда носит массовый характер. Наблюдалось в начале XX в. среди аборигенов Сибири и проживавшего там русского населения. В связи с этим появился термин «психическая зараза». Юкагиры и якуты обычно связывали болезнь с кознями тундровых шаманов, разгневанных на людей, тревожащих их покой. Русские называли эту хворь «лангутским припадком». В 1870 году сотник Нижне-Колымского казачьего отряда в ужасе сообщал местному врачу: «Болеют какой-то странною болезнью в Нижне-Колымской части до 70-ти человек. Это их бедственное страдание бывает более к ночи, некоторые с напевом разных языков, неудобопонятных; вот как я каждодневно вижу 5 братьев Чертковых и сестру их с 9 часов вечера до полуночи и далее; если один запел, то все запевают разными юкагирскими, ламаутскими и якутскими языками, так что один другого не знает; за ними их домашние имеют большой присмотр».
[Закрыть] На рубеже XX и XXI веков Валерий Никитич Демин,[97]97
Валерий Никитич Демин (1942–2006) – российский ученый и писатель, доктор философских наук. Автор книг и статей, посвященных гиперборейской тематике. Руководитель первых научно-поисковых экспедиций «Гиперборея».
[Закрыть] москвич, доктор философских наук, организовал несколько шумных научных экспедиций, искавших мифическую Гиперборею. В последние же годы на берега озера Духов стали съезжаться всякого рода психи изо всех закоулков Российской Федерации в поисках галлюциногенных грибов и шаманской силы. Я знаю людей, встречавших там снежного человека, разговаривал с теми, кому довелось пережить там собственную смерть, и слышал о тех, кто пропал там без следа. От себя могу добавить, что это одно из самых красивых и необычных мест, какие я видел на свете.
Я бывал там в разное время года, бродил в одиночку и с друзьями, пешком и на лодке, на лыжах и на «Буране», но самые лучшие воспоминания остались о бабьем лете на берегу озера Духов с Наташей.
Попробуйте вполголоса проговорить имена гор, перевалов, долин, озер и рек, расположенных в массиве Ловозерских тундр – получится словно бы литания Матери-Земле. Быть может, вы ощутите прелесть первобытного языка и радость общения с духами первобытной природы. Имена будем произносить (в скобках я даю перевод саамских названий), следуя по кругу против движения солнца.
Итак, взгляните на карту! Ловозерские тундры подковой охватывают озеро Духов. На северовосточной оконечности этой подковы, почти над самым Ловозером поднимается Вавнбед («Гора голой попы») и Куамдеспахк («Гора шаманского бубна»), дальше на запад – Кемесьпахк («Гора токующих тетеревов»), Куйвчорр («Гора старца Куйвы»), Куэтнючорр («Гора с вежей с краю»), Сэлсурт («Гора туманов») и ее северный отрог Флора (в память открытия в 1935 году оттиска верхнедевонского папоротника, что позволило датировать массив), за ним Пялкинпорр («Гора белизны»), Карнасурт («Гора ворона») и Эльмарайок («Гора метели»), спускающаяся крутой осыпью к перевалу Эльмарайок (через него мы первый раз шли к озеру Духов). Затем цепь Луяврурт сворачивает к югу и поднимается двумя скальными цирками[98]98
Цирк – котловина или окруженное крутыми склонами чашеобразное расширение в верхней части горной долины, где обычно скапливаются лед, фирн или вода в виде озера.
[Закрыть] Раслака на Аллуайв («Гора высокой головы»), после чего спускается к перевалу Геологов и снова поднимается на Кедык-вырпахк («Гора падающих камней»), достигает пика на Ангвундасчорре («Гора покрытая инеем», тысяча сто двадцать один метр – самая высокая вершина массива), доходит до Сенгисчорра («Гора узкой грани») и сворачивает на восток. Далее следуют: Тавайок («Гора северной реки»), Маннепахк («Гора луны»), Страшемпахк («Трудная гора» – на нее трудно взобраться с санями), Энгпорр («Гора нор»), Пункаруайв («Гора лысой головы»), а замыкает подкову с юго-востока Нинчурт («Гора женской груди»). Что касается этой последней, Валерий Теплаков, пастух, мой друг, утверждает, что «Нинчурт» следует переводить как «Чертовы сиськи», и плутовато посмеивается – это, мол, в сущности, одно и то же.
Каждый раз, когда я произношу названия Ловозерских тундр – как вот сейчас, – словно вижу нойдов, танцующих на стенах скал и группы сейд-камней, точно вырезанных из воздуха. И одновременно чувствую, что они тоже не спускают с меня глаз. Старец Куйва рассматривает меня с Куйвачорр, повар Павра глядит из реки Чивруай («Долина каменного потока»), дух тетерева взирает с горы Кемесьпахк, дух змей – из реки Куфтуай, дух ольхи – с горы Лепхе, дух росомахи – из реки Киткуай, а дух Пустоты – из озера Райявр («Пустое озеро»). Словом – на протяжении всей этой языческой литании со мной пребывают духи всего, что обитает на этом и том свете.
Имена Ловозерских тундр можно проговаривать и двигаясь вслед за солнцем (по часовой стрелке) – начать с Нинчурта и закончить Вавнбедом. Это уж кому как нравится…
Будто утренний туман с озера Духов, ткутся саамские легенды. Более того, Сейдъявр в саамских мифах зачастую играет главную роль. Например, в сказке о Мяндаше, записанной Владимиром Чарнолуским в 1936 году, сказано, что если Айеке (бог грома) настигнет человека-оленя и поразит его первой стрелой, вулкан под Сейдъявром проснется и зальет землю кипящей лавой. Вторая стрела разожжет космический пожар, а третья заставит пасть на землю звезды. Погаснет солнце и наступит конец света.
Никия – жена бога полярного сияния, героиня одного из красивейших саамских мифов о Найнасе – родилась на острове на озере Духов. Ее имя означает «Тень-той-которой-нет». Когда я читал эту сказку, мне казалось, что ее написал Ли Бо. Тем более, что Никия – дочь Луны, возлюбленной китайским поэтом.
Однако главным героем мифов, связанных с озером Духов был (и остается по сей день) грозный Куйва, хозяин Сейдъявра. Его черная фигура (высотой более семидесяти метров) на скальном уступе на северном берегу озера не дает покоя ни исследователям, ни любителям всяких диковинок. Происхождение ее неизвестно. Одни утверждают, что это результат эррозии. Но почему в таком случае эта эрозия не продолжается? – возражают оппоненты. Другие полагают, что это гигантский петроглиф, хотя нигде больше таких нет. Третьи с пеной у рта настаивают, что это вышедшая на поверхность жила старой руды. А есть и такие, которые видят в огромной фреске на скале Куйвачорр тень титана Гипербореи, следы древнейшего ядерного взрыва… Стоит добавить, что никому еще не удалось сфотографировать Куйву вблизи. Было две попытки и обе закончились плачевно. Фотографов вместе с аппаратурой смело камнепадом.
Нет также единого мнения по поводу того, кем был этот легендарный Куйва. Наиболее распространена гипотеза, что это вождь чуди (чужеземных захватчиков), брошенный на скалу чарами саамского нойда. Может, поэтому в большинстве преданий о Куйве ощущается суеверный страх, а местные жители по сей день бросают в озеро серебряные монеты – дань старцу. Когда я впервые ночевал на берегу Сейдъявра, то еще не знал об этом обычае, и утром, разбуженный солнцем, прямо из спальника полез в воду. Но поплавать вдоволь не успел – небо над головой затянуло тучами и полил дождь. Погода внезапно испортилась. Позже, когда мы познакомились с Теплаковым, он объяснил, что это Куйва разозлился. Потом посмотрел на меня осуждающе и добавил, что в священном озере вообще-то купаться не стоит.
В саамских сказках постоянно встречается сюжет войны с чудью. На берегу Сейдъявра мы на каждом шагу натыкаемся на следы мифических боев. В долине реки Чивруай, на правом склоне (если смотреть со стороны озера) торчит обращенная в скалу голова Павры, полевого повара Куйвы. Заклятие настигло его у самого гребня горы – в наказание за кражу саамских драгоценностей. О диво, чертами лица он напоминает неандертальца. Или эвдиалит,[99]99
Эвдиалит (от греч. eu – хорошо и dialytos) – красивейший и редкий минерал, сложный силикат циркония, натрия и кальция с включениями различных редкоземельных элементов. Просвечивает по краям или полупрозрачен в тонких сколах. Хорошо растворяется в кислотах. Иногда слабо радиоактивен. Хрупкий.
[Закрыть] называемый еще «лопарской кровью». По легенде, это окаменевшие брызги крови саамов, которые полегли в борьбе с чудью. Темно-красный минерал (его высоко ценят ювелиры!) действительно напоминает засохшую кровь. Говорят, он растворяется даже в теплой воде. Эвдиалита много на берегу озера Духов.
Однако нельзя забывать, что, в отличие от других древних народов, саамы не записывали свои мифы на пергаменте или папирусе. Это уже позже были сделаны попытки реконструировать их эпос из осколков сказок и легенд, из орнаментов на сапогах или рисунков на бубнах. Саамы читали о своих героях, богах и демонах по книгам озер и скал. Письмом была для них кочевая тропа. Читать ее лучше на ходу.
Датой открытия горного массива Ловозерских тундр (ранее науке неизвестного) считается 24 июля 1887 года. В этот день в Ловозерский погост прибыла финская научная экспедиция – обычно именуемая экспедицией геолога Вильгельма Рамзайя,[100]100
Вильгельм Рамзай (1865–1928) – финский ученый-геолог, исследователь Хибинских и Ловозерских тундр.
[Закрыть] хотя руководил ею зоолог Юхан Пальмен[101]101
Юхан Аксель Пальмен (1845–1919) – финский зоолог, член-корреспондент Петербургской АН.
[Закрыть] (среди участников были также орнитолог, ботаник и картограф). Дело в том, что открытие массива Луяврурт и его минеральных богатств заслонило другие результаты экспедиции, как, например, составление первой карты региона (которой позже воспользовался Ферсман) или описание новых видов мхов. Остались без внимания также сообщения о таинственных явлениях, замеченных экспедицией на берегу озера Духов. Лишь недавно журналистка Кристина Лехмус опубликовала воспоминания Петтери Кетола, одного из ассистентов финской экспедиции. Некоторые детали его повествования (записанного в 1930-е годы) заставляют по-новому взглянуть на дальнейшие события в Луяврурте.
Прежде всего, с местными жителями договориться не удалось – они отказались показывать финнам дорогу к Сейдъявру, объяснив, что там, среди болот, лежит город мертвых, охраняемый мстительными гномами. Однако финны не вняли предостережениям и сами отыскали путь, положив начало разработке богатейших залежей минералов. Уже в первом докладе Рамзай сообщает о залежах полевого шпата в Ловозерских тундрах. Он упоминает нефелин, содалит, амфибол, эвдиалит и полевой шпат, а также подробно описывает семь ранее неизвестных минералов.[102]102
На сегодняшний день в массиве Ловозерских тундр открыто более пятисот минералов. То есть больше, чем в районе Лонгбан в Швеции или Тсумеб в Намибии.
[Закрыть] Номером первым идет лопарит[103]103
Лопарит – руда железисто-черного, с поблескиванием, цвета, порой с просветами красного. Название от слова «лопарь».
[Закрыть] – руда, содержащая редкие металлы: тантал, титан, ниобий и лантаноиды. Проклятие Луяврурта.
Да-да, именно проклятие! Кетола рассказывал, как на одном из островов озера Духов – Могильном – финские ученые повстречали трех саамских нойдов. Они пригласили их к костру, угостили чаем. Время от времени старший из нойдов бросал в огонь какие-то травы. Вдруг, ни с того ни с сего, лицо его изменилось до неузнаваемости (Кетола твердил что-то о медведе), он впал в транс и стал сумбурно проклинать чужеземцев:
– О-о-о, будьте вы прокляты, смерть сюда несете. Горы трупов! Вижу общие могилы в тундре. Людей загоняют, точно оленей. Копать и копать. На берегу Имандры, в Хибинах и на Килдине, в священных горах Луяврурт. Повсюду дым до небес и кровь. Облака дыма и кровавый туман. Золото и железо, цепи, крики и плач! Но их жалоб никто не слышит… Им велят копать и рыть. Кто нашел золото Хибин, серебро Килдина, камни Сейдъявра? Кто нарисовал палачам путь на бумаге? Пусть же у него камень застрянет в горле.
Можно себе представить, какое впечатление произвело на молодого Петтери проклятие саама, если он помнил его до самой смерти. Но это еще не все. Может, под воздействием дыма от травы, брошенной саамом в огонь, а может, под впечатлением его слов, финны на мгновение заглянули в страну умерших. Они вдруг увидели рядом с собой окаменевших людей с пустыми, лишенными выражения лицами.
– Это был кошмар, – вспоминал Кетола, – я чувствовал, как сам под их взглядами обращаюсь в камень.
Это был иолит. Магмовая скала, миллионы лет назад застывшая в недрах земли, приняла фантасмагорические формы полулюдей-получудовищ. Ощущение необычности происходящего наверняка усилили испарения горячего источника, который бил поблизости (словно дым из бездны ада) и ирреальное бледно-зеленое, чуть фосфоресцирующее зарево белой ночи. И вот еще что: район озера Духов неслучайно стал местом шаманских культов. В этих местах человек легко становится жертвой арктической истерии. Меряченья.
В январе 1922 года известный невропатолог, профессор Владимир Бехтерев, директор Петроградского института мозга, командировал на Кольский полуостров одного из своих сотрудников, Александра Барченко, поручив ему исследовать явление меряченья. Речь шла о психических аномалиях в районе озера Духов. Есть основания предполагать, что экспедицию финансировал Специальный отдел ОГПУ, который еще раньше заинтересовался трудами Барченко.
Откуда такой интерес у советских чекистов? Быть может, ответ следует искать в письме Барченко, кстати, одном из немногих, сохранившихся в его архиве. Цитирую: «Здесь, в этом вымерзшем пустынном краю, распространено необычное заболевание, называемое меряченьем (или арктической истерией). Им болеют не только местные, но и приезжие. Это специфическое состояние напоминает массовый психоз, обычно проявляется во время совершения шаманских обрядов, но иногда способно возникать и совершенно спонтанно. Пораженные меряченьем люди начинают повторять движения друг друга, безоговорочно выполняют любые команды, порой могут предсказать будущее. Если человека в таком состоянии ударить ножом, это не принесет ему вреда!». Разве это не находка для любой госбезопасности?
Александр Васильевич Барченко был достойным сыном своей эпохи. Еще до революции он написал несколько новелл в духе Эдгара По, два года изучал медицину в Казанском университете (где, вероятно, познакомился с Бехтеревым), занимался проблемами парапсихологии и передачи мыслей на расстоянии, а также поиском пропавших цивилизаций. Результаты своих исследований публиковал в научно-популярных журналах. Сразу после революции Барченко заинтересовал Феликса Дзержинского и ЧК. После экспедиции на Сейдъявр (видимо, оказавшейся плодотворной) Барченко возглавил секретную лабораторию ОГПУ по исследованию человеческого мозга. В 1930 году он путешествовал по Алтаю, собирая материалы о шаманских камланиях. Планировал экспедиции в Тибет, Монголию и Афганистан. К сожалению, не успел. В 1937 году Барченко был расстрелян.
Данных об экспедиции Барченко в район озера Духов сохранилось немного. Ее участники погибли в лагерях, а почти вся документация – фотографии, отчеты, письма – бесследно исчезла в архивах органов госбезопасности. До наших дней дошли отрывки: несколько фотоснимков и отдельные листки из дневника руководителя экспедиции, геофизика и астронома Александра Кондиайна (чудом уцелевшего в семейном архиве после ареста и смерти автора), несколько поблекших машинописных страниц – фрагмент труда, в котором Барченко излагает свои историософские взгляды (передал их семье сопровождавший экспедицию чекист), несколько писем. Вот и все.
Мы никогда не узнаем наверняка, что же на самом деле искал Барченко на берегу саамского озера Духов. Прибыл ли он туда делать замеры для будущих мелиорационных работ (официальная версия!) или исследовать явление арктической истерии? Работал ли по заданию института Бехтерева или выполнял секретное задание спецслужб? А может, пользовался поддержкой и тех, и других в собственных интересах? Например, искал на берегах Сейдъявра следы мифической Гипербореи?
Гиперборейскую гипотезу уже много лет упорно отстаивает доктор Демин, организатор нашумевшей экспедиции по следам Барченко. Он утверждает, что Александр Васильевич Барченко не только обнаружил свидетельства существования архаического культа Солнца в Луяврурте (в частности, астрономическую обсерваторию, созданную тысячи лет назад, каменный амфитеатр и так далее), но также отыскал вход в подземную лабораторию, в которой гиперборейцы якобы собирались расщепить атом, работать над использованием ядерной энергии, а также экспериментировать с лазером.
Сохранился сделанный Кондиайном снимок, запечатлевший участников экспедиции Барченко на фоне этого входа в лесу.
Расскажу о сенсациях последних нескольких лет, связанных с экспедицией Демина. Потому что от пребывания Барченко в Луяврурте ее отделяет целая эпоха. Возможно, наиболее значимая.
Все началось с железной дороги Петербург-Мурманск. Поспешно выстроенная в начале Первой мировой войны – Россия в это время оказалась отделена от Балтики и Черного моря, так что Романов-на-Мурмане (позже Мурманск) был единственным портом, через который можно было осуществлять снабжение армии, – после окончания военных действий она сделалась не нужна, к тому же требовала срочного ремонта. Перед молодой Советской властью встал вопрос: откуда взять деньги? Тем более, что с точки зрения финансов Кольский полуостров казался бесперспективным (ни промышленности, ни сельского хозяйства). Была создана правительственная комиссия, в состав которой вошел, в частности, выдающийся геохимик и минералог, академик Ферсман (Саша Кобелев, президент Сапми, назвал его в разговоре со мной Пилатом саамов!). В мае 1920 года члены комиссии отправились поездом на Север, чтобы собственными глазами увидеть и решить, имеет ли смысл ремонтировать и эксплуатировать железную дорогу на Кольском полуострове. Путешествие было ужасным, – вспоминал спустя годы Ферсман, – бесконечные остановки: то поезд сойдет с рельсов, то кончатся дрова для паровоза… Неудивительно, ведь дорогу эту строили рабы – узники и военнопленные.
(В скобках замечу, что я люблю русские железные дороги и много лет мечтал какой-нибудь Новый год отметить в поезде. Время острее всего ощущаешь в движении, так что перспектива встретить Новый год в бескрайнем пространстве Севера привлекала меня больше, чем сидение за накрытым столом в ожидании кремлевских курантов. Эту идею я осуществил недавно в поезде Мурманск-Петербург. Я возвращался из Луяврурта. Один-одинешенек в купе, почитал, погасил свет, чтобы лучше видеть северное сияние. В темном окне, как на экране, отражается просвет приоткрытых дверей в коридор, незнакомые люди ходят туда-сюда (рядом вагон-ресторан); чем ближе к полуночи, тем больше суматоха: аромат духов, шум голосов, звяканье бокалов. А снаружи пусто, редкие огоньки, полувымершие станции. Поезд все больше напоминал «пьяный корабль». Новый год мы встретили за Сегежей. Над Медвежьегорском салют. На перрон в Петрозаводске выбрались в полтретьего – словно из поэмы Рембо.)
После этого отступления возвращаюсь к воспоминаниям Ферсмана. В очередной раз они остановились близ Имандры, снова кончились дрова. Пользуясь остановкой, Александр Евгеньевич уговорил спутников пойти на экскурсию. Они отправились на близлежащую гору Маннепахк. «Невозможно забыть впечатление, – написал он потом в «Путешествиях за камнем», – какое произвела на нас обширная панорама, уходящая за горизонт. Все было ново и неожиданно: бесчисленные цепи гор, чьи мощные хребты тянулись, к нашему изумлению, на восток. Откуда взялись эти горные массивы, если на картах тут значились низины? Это был совершенно новый, никому ранее неизвестный горный мир. А эти фантастические камни! Порой я не умел назвать ни одного минерала в кристаллах разных цветов и размеров. Я сразу решил, что должен любой ценой исследовать этот район».
И сдержал слово – к несчастью Кольского полуострова. Потому что, выражаясь языком той эпохи, это было началом «войны за минералы». За несколько лет геологи Ферсмана при поддержке товарища Кирова из Петрограда буквально перекопали Хибинские и Ловозерские тундры (только в 1920–1922 годах прошли около тысячи пятисот километров и открыли более сотни месторождений минералов). Строились огромные промышленно-добывающие комбинаты, вырастали города (Мончегорск, Хибины, Кировск), куда съезжалась масса людей в погоне за «длинным рублем». Охваченный идеей тотальной химизации Советского Союза, Ферсман писал: «Это отнюдь не фантазия, не сказка, а плоды большевистской деятельности. Победа в борьбе с природой! Мы победили край непуганных птиц, безмолвную тундру, зимой белую от снега, летом – от оленьего ягеля». Поистине, сам дьявол нашептал ему эти слова, верно?
Сначала минеральная лихорадка пощадила Ловозерские тундры. Ферсман делал ставку прежде всего на хибинские апатиты и Мончегорский никель. Потом на короткое время геологов привлек ловозерский эвдиалит (содержащимся в нем цирконием, которого в Советском Союзе не хватало), однако настоящим стимулом для развития добывающей промышленности в районе Сейдъявра оказалось открытие во второй половине тридцатых годов выхода на поверхность лопарита – сперва на горе Нинчурт, затем в цирке Раслака на Аллуайве. Первые три штольни на Аллуайве были пройдены в 1937 году. Через два года по указу властей создан горно-обогатительный комбинат «Аллуайвстрой». Как и все в ту эпоху, название ему дали тоже «на вырост».
Рабочих подбирали кое-как. Лев Евгеньевич Эгель, директор комбината, жаловался в письме к начальству, что девяносто процентов рабочей силы – маргиналы. Это были люди без постоянного места жительства, нередко скрывающиеся от милиции: например, главарь банды, грабившей поезда, капитан порта, спьяну приревновавший и убивший жену, одессит, изготовлявший поддельные документы, осужденный на десять лет, но сумевший бежать из лагеря, два десятка монахов из печенегского монастыря, которых привели на комбинат насильно. Единственных специалистов, финских подрывников (ветеранов Беломорканала), вскоре арестовали «за антисоветский заговор» и всей бригадой – без исключения – расстреляли.
Ситуация нормализовалась в 1941 году, когда Иосиф Сталин поручил заняться «Аллуайвстроем» товарищу Берии. 22 апреля в шахты прибыла первая партия заключенных. Уже через два месяца на территории комбината работало двадцать тысяч зеков. Во время войны оборудование и рабочих эвакуировали за Урал. В норильские никелевые шахты.
После войны проблемы, связанные с редкими металлами, объявили строжайшей государственной тайной. Дополнительный секрет массива Ловозерских тундр заключался в больших количествах обнаруженного там тория, на который, как и на уран, возлагали большие надежды конструкторы атомной бомбы. Поэтому неудивительно, что материалов и свидетельств послевоенной истории Луяврурта сохранилось немного.
Добыча руды в цирке Раслака на Аллуайве возобновилась в мае 1946 года. Однако в декабре выяснилось, что залежи лопарита на Карнасурте (священная гора саамов!) не только обширнее, но и доступнее. В 1947 году работы на Аллуайве были остановлены и начата разработка (продолжающаяся до сих пор…) карнасуртского участка. В 1948 году пройдены две первые штольни и вырыт котлован под фундамент дробильно-обогатительной фабрики. Людей поселили в лагере на берегу озера Ильма у подножия Горы Ворона.
Судя по сохранившимся – обрывочным – сообщениям, быт рабочих был ужасен. Зимой 1948 года, – вспоминает врач Татьяна Тарасова, которую вместе с подругой разместили в дырявой брезентовой палатке, вместе с двумя мужчинами-геологами (палаток не хватало), – в лютые морозы спали в пальто, валенках, шапках-ушанках. Утром, чтобы открыть глаза, приходилось размачивать слюной смерзшиеся ресницы. На работу ходили, держась за канаты, чтобы не сдуло ветром. Горячим концентратом лопарита мыли посуду, натирали спину и полоскали горло. Никто ведь не удосужился объяснить рабочим, что концентрат радиоактивен.
С 1949 года для работы на комбинате, а также строительства поселка Ревда и дороги из Ревды в Оленегорск снова использовали зеков – главным образом, «врагов народа» и власовцев, приговоренных к двадцати пяти годам заключения. Режим работы для вольнонаемых и зеков по сути ничем не различался. Например, за четерть часа опоздания на работу вольнонаемный получал четыре месяца «принудиловки» (принудительного труда), за опоздание более чем на двадцать минут – два года тюрьмы. Следов лагерей в Ловозерских тундрах сохранилось множество и по сей день, нужно только уметь их прочитать на поверхности тундры – по цвету мха, камням, сколам. Меня этой премудрости обучили местные пастухи.
И хотя после смерти Иосифа Виссарионовича лагеря в Ловозерских тундрах ликвидировали, район оставался «закрытой зоной» до начала 1990-х годов.
Одному богу (а также тайным службам) известно, что там искали и что нашли. До ельцинской смуты посторонних к Луяврурту не подпускали на пушечный выстрел. Никаких туристов! Никаких иностранцев! Под запретом было само сочетание слов «Ловозерские тундры» и «лопарит»!
Потом воцарился хаос. Оказалось, что добыча лопарита слишком дорогостоящее дело – дешевле покупать редкие металлы у китайцев. Тем более, что в Китае их добывают из глины, а не из радиоактивных концентратов, переработкой которых уже никто не хочет заниматься. Пресса поговаривает, что шахты надо затопить. А что делать с людьми? Шахтеры бунтуют (полгода без зарплаты!) и грозятся просто бросить выработки – понятно, чем это чревато. «Зеленые» тоже бьют тревогу: затопление шахт приведет к экологической катастрофе – радиоактивный ил просочится в озеро Умба, а оттуда – в Белое море.
– Словом, все слышат, как под задницей тикает бомба, но никто не знает, как с нее слезть.
Сегодня шахта «Карнасурт» напоминает кадры из «Сталкера»: слепые здания из железобетона – то ли административные корпуса, то ли цеха, повсюду лужи маслянистой грязи, отвалы, издалека напоминающие горы шлака, призрачная платформа и неподвижный мостовой кран, стальные ангары в потеках ржавчины, облака сизого дыма, цистерны на колесах, узкоколейка. В последний раз мы проходили там в прошлом году, это единственная дорога из Ревды (через перевал Эльмарайок) к озеру Духов, и я до сих пор ощущаю во рту химический привкус. Словно пережевываю проклятие саамского нойда.
В конце XX века, который понаделал дырок в Ловозерских тундрах, а в людских головах оставил пустоту, вновь заговорили о шаманских традициях Луяврурта. Может, виной тому мода на нью-эйдж, может, таковы последствия Духовной смуты, но озеро Духов снова манит всевозможных искателей – как специалистов по исчезнувшим цивилизациям, так и любителей измененных состояний сознания. С некоторых пор священное озеро саамов слывет в России одним из главных «мест силы».[104]104
«Место силы» (ср. англ. «Place of Power») – местность с повышенной энергетикой, особой атмосферой, способствующее гармонизации организма и позитивному настрою или ухудшению самочувствия. В местах силы часто происходят различные аномальные явления.
[Закрыть] Гипотезы выдвигаются разные. Одни утверждают, что располагаясь на геологическом разломе, Сейдъявр излучает энергию Матери-Земли, другие уверяют, что будучи местом обрядов и шаманских культов, Сейдъявр отдает накопленное столетиями напряжение камлания. А кто-то предполагает, что это просто излучение – ядерное или космическое. В результате на Кольский полуостров тянутся наследники идей Барченко.
Одним из них, причем, вне всяких сомнений, наиболее известным, был Валерий Демин. В 1997 году, то есть в семьдесят пятую годовщину экспедиции Александра Васильевича Барченко на Кольский полуостров, в апрельском номере популярного журнала «Наука и религия» появилась статья Демина о предприятии Барченко – этот текст и открыл «новую эру» в истории исследования Ловозерских тундр.[105]105
В июле 1993 года на страницах журнала «Наука и религии» была опубликована статья внука Барченко, который пополнил биографию деда несколькими незначительными деталями из семейного архива. Как мне кажется, он пытался очистить память о деде от подозрений в сотрудничестве с «органами», но добился скорее обратного результата.
[Закрыть] Валерий Никитич утверждал – ни больше ни меньше, – что массив Луяврурт – это руины храма Солнца мифической Гипербореи (описанной древними греками), северной колыбели человечества, из которой наших предков изгнал изменившийся вследствие искривления земной оси климат. Александр Барченко – согласно Демину – обнаружил следы этого храма, но НКВД ловко их упрятало. Поэтому следует организовать очередную поисковую экспедицию. Она проходила под патронатом журнала «Наука и религия» и получила громкое имя «Гиперборея».
С каждым годом масштабы мероприятия росли: летом 1997 года работало лишь четверо энтузиастов, а в 2000-м Ловозерские тундры уже прочесывали огромные отряды из разных уголков России (из Москвы и Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Тулы) – с помощью хитроумных приборов (например, геозондов), при поддержке вертолетов и группы аквалангистов. Со временем к поискам присоединились самые разные специалисты – археологи, геологи, кибернетики и астрофизики, знатоки веданты,[106]106
Веданта – одна из шести ортодоксальных школ в философии индуизма.
[Закрыть] шаманизма, рунического письма и обрядов друидов, а также мурманский телевизионный канал, клуб вологодских лозоискателей и несколько независимых фотографов, например, мой знакомец Игорь Георгиевский и его жена Светлана, иллюстратор «Калевалы» (я писал о них в «Волоке»). Журнал «Наука и религия» регулярно публиковал плоды этих поисков.
Если верить Валерию Никитичу и его коллегам, успехи «Гипербореи» не могут не восхищать. Каждый очередной сезон приносил новые ошеломляющие результаты. К важнейшим – по мнению Демина – следует отнести открытие природного амфитеатра храма Великой богини на одном из склонов горы Карнасурт и остатков древней астрологической обсерватории на горе Нинчурт, обнаружение на дне Сейдъявра огромного (размером сто метров на двести) символа трех вагин на Древе Жизни (потрудились аквалангисты из московского отделения Международной школы выживания «Виталис»), а также прочтение Евгением Лазаревым, знатоком рун, молитвы гиперборейцев, высеченной на скале Нинчурт:








