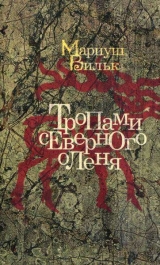
Текст книги "Тропами северного оленя"
Автор книги: Мариуш Вильк
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Сперва засияла из ловозерской тьмы роскошная новогодняя елка. Она стояла возле памятника Ленину (ни дать ни взять – саам на камне). Рядом таяли Дед Мороз и Снегурочка. Была оттепель, а скульптуры ледяные.
Потом из того же мрака показался настоящий абориген. Закутавшись в печок,[42]42
Печок – саамская зимняя одежда, сшитая из оленьего меха волосом наружу.
[Закрыть] он шагал нам навстречу, волоча за собой длинные санки. Мы обменялись парой фраз, а Наташа нас сфотографировала. Старый саам пожаловался, что браконьеры в форме бьют в тундре оленей. Палят из «Калашниковых» наугад, с вертолетов. Русские военные базы на берегу Баренцева моря граничат с саамскими пастбищами. Ничего удивительного в том, что, имея под рукой живое мясо, армия экономит провиант.
– Ладно солдаты – хоть наедятся вволю, – бросил саам на прощание. – Хуже, когда на охоту выезжают «новые русские», – эти язык да печень вырежут, а тушу бросят.
Последние слова заглушил проезжавший мимо «Буран» – снежный скутер. На них тут носятся, как в свое время на оленях. Только олени бегали бесшумно, а «Бураны» – с ревом. Этот звук сопровождает меня с первых шагов в Ловозере. Словно гитара Нила Янга в путешествии Уильяма Блейка по Дикому Западу.
Чтобы отдохнуть от шума «Буранов», мы зашли в музей. Там было тихо и пусто. Ни души. В выставочном зале темень, за окном – тоже. Только касса светится. В моей памяти вспыхивает очередной кадр: на одной из ловозерских фотографий 1927 года мы видели деревянную церковь, на месте которой стоит теперь музей. Остальное тонуло во мраке. Мы заглянули в несколько магазинов: глаза сверкали доброжелательным любопытством – мол, надолго ли в гости? На темной улице лица, освещенные огоньками сигарет. И улыбка Ларисы Павловны, директора Центра саамской культуры, от которой мы сразу почувствовали себя своими.
30 января
Еще одно воспоминание о первых днях в Ловозере, которое хочется запечатлеть, – отсветы новогоднего камелька. В ожидании новогоднего выступления Путина по телевидению мы пекли на огне из ольховых щепок оленину и потягивали шампанское. Ольха, согласно верованиям саамов, обладает очищающей силой, шампанское у камина – после русской бани и валяния в снегу – наслаждение… Кремлевские куранты пробили полночь.
– Ющенко, небось, извиняется перед украинцами за то, что шампанское у них нынче без газа, – пошутил Иван.
Потом мы до самого утра покачивались под «ДиДюЛю»,[43]43
Валерий Дидюля – белорусский гитарист и композитор, лидер группы «ДиДюЛя». Исполняет фолк-музыку и музыку в жанре фьюжн.
[Закрыть] а водку закусывали «гранатовым браслетом». Это русская закуска из оленины, названная по рассказу Александра Куприна. Соленое мясо оленя с гранатом.
3 февраля
Александр Кобелев – президент Saami Council,[44]44
Совет саамов (англ.).
[Закрыть] союза саамов всего мира – Норвегии, Швеции, Финляндии и России. Иначе говоря, Саша – президент Сапми: так называется по-саамски территория на северной оконечности Европы, на протяжении тысячелетий населяемая саамами. Президент Сапми избирается раз в два года.
Наш с Сашей разговор начинается с обсуждения языка, ведь без языка нет смысла говорить о будущем саамов. Проблема в том, что по сей день кольские саамы практически не имеют собственной письменности. Попытки создать ее на основе латиницы в 1930-е годы закончились сталинскими лагерями, а о сегодняшних опытах с кириллицей, которыми, в частности, занимается Александра Антонова,[45]45
Александра Андреевна Антонова (р. 1933) – автор саамского букваря, переводчик, литературовед, поэтесса.
[Закрыть] автор саамского алфавита, пока еще трудно говорить всерьез.
– Самое интересное, – смеется Саша, – что Александра Андреевна в свое время была учительницей русского языка в ловозерской школе, и если замечала, что мы болтаем по-саамски, лупила по рукам.
Именно советская школа, преподавание в которой велось по-русски, виной тому, что большинство кольских саамов забыло свой язык. При царизме можно было просто не отдавать ребенка в школу, да, собственно, и школ никаких не было – разве что церковно-приходские, куда все равно никто не ходил, поскольку дети вместе с родителями кочевали по тундре. А когда Советская власть ввела обязательное среднее образование, в Ловозере выстроили интернат для школьников, оторвав детей сразу и от родителей, и от родного языка. Теперь, когда наконец спохватились, что без языка нет нации, оказалось, что одни лишь старики еще что-то помнят.
Однако пытаться сохранить это без письменности – все равно что черпать воду сетью.
– Вот представь себе, что твои соотечественники вдруг забудут польский и перейдут на английский. Но ведь они в любой момент смогут вернуться назад, поскольку их язык запечатлен в литературе. А нам как быть?
Второй вопрос – саамская кровь, то есть происхождение. Ведь еще совсем недавно быть саамом считалось стыдно. Саамы оказались на Кольском полуострове гражданами низшего сорта – «хуже» русских, украинцев, евреев и коми-ижемцев. Поэтому у кого была возможность, тот вписывал в паспорт другую национальность. Парадокс в том, что когда в российских паспортах ликвидировали рубрику «национальность», быть саамом вдруг сделалось выгодно. Именно в это время заговорили о правах аборигенов Севера, установились контакты со скандинавскими саамами, хлынул поток долларов и грантов.
– Да что там говорить, один браконьер, к примеру, – вспоминает Саша, – украинец из Апатитов, захотел стать саамом – нам полагаются льготы на разрешение на охоту.
Так что возникла проблема: по каким критериям определять, кто саам, а кто – нет. Это очень важно, если серьезно подходить к идее создания саамского парламента. Его нет только в России. В Финляндии саамский парламент действует с 1973 года, в Норвегии – с 1989, в Швеции – с 1993. Для формирования парламента саамов в России необходимо сначала решить, кто вправе его создавать и кто – быть его членом. Другими словами, следует провести перепись российских саамов… За основу был принят критерий крови: хотя бы один из родителей должен быть саамом.
– Впрочем, все мы тут друг дружку знаем и знаем, кто есть кто. Проблема только в законодательстве.
Самый болезненный вопрос – саамская земля. Уж очень многие на нее претендуют – начиная с российской армии и добывающей промышленности и кончая новыми русскими и туристическим бизнесом. Достаточно взглянуть на карту, чтобы понять, как мало жизненного пространства осталось у саамов Кольского полуострова. Их выгнали с побережья Баренцева моря, где они веками охотились на тюленей – теперь там база атомных подводных лодок. Вытеснили с северо-запада, выстроив «закрытые» города Никель и Заполярный. Железная дорога отрезала их от озера Имандра – для саамов оно, как Байкал для бурятов. Наконец, Мончегорском засрали тундру Монче,[46]46
Монче – в переводе с саамского – «красивый».
[Закрыть] а Апатитами – Хибины. Теперь саамов выживают с восточной части Кольского полуострова. Лучшие места для ловли северного лосося на Поное взяли в аренду американцы – на двадцать пять лет. Иоканьгу заняли новые русские. А недавно шведская фирма «Булиден» собралась на реке Вороньей, близ Ловозера, добывать открытым способом золото. Тогда пришел бы конец и оленям, и кольским саамам. К счастью, на сей раз саамы вовремя спохватились, подняли шум, добились поддержки, и шведы отступили. Но это не значит, что не появится кто-нибудь еще. До тех пор, пока из саамской земли есть что выжать, существование на ней саамов поставлено под угрозу.
Отсюда даже ягель на Запад вывозят. По несколько сот тонн сухого оленьего мха в год. Знаешь, зачем?
– Понятия не имею.
– Могилы украшать!
Пауза. Саша задумался, а я переваривал его слова. Получилась мрачная, но очень точная метафора Европы, обкладывающей свои трупы животворной травой оленей, которые служили источником жизни для праевропейцев.
– Сегодняшние европейцы, – Саша посмотрел на меня, словно читая мои мысли, – сперва выстроят дом, а уж потом задумаются, что под ним росло. Место под строительство выбирают, руководствуясь исключительно собственной выгодой, о земле не заботятся. А для нас земля – это святое.
Поэтому, чтобы спасти саамскую землю от экологического варварства, надо действовать. Речь идет вовсе не о том, чтобы оторвать Кольский полуостров от русской «матери», в чем кое-кто подозревает саамов, надо лишь добиться, чтобы саамы – коренное население этих территорий – сообща хозяйствовали на своей земле. То есть имели решающее право голоса в вопросах землепользования. Как, например, канадские инуиты[47]47
Инуиты – самоназвание эскимосов.
[Закрыть] в Нунавуте. Но мурманская Дума до сих пор не приняла закон о коренном населении. Возражают коми-ижемцы – у них свои интересы.
Тут Саша делает небольшое отступление и рассказывает о том, какую роль в истории кольских саамов сыграл граф Витте. В конце XIX века русские собирались выстроить на Баренцевом море порт (сегодняшний Мурманск), связав его железной дорогой с остальной территорией. Осуществление этих грандиозных планов затрагивало малонаселенные территории, к тому же не русские. Сергей Витте предвидел, что в далеком будущем это чревато проблемами. Поэтому он поддержал переселение коми-ижемцев с Печоры на Кольский полуостров, заранее подготовив почву для конфликта двух малых народов, а России отвел в этом споре роль третейского судьи.
Но это же абсурд, – возмутился я, выслушав Сашу, – чтобы люди, появившиеся здесь чуть более сотни лет назад, претендовали на право называться аборигенами.
И тем не менее это факт.
При этом коми-ижемцы ввели здесь свои методы выпаса оленей, подходящие для бескрайней Большеземельской тундры,[48]48
Большеземельская тундра – холмистая моренная равнина между реками Печорой и Усой, Уралом и Пай-Хоем, в пределах Ненецкого автономного округа (Архангельской области) и Коми АССР.
[Закрыть] но убийственные для ограниченных пастбищ Кольского полуострова. Испокон века когда наступало лето, саамы пускали стада пастись самостоятельно, благодаря чему олени не вытаптывали корм до голой земли, а лишь пощипывали его, мигрируя небольшими группами. На таком выпасе бизнес не сделаешь, это скорее способ выжить, нежели заработать на жизнь. А коми-ижемцы круглый год держат огромные стада под присмотром пастухов, и пока олени не съедят корм на одном месте, на новое их не перегоняют.
– Они просто разводят оленей, а мы благодаря оленям существует. Если олени вымрут, то и нам конец.
5 февраля
Не успели оглянуться, как доели важенку. А думали, хватит на всю зиму! Наташа шутит: мы, мол – оленинозависимые. Что-то в этом есть…
Посмотрите, что едят олени – они любят растения, которые другое животное в рот не возьмет. Например, калужницу, лютик. Некоторые содержат алкалоиды. Подозреваю (хотя в литературе об этом нет ни слова), что олени, любители грибов, порой лакомятся мухоморами. Ну, и ягель… Где-то я вычитал, что в фармацевтической промышленности его используют для производства антибиотиков. Ничего удивительного, что приправленная таким образом оленина может воздействовать на человеческий организм. Все равно что паштет из индийской конопли.
Короче говоря, мы подсели на оленину, как на иглу. Никогда в жизни я не ел столько мяса. Раньше я вообще предпочитал вегетарианскую еду, а мясо употреблял только по праздникам. Кто бы мог подумать, что его можно есть постоянно? Но подчеркиваю – речь идет только об оленине! К свинине или говядине мое отношение не изменилось, по сравнению с ними мясо оленя – поистине плоть. Понимаете?
Я не удивляюсь древним охотникам на оленей, которые, когда ледник стал отступать из Европы, двинулись вслед за оленями к северу – вместо того, чтобы радоваться: тепло, в лесах полно другой живности, а в озерах – вдоволь рыбы. Они тоже были оленинозависимые.
Оленину можно готовить по-разному. Сушить, варить, тушить, печь и жарить. Одно из моих любимых блюд – саамский лимм, густой отвар из оленины, в который добавляют щепотку ржаной муки и несколько стаканов тертых ягод – лучше всего морошки. Лимм имеет мясной, сладковато-винный вкус. Сначала из него вылавливают мясцо, а потом запивают бульоном. Еще я люблю филе, тушенное в вине с изюмом, студень из оленьих ног, ребрышки на гриле, язык под кислым соусом, шпик с горчицей, сердце под хреном.
Из прекрасной книги Юрия Симченко «Культура охотников на оленей северной Евразии» я узнал, что в прошлом житель Севера, чтобы обеспечить себе нужное для этой географической широты количество калорий, должен был съедать двадцать пять оленей в год. Так что мы без лишних церемоний купили у Олиного дяди очередную тушу. На сей раз это хирвас, трехлетний бык. Сорок восемь килограммов живого веса. Вкуснятина.
* * *
Из книги Симченко я выписываю статистику, над которой стоит задуматься. По мнению специалистов, арктический район Евразии, от Скандинавии до Чукотки, в прошлом мог прокормить от двух с половиной до трех миллионов оленей. В этом случае ежегодный прирост поголовья составляет не более двухсот десяти тысяч оленей. Другими словами, три миллиона оленей в древнейшие времена могли прокормить не более восьми с половиной тысяч охотников. Симченко подчеркнул, что число несколько завышено, поскольку он рассматривает идеальные условия и не учитывает волков.
6 февраля
Сегодня все саамы празднуют День саама, учрежденный в память о первом саамском собрании в 1917 году в норвежском городе Тронхейм. В Ловозере празднества начались с поднятия саамского флага.
В центре флага – шаманский бубен. Цвета соответствуют четырем стихиям: синий – вода, желтый – солнце, зеленый – земля, красный – огонь. Красно-синий круг посередине символизирует также солнце и луну.
Ровно в четыре часа дня флаг торжественно внесли в концертный зал Центра саамской культуры. Чум трещал по швам. Масса гостей. Стоя спели саамский гимн (стихотворение Исака Сабы),[49]49
XIII Саамская конференция в г. Оре, Швеция, одобрила произведение Исака Сабы «Песнь саамского рода» в качестве текста официального саамского гимна; Исак Саба (1875–1929) – депутат стортинга Норвегии (1906–1912), участник археологических раскопок, собиратель саамских песен и йойки.
[Закрыть] заканчивающийся призывом вернуть саамскую землю саамам.
Потом прозвучали торжественные речи о целостности саамского народа, вопреки разделяющим его границам. Поздравили юбиляров. Василия Галкина[50]50
Василий Галкин – многократный чемпион летних саамских игр.
[Закрыть] провозгласили саамом года. Новобрачным раздали подарки и каждую пару обвязали арканом (по древнему обычаю!), пожелав молодоженам долгой совместной жизни. Объявили, что за последний год в Ловозере родилось восемь новых саамов. Ура!
Художественную часть открыла Эльвира Галкина,[51]51
Эльвира Абрамовна Галкина (р. 1965) – саамская поэтесса, исполнительница саамских песен.
[Закрыть] которую некоторые сравнивают с Джоан Баэз.[52]52
Джоан Чендос Баэз (р. 1941) – американская певица и автор песен, исполняющая музыку преимущественно в стилях фолк и кантри, политическая активистка.
[Закрыть] В детстве Эльвира много времени проводила с дедом на берегу Сейдъявра, священного озера саамов, где слыхала и бубны предков, и зов тундры. Отсюда в ее песнях столько природных звуков: то кукушка кукует, то ветер в сухом тростнике потрескивает, то снег скрипит да метель завывает, и поверх всего – трепет бубна.
Чум кружится. Эльвира шаманит. Остаток вечера я провел словно во сне, в котором бубны будоражили кровь, а ноги сами пускались в пляс. Лица chynely ко мне, словно со стен пещеры, глаза глядели, точно со дна колодца. Мелькнул высохший от мороза Аскольд Бажанов,[53]53
Аскольд Алексеевич Бажанов (р. 1934) – саамский поэт и прозаик.
[Закрыть] первый саамский поэт. Словно шепнул:
Если тебе тяжело,
Останавливаешься в Пути,
Помни:
Ты хозяин тундры,
А не кривой хаты.
Что, уже банкет? На столах дымится оленина, сверкают рюмки с водкой. Напротив сидит Иван Матрехин,[54]54
Иван Матрехин – ловозерский самодеятельный поэт.
[Закрыть] только что представивший песни нового диска «Белый олень». Рядом Александр Степаненко, автор книги «Расстрелянная семья (исторические очерки о кольских саамах)».
Тосты. Танцы.
Вдруг кто-то подсаживается ко мне. Украдкой смотрю на руки. Они трясутся словно в лихорадке. Не попадают вилкой по куску мяса – промахиваются раз, другой. Наконец, пальцы бросают вилку и тянутся к тарелке, хватают, тащат в рот. Невольно провожаю их взглядом и краем глаза вижу покрасневшее от натуги саамское лицо. Женщина лет тридцати. Жует, опустив голову, уставившись в полную рюмку. Я отвожу глаза.
Уходя, я увидел ее снова. Женщина танцевала, опустив веки. Посреди зала, одна.
12 февраля
Название журнала – «Северные просторы» – говорит само за себя. «Просторы» по-польски – «przestworze», но в словаре Дорошевского это слово почему-то помечено как «книжное». Неужто современный польский язык настолько отвык от свободного пространства, что даже само слово убрали на полку?
В последнем номере я обнаружил интересные размышления историка Николая Плужникова о современном кочевничестве. Автор предполагает, что на Севере – когда государственная власть ослабит свои тиски и сюда придет рынок – местные жители вернутся к прежнему образу жизни, то есть снова выйдут на кочевые тропы. Ведь законы рынка, – по мнению Плужникова, – действуют только применительно к оседлым народам, для которых накопление материальных ценностей – вопрос комфорта и престижа. Тех, у кого дорога в крови, избыток вещей лишь обременяет. Ведь кочевники, – продолжает Плужников, – в зависимости от времени года оставляют в тундре те или иные предметы, в данный момент не нужные. Превыше всего кочевник ценит свободу перемещения.
Я проверяю гипотезу Николая Плужникова собственными наблюдениями. В свое время Советская власть начала процесс принудительного закрепления кочевников Кольского полуострова. Сперва их коллективизировали, а затем переселили в Ловозеро, ликвидировав старые саамские погосты. Одни, как, например, Вороний, затопили при строительстве гидроэлектростанции в 1966 году, другие отдали армии. Разрушен оказался не только традиционный образ жизни саамов, но и их духовный мир. Ведь кочевые тропы – подобно тропам песни – проходили через сакральные места: священные камни, озера, горы. Взамен кочевники получили подачки цивилизации и социальную мишуру: квартиры в блочных домах да ревущие «Бураны», школу, уничтожавшую их язык, больницу, в которой не лечили, да круглосуточные магазины с водкой. Подачка создает раба, – гласит эскимосская пословица, – а кнут – пса.
Возьмем, к примеру, квартиру. На первый взгляд, это означает горячую воду, газ и теплую уборную. Плужников пишет, что раньше кочевники, вынужденные по каким-то причинам жить оседло, время от времени переносили свой чум – хотя бы на пару метров – чтобы «освежить воздух». Они чувствовали, как мысли и эмоции, пережитые в одном месте, сгущаются и образуют осадок, который постепенно начинает оказывать психическое давление, вызывает раздражение и провоцирует семейные ссоры. Но ведь силикатный блок не перенесешь. Ничего удивительного, что саамы лезли в петлю.
Наибольшая волна самоубийств прокатилась по Ловозеру в 1960-е годы, когда сюда переселяли саамов из Чудзьявра, Варзина и Вороньего погоста. О тех временах жители Ловозера до сих пор говорят с ужасом.
– У себя в тундре саам из Варзина или из Вороньего был полноправным хозяином, а здесь оказался парией, последним из последних – даже для местной бедноты. Что им оставалось – алкоголь да петля. Старики-кочевники убивали себя сами и уходили в иной мир.
Читая Плужникова, я думаю, действительно ли зов дороги – в крови? Вернется ли новое поколение саамов в тундру или же, облапошенное потребительством, телевидением и горячей водой, отречется от свободы?
18 февраля
Мясоедение есть завороженность в действии.
Паскаль Киньяр
Киньяр пишет об атавистической завороженности глаза, который стремится поглотить все полюбившееся. Я уже давно наблюдаю эту кровавую любовь. В Ловозере идет зимний забой оленей.
Картина ничуть не напоминает традиционную love story. С утра до вечера – остервенелый лай собак, грызущихся за окровавленные кишки, повсюду полосы сукровицы на снегу, на санях – освежеванные туши. Однако больше всего меня поражают олени, безмолвно ожидающие заклания. В очереди за смертью они стоят так тихо, что порой почти сливаются с пейзажем.
Вчера в одном дворе видел я такую сцену: на снегу, напоминавшем кровавую кашу, мужчина свежевал оленя, рядом пес рвал белые потроха – то ли легкие, то ли мозг, а у забора стоял живой олень, молчаливо взирая на все это.
Интересно, – подумал я, – в обоих ли направлениях действует очарованность, о которой пишет Паскаль Киньяр? То есть, любят ли того, кого хотят съесть?
19 февраля
У меня из головы все не идет один из сюжетов нашего разговора с Сашей Кобелевым. С некоторых пор я спрашиваю себя – а существует ли на самом деле саамский язык?
В прошлом году, будучи в Петрозаводске, я навестил профессора Георгия Керта,[55]55
Георгий Мартынович Керт (1923–2009) – ученый, языковед, специалист по северной топонимии. С 1953 года работал в Институте языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, специализировался по диалектам саамов Кольского полуострова. Им был собран значительный текстовый и аудио материал по языку и фольклору саамов. Г. М. Керт занимался вопросами применения ЭВМ в исследовании топонимии.
[Закрыть] патриарха финно-угорской лингвистики. За рюмкой армянского коньяка, который мы закусывали черным хлебом с красной икрой, беседа велась о саамах, которым Керт посвятил большую часть жизни, и Дмитрии Бубрихе,[56]56
Дмитрий Владимирович Бубрих (1890–1949) – лингвист, один из создателей отечественного финно-угроведения.
[Закрыть] его наставнике. Именно Дмитрий Владимирович поставил когда-то под сомнение сам факт существования саамского языка, утверждая, что у саамов что ни река или долина, то новый диалект – чем дальше один от другого, тем меньше между ними общего; поэтому говорить можно лишь о саамских наречиях, а никак не о саамском языке.
Как утверждает Керт, раскрыв тайну языка саамов, мы получим ключ к разгадке их генезиса и одновременно к объяснению начала истории европейского Севера. Считается, что саамский язык относится к финно-угорской семье, но в его лексике исследователи обнаружили также слова индоевропейского и индоиранского происхождения, а этимология одной трети слов вообще непонятна. Это как раз лексика, связанная с природой, животным миром и частями человеческого тела, то есть, предположительно, наиболее древняя. Вот почему некоторые ученые считают саамский язык одним из праязыков мира.
Профессор Керт исследует речь кольских саамов уже много лет. Он принимал участие во многих лингвистических экспедициях, записывал отдельные диалекты (кильдинский, нотозерский, иоканьгский и бабинский), анализировал и сравнивал. И, наконец, на базе кильдинского диалекта (на котором говорят, в частности, ловозерские саамы) создал главный труд своей жизни – книгу «Саамский язык». Во введении Керт поясняет, что у саамов нет литературного языка, а следовательно (с точки зрения лингвистики), общенациональный саамский язык – фикция: реально можно говорить только о существовании наречий. Другими словами, Керт подтверждает теорию своего учителя.
Сегодня ученики Керта из Германии, Элизабет Шеллер и Михаэль Рисслер, предпринимают очередную попытку «возрождения языка саамов и передачи его молодому поколению». Начали они с того, что открыли в Ловозере «office» и привезли компьютер с принтером. И, разумеется, принялись изучать саамский язык.
23 февраля
Если принять точку зрения Бубриха и Керта, то мы не вправе говорить и о едином саамском народе. Подтверждение тому я не раз находил в работах по этнографии. В свое время Чарнолуский, а теперь московский профессор Т. В. Лукьянченко делят саамов на группы (горные, лесные, береговые и кольские) и подгруппы, подчеркивая, что каждая из них имеет четко выраженные этнографические отличия. Так что, возможно, мы имеем дело не столько с одним народом (племенем), сколько с первобытными родами, которые на протяжении тысячелетий жили обособленно на огромных территориях?
Чем дольше я об этом размышляю, тем отчетливее осознаю, что проблема заключается, по сути, в своеобразном анахронизме саамов. Они принадлежат другой эпохе, а мы примеряем их к сегодняшнему дню. Словно не узнали собственное отражение, увидав вдруг в зеркале себя самих – какими мы были в далеком прошлом.
Вот почему, разговаривая с Сашей Кобелевым, я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, восхищался его мудростью и целеустремленностью, с другой, раздумывал: есть ли смысл в сегодняшней Европе – глобальной, медленно и последовательно нивелируемой, на наших глазах смешивающей языки и крови, – вычленять новый народ.
26 февраля
Нигде я не видал такой лазури, как здесь. Вероятно, все дело в холодном свете. Солнце ведь стоит удивительно высоко (для конца февраля) и при этом – сильный мороз. Небо прозрачное! Сквозь него проглядывает пустота Космоса. Может, поэтому некоторые утверждают, будто Север ближе к тому свету?
27 февраля
Начав писать о саамах, я столкнулся с еще одной языковой проблемой – орфографической. Наша орфография не в состоянии передать саамскую речь. Все равно как если бы кто-нибудь захотел записать человеческим языком щебетание птиц в тундре.
Даже с алфавитом никак не разберутся – все еще не окончен спор, какую азбуку использовать? Одни ратуют за латиницу, другие – за кириллицу. В 1933 году появился первый букварь кольских саамов – на основе латиницы. Его автор, профессор Черняков, аргументировал выбор латинского алфавита неприязнью кочевников ко всему русскому. К сожалению, букварь не прижился, поскольку другим предметам здесь учили по-русски, и ученики едва справлялись с одной азбукой. В 1937 году Александр Эндюковский разработал букварь на базе кириллицы. Но опять ничего не вышло: Эндюковского и его коллег вскоре расстреляли, а букварь стал одним из главных доказательств «саамского заговора».
После этого проблема алфавита не подымалась на протяжении многих лет, и лишь в 1980-е годы вышел написанный кириллицей саамский букварь Александры Антоновой. Сейчас ей немного неловко – Александра Андреевна сама призналась мне, что в нем было слишком много пропаганды. Недавно вышло переработанное издание, более современное.
Я попросил Александру Андреевну дать мне несколько уроков саамского языка, чтобы прояснить некоторые вопросы, связанные с транскрипцией географических названий. Однако Антонова начала с того, что «саами» не склоняется – как «коми».
– Можно ли говорить о женщине «саамка»? – спросила она. – На слух получается почти «самка», а я, как ни крути, – человек.
Потом мы перешли к географии, здесь-то и начались проблемы. Оказывается, в саамской фонетике есть звуки, которые не передать ни латиницей, ни кириллицей. Например, 'h' в названии горы Куамдеспахк. Саамы используют три звука 'h' – палатальное, горловое и еще одно, настолько глубокое, что кажется, будто оно идет откуда-то от поясницы… На этом месте Антонова странно захрипела и пояснила:
– Так важенка хоркает,[57]57
Олени немы, поэтому их использовали во время Второй мировой войны на Севере, чтобы незаметно подобраться к врагу. Единственный звук, который они издают, – как раз хорканье во время родов.
[Закрыть] когда рожает.
Пример Антоновой подтвердил мое убеждение, что саамская речь родом из тундры и ближе к звукам природы, чем к человеческому языку. Любая попытка ее записать – латиницей ли, кириллицей (какие диакритические знаки ни используй) – обречена на неудачу: нам никогда не передать глубину выкрика рожающей важенки.
Что же касается споров об алфавите, они разгорелись с новой силой – быть может, под влиянием российских татар, которые собираются отказаться от кириллицы. Снова пошли разговоры, что кириллица – символ оккупации, что скандинавские саамы пишут латиницей, и сегодня – в эпоху Интернета – кольские саамы должны вернуться к своим европейским корням. Молодежь смеется – это, мол, вопрос времени, надо просто дождаться, пока вымрет старшее поколение.
2 марта
Да что там – здесь спорят не только об алфавите, но и о литературном языке. Не существующем! А вернее – не существовавшем до недавних пор! В 1990 году вышел сборник стихов Октябрины Вороновой под названием «Ялла». Первая книга на саамском языке! Казалось бы – вот оно, начало саамской письменности!
Но вместо радости – скандал. Потому что Октябрина Владимировна писала свои стихи по-иоканьгски, а не по-кильдински. Ассоциация кольских саамов (одна из местных политических организаций) пыталась воспрепятствовать публикации книги, обвиняя поэтессу в профанации саамского языка. Во властные структуры полетели письма, петиции, доносы. И хотя Воронову поддержал академик Дмитрий Сергеевич Лихачев, а также профессора Никита Толстой и Георгий Керт, не говоря уж о собратьях по перу, Октябрина Воронова от переживаний заболела и, не дождавшись выхода сборника, умерла. После смерти она была названа первой поэтессой кольских саамов.
Расскажу немного об Октябрине Вороновой. Она родилась в 1934 году в селении Чальмны-Варрэ[58]58
Чальмны-Варрэ – в переводе с саамского – «Глаза Леса». Это старое саамское стойбище. В 1972 году археолог Нина Гурина открыла там петроглифы IV тысячелетия до нашей эры… Мотив глаз, которыми смотрит на нас природа, часто встречается в поэзии Октябрины Вороновой.
[Закрыть] на берегу реки Поной. Мать поэтессы происходила из знаменитого рода саамских нойдов Матрехиных. Отец – русский. Дед – Михаил Распутин, последний священник ловозерской церкви – был расстрелян. Отец взял фамилию матери, а дочери дал революционное имя. В молодости он якобы принимал участие в штурме Зимнего дворца. Детство Октябрина провела с родителями в тундре. Мать была чум-работницей,[59]59
Чум-работница – женщина, которая кочует вместе с мужчинами, готовит им и убирает.
[Закрыть] а отец – руководителем красного чума.[60]60
Красный чум – своего рода клуб в чуме, где занимались политграмотой, то есть идеологической муштрой кочевников.
[Закрыть] Потом Воронова училась в ловозерской школе, жила в интернате. Дальше – Ленинградский институт народов Севера, работа в библиотеке в Ревде (сейчас там музей ее имени!), первые пробы пера. Поворотным в судьбе Октябрины Вороновой стал 1975 год, когда она познакомилась с поэтом Владимиром Смирновым. Смирнов стал переводить стихи Октябрины на русский. Злые языки говорят, что он сам их и писал – по-русски: кто бы оценил их по-иоканьгски? Но даже если в этом есть доля правды, сама идея мне нравится. Этакий постсаамизм, верно?
Сегодня мнения разделились. Одни называют Воронову матерью саамской поэзии и выдвигают заумные теории о неоматриархате в литературе. Другие же посмеиваются – мол, за бабьей поэзией прячется русский мужик.
8 марта
Живя среди саамов, я начинаю понимать слова Брюса Чатвина о том, что в эпоху бездушного материализма, воцарившегося в современной Европе, единственное право, за которое следует бороться, – наше право жить в бедности. Не права человека, свобода слова или свободный рынок, а именно это основополагающее право на пространство, где можно быть нищим и не стыдиться.
Я вспомнил об этом сегодня утром, зайдя в магазин. Оборванный саам, стоявший в очереди передо мной, покупал дешевые сигареты и хлеб, а потом попросил огромную кисть винограда – полтора кило, сто восемьдесят рублей (более шести долларов). Не может быть, подумал я, чтобы пастух был гурманом. И точно – виноград он презентовал прелестной продавщице, пожелав ей здоровья в Женский день. Многие ли состоятельные граждане способны на подобный жест?
9 марта
По эту сторону Полярного круга мир видится немного иначе, чем по ту. К примеру, вся эта шумиха вокруг птичьего гриппа кажется очередным реалити-шоу в стиле старого доброго Хичкока. С приходом весны птицы отправились на север, и теперь на телевидении самая горячая новость – грипп. Рейтинги растут. Репортажи с места событий, с зараженных территорий: штурмовые отряды в белых халатах, жертвенные костры (гекатомба кур и гусей), слезы крупным планом (рыдают мелкие производители птицы). Ни дать ни взять сообщения с линии фронта. Ну и политики, куда ж без них… Жириновский вот требует выставить на южных рубежах страны военные кордоны и перебить прилетных птиц – всех до единой!
Глядя на все это отсюда, я вспоминаю хороший и печальный фильм Перрена, Клюзо и Деба «Птицы». Сцены, в которых перелетные птицы гибнут в сернистых испарениях, в мазуте, под гусеницами комбайнов – в общем, от рук человека… Глядя на эти кадры пару лет назад, я подумал, что рано или поздно они нам отомстят. И вот время пришло.
Не хочу гадать, действительно ли вирус птичьего гриппа настолько угрожает человечеству, как пугают СМИ, или это в большей степени способ продвинуть на рынок новые лекарства, а может, новый метод борьбы с конкурентами по производству птицы. Как бы там ни было, одно можно сказать наверняка: люди все больше опасаются живой природы. Которую сами же и загадили! Сегодня это птицы, завтра – рыбы, комары или клещи… Достаточно СМИ кинуть клич – и глобальный homo sapiens в панике начнет защищаться от природы.








